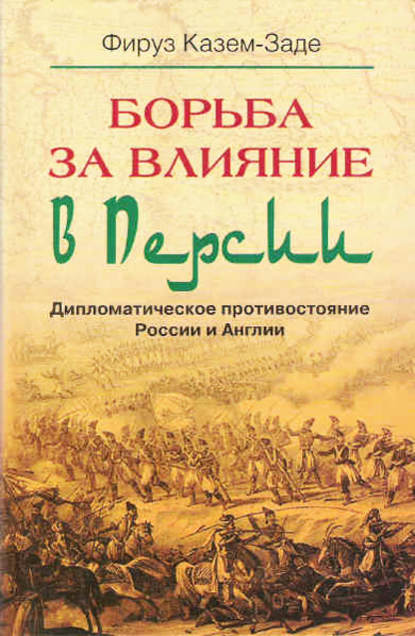- -
- 100%
- +
V
Хлопал крыльями на дворе петух, сотрясая гребнем, горланил, отгонял назойливых куриц. Чуть поскрипывала на петлях настежь распахнутая дверь, нагоняла со двора сквозняк и оттого трепыхались, точно испуганные, оконные занавески.
– А давай попробуем? Давай? Ну, совсем чуток. Немножко. Ежели больно будет, так я тебя до кровати донесу, ты теперь легонький, точно перышко. Ну Степка, ну пожалуйста…
Варька, что сидела на коленях у кровати, разминая больную Степкину ногу, подняла глаза, посмотрела с мольбой на брата.
– Не хочу, – Степка нахмурился и отвернулся от сестры.
– Не хочешь? Нет, Степка. Ты трусишь. Ты боишься, что тебе опять больно будет, – Варька оставила в покое Степкину ногу, встала с пола, села на кровать. Помолчав немного и собравшись духом, Варька склонилась над Степкиным лицом и, глядя Степке в глаза очень по-взрослому, горячо и твердо заговорила. – Ну и лежи тут целыми днями, от тебя скоро одни кости останутся. Ну и подохни тут в кровати, ежели ты такой трус. Думала я, что брат у меня смелый и сильный. А он размазня! Смотреть на тебя, Степка, больше не желаю! Не подойду к тебе больше и ногу твою лечить не буду! Подыхай тут, дурак трусливый! А я пошла на улицу, с мальчишками побегаю!
Варька зло сверкнула глазами на Степку, сжала кулаки и, вскочив с кровати, кинулась к двери.
– Погоди! – Степка, что все это время слушал сестру, с бледным застывшим лицом, вспыхнул вдруг румянцем, приподнялся с подушки. – Давай. Согласен я.
– Согласен он… – Варька, все такая же злая, подошла к брату, пронзила его колючим взглядом, откинула одним махом одеяло, жестко скомандовала. – Руки протяни! И, давай, как в прошлый раз… Сперва сядь. Вот так, а теперь за плечи мои крепко держись и тихонечко на ноги становись…
Степка Морозов сел на кровати, обнял сестру за плечи, которые она тут же ему подставила, после чего, тяжело дыша от напряжения, поднялся на ноги.
– Вот так. А теперь дай мне руки и шагай вперед, – Варька встала перед Степкой, взяла его за руки и снова жестко скомандовала. – Шагай на меня! Ну!
Степка опустил глаза, выставился на свои ноги и замер. Сердце бешено застучало в Степкиной груди.
– Шагай! – Варька закричала так, что у Степки в ушах зазвенело.
Подняв глаза, Степка столкнулся с жестким горячим Варькиным взглядом, сделал шаг здоровой ногой, затем, крепко стиснув зубы, передвинул вперед больную ногу.
– Еще шагай! – Варька не унималась. – Ну же! Шагай!
Степка сделал еще два шага, застонал, лоб его при этом покрылся липкой холодной испариной. Всосав носом раскаленный от напряжения воздух, Степка снова шагнул вперед, пошатнулся, и тут же, точно подкошенный, рухнул вместе с Варькой на пол.
Варька закусила задрожавшие губы, села на полу, обняла брата. Вскинув голову, чтобы ни дай Бог не увидал Степка испуганного ее лица, ее мокрых, полных отчаяния глаз, глотая при этом побежавшие из них слезы, Варька зашептала, заклиная всей душой каждое свое слово.
– Ничего, Степка. Ты все равно пойдешь… Ты будешь ходить… Ты у меня сильный… ты сможешь… ты будешь…
VI
Комната, отведенная в сельсовете Старой Шайтанки для общественных собраний была забита нынче до отказа. Мужики и бабы, старики и старухи, молодежь и даже несколько детей, которых кто-то, шибко ответственный притащил с собой, сидели в несколько рядов на деревянных лавках. Председатель шайтанского колхоза, сухощавый широкоплечий мужик Григорий Ильич Грушин стоял подле покрытого красной скатертью стола и воодушевленно ораторствовал, подкрепляя собственную речь, в особо важных ее моментах, широким, размашистым жестом трудовой руки.
– … с этой целью на последнем пленуме Центрального Комитета коммунистического партии было принято решение проводить политзанятия с целью повышения политической грамотности колхозников. Ведь что это за колхозник, который не знает, что такое индустриализация? Колхозник, который трудится на созидание крепкого социалистического общества, не может быть политически безграмотным. Индустриализация задумана нашим вождем, товарищем Иосифом Виссарионовичем Сталиным для усиления промышленного потенциала СССР. Для превращения нашей страны из аграрной в страну ведущую индустриальную. Индустриализация…
– Етить… Ты прости меня, Григорий Ильич, но чой-то я ни хрена тебя не понимаю. Говоришь красиво, аж заслушался тебя, но в толк взять ни единого твоего слова не могу.
Коренастый дед с мочалистой бороденкой, со сморщенным багряным лицом и колючими хитроватыми глазами, он же Лукьян Потапович Петухов, Дарьи Морозовой родитель покачал головой и крякнул в жилистый кулак.
– Батя…
Дарья, сидевшая позади отца вместе с мужем Макаром, глянула на отцовскую спину с глубоким осуждением.
– А чё батя? Чё тебе твой батя? – дед обернулся, пронзил дочь колючим взглядом. – Сама, поди-ка, ни хрена не понимаешь, только вид понимательный делаешь. Я вот енто слово, которое ты, Григорий Ильич, тут нам все талдычишь, не то что в разум свой взять никак не могу, я енто слово вовек не выговорю. Ну-ка, – дед снова обернулся к дочери, – ну-ка, шибко грамотная и языкатая, назови-ка енто самое мудреное словечко, про которое председатель нам тут талдычит!
– Индус… – Дарья запнулась.
– Вот и будет тебе индус да хранцуз, – дед закряхтел, вроде как засмеялся.
Все присутствующие на собрании тут оживились, загалдели.
– Дед Лукьян, а ну, кончай, дисциплину разлагать, – Макар Морозов нахмурился.
– Продолжай ты, Григорий Ильич! – толстая щекастая тетка махнула рукой председателю, точно дирижер музыканту.
– Нет, не порядок это. Прежде чем продолжать, Матрена Николаевна, изъяснить человеку надо, ежели он чего не понял, – председатель взял со стола стакан, налил из графина воду, отхлебнул глоток, после чего посмотрел на деда Лукьяна. – Вот ты, Лукьян Потапыч, работу тяжкую всю жизнь руками своими трудовыми делал, так?
– Так оно. Вон, мозоли дубовые понамозолил, – дед Лукьян вытянул вперед руки.
– А теперь в работе каждому колхознику машина будет помогать. Ты вот всю жизнь плугом пахал, а теперь трактора для этой цели будут. Ты вот как, Лукьян Потапович, считаешь, сильнее ты машины али нет?
– Да ну, какая во мне нынче сила? Ангелы по мою душу, поди, с небес ужо летять, – дед Лукьян потеребил бороденку.
– Сильнее тебя машина и сильнее Макара твоего, и сильнее всех мужиков нашего колхоза вместе взятых, – Грушин поставил стакан на стол. – Так вот, благодаря машинам этим мы увеличим темпы и посева, и уборки урожая, а это, Лукьян Потапыч, и есть индустриализация.
В этот самый момент дверь распахнулась и в дверном проеме появилась запыхавшаяся бабка Дуня.
– Ишь, заявилась, – дед Лукьян стрельнул на жену колючим глазом. – Ты вот, Евдокия, на собрания не ходишь, а председатель нам тут про машины разъясняет.
– Да какие-такие машины тебе нынче, дурень старый, – бабка Дуня шумно выдохнула и выпалила, схватившись за грудь. – Степка наш ногами пошел! Варька его по улице сейчас водила! Дашка, Макар, быстрей домой бежите!
VII
Ветер будто подгонял его в спину: «Иди, Степка! Молодец! Вперед!». Каждый шаг доставлял ему такую чудовищную боль, что от боли глаза его налились кровью, а слезы, застрявшие комом в горле, обжигали, точно кислотой. И невозможно было дышать от этой жуткой боли. Но Степка шел вперед. Шел, сильно хромая, больная нога запаздывала, противилась каждому движению. И нужно было молча давиться этой нестерпимой болью, потому как рядом шагала Варька и то, что он все-таки пошел, была исключительно ее заслуга. Все происходящее вокруг виделось мутно: бабы, причитающие подле домов, вышагивающие навстречу мужики, таращащие при этом глаза, машущие руками, мальчишки, бегущие позади, обгоняющие их с Варькой и что-то орущие. Звуки тоже доносились откуда-то издалека. Слышал Степка только Варькин взволнованный, спотыкающийся голос.
– Степка… ну вот так… я же говорила… я же знала… смог… смог… ты сильный… ты самый сильный… ты самый смелый… Степка, ты смог… Степка…
Степка уже совсем ничего не соображал от боли, когда по дороге навстречу им с Варькой побежали отец и мать. Мать кричала, захлебывалась от счастья слезами, хваталась обеими руками за сердце, точно боялась, что оно выпрыгнет из груди. И отец, какой-то совершенно ошалевший, глядящий на Степку, точно на спустившегося с небес апостола.
Подбежав к едва стоявшему на ногах сыну, Макар схватил его на руки, крепко прижал к груди, захрипел, точно сорвал голос.
– Мужик. Мой мужик, Морозовский. Все, Степка, теперь тебя ничем не перешибешь. Теперь в тебе нутро железное.
После этого Макар, точно от сна очнувшись, отпихнул завывающую рядом жену, хмуро оглядел собравшийся вокруг народ и рыкнул зло да раскатисто.
– Ну?! Чего зенки повылупляли? Концерт вам тут какой или представление?!
Народ тут же разом дружно затих, точно всех одним пыльным мешком шарахнули и, потупив взор, стал расходиться.
Все так же держа ослабшего сына на руках, Макар стремительно зашагал по дороге, не глядя при этом ни на жену, что едва поспевая, бежала рядом, ни на дочь, что бежала, не спуская с отца и брата взволнованных глаз.
VIII
Уральский город.
Если бы Алеша Морозов только знал, сколь таинственна, глубока, милосердна и сколь увлекательна будет выбранная им профессия. Именно увлекательной она казалась Алеше, потому как с необычайным увлечением и страстью получал Алеша новые знания. Даже сейчас, сидя среди студентов на холодной дубовой лавке, что чашей окружала высокий стол, на котором лежал, о Боже… голый человеческий труп… ну, так вот, даже сейчас горели не испугом и не брезгливостью, а страстным увлечением Алешины глаза. Подле человеческого трупа стоял профессор Бельский, крайне образованный и с виду остренький: и бородкой, и плечами, и локтями, и костяшками длинных пальцев, и даже взглядом. В белом, правда, несколько подмятом халате и такой же белой, чуть помятой шапочке, натянутой до самых дужек круглых стареньких очков.
– …желудок человека представляет собой резервуар из мышечной ткани… резервуар, ежели кто из вас не знает, есть такой сосуд. В таком вот резервуаре, то есть человеческом желудке и происходит расщепление съеденной вами пищи и усвоение выпитой вами воды. Происходят сии процессы с помощью выделяемых ферментов и других активных веществ. Фермент – слово, произошедшее от латинского ферментум, что переводится на русский язык, как закваска. Ферменты, есть белковые молекулы, о которых вы узнаете из другой лекции, но не моей, а профессора Прянишникова. Теперь же перейдем с вами к осмотру человеческого тела и к его вскрытию с целью выяснения местонахождения желудка и наблюдения этого самого органа собственными глазами.
Профессор Бельский оглядел зал, взгляд его уткнулся в тучную хмурую девушку, более напоминавшую не девушку, а откормленного парня-барчука.
– Вот вы… извольте напомнить мне вашу фамилию? – профессор обратился к девушке.
– Алабина, – девушка еще более нахмурилась.
– Студентка Алабина, готовы ли вы подойти ко мне и осмотреть человеческое тело? – Бельский поправил очки.
– А почему бы и не готова, – девушка пожала плечами, встала, широкой поступью зашагала к столу.
– Покажите мне, в какой части человеческого тела находится орган под названием желудок, – профессор вручил девушке указку.
– Вот тут он находится, – девушка очертила на теле область, в которой находился желудок.
– Похвально. А теперь возьмите скальпель и сделайте разрез, как я вас обучал, – Бельский протянул Алабиной скальпель.
Алабина, точно убийца в подворотне вонзила в труп скальпель и тут же грохнулась на пол. Профессор кинулся к Алабиной, тут же к ним подбежали трое студентов, подняли Алабину с пола, потащили ее в коридор.
– Лучше бы кого менее тучного вызвали, Андрей Лаврентьевич! А то тащи теперь такую тушу…
Это возмутился один из троицы студентов-спасателей.
– В медицинский кабинет ее доставьте, – профессор проводил студентов печальным взглядом, вздохнул. – И так будет еще долгое время, пока вы не привыкнете к телу человека, как привыкли к собственному отраженью в зеркале. Кто готов сделать разрез и извлечь из тела желудок?
– Разрешите, я? – Алеша вскочил на ноги.
– Опять вы, студент Морозов? – профессор поморгал глазами. – Ваше рвение меня, разумеется, искренне радует, но опасаюсь я, что к концу обучения вы будете единственный, кто освоит медицину «от» и «до». Ну, что с вами, Морозов, поделаешь, так и быть, ступайте уже сюда и берите в руки инструмент.
IX
Ближе к полудню от ворот приземистого дома, в котором находилась шайтанская образовательная школа отъехала, громыхая оглоблей да колесами, груженая телега. В телеге той сидели двое. Одни из них был кучером – сухоньким дедом в старом картузе, по-молодецки сдвинутом на правый бок, второй – школьным учителем, нам уже знакомым, Колокольцевым Иваном Андреевичем. Колокольцев помахал кому-то рукой, закинул ногу на ногу и положил на колени раскрытую книгу, в которую тут же уткнул нос. Телега миновала единственную улицу Старой Шайтанки, свернула к полю и затряслась по рытвинам, разгоняя дорожную пыль. Осталась позади река, разрушенная революцией церквушка, замелькал пролесок. В это самое время кучер мотнул головой, дернул на себя вожжи и заорал, плюясь слюной от возмущения.
– Подь, гагара! Ну! Подь с дороги! Али оглохла?! Тить, говорю, с дороги!
Иван Андреевич отложил книгу, развернулся.
По пыльной дороге гордо вышагивала Алёнка Морозова. Шагала она прямо по центру дороги, ничуть не собираясь уступать ее кучеру и телеге.
– Тить! Не то огрею тебя, аки кобылицу! – дед замахнулся хлыстом, ударил Алёнку по спине.
– Ты чё, дед Прокоп, умом поехал?!
Алёнка, подпрыгнув, взвизгнула, потерла запылавшее враз плечо, отступила в сторону.
– То-то же! А как тебя иначе убрать, коли языка не понимаешь?
Телега, громыхая колесами, проехала мимо Алёнки, которая, потирая плечо, тут же уставилась на Колокольцева.
– Драсьте, Иван Андреич!
– Здравствуй, Алёна, – Колокольцев кивнул Алёнке. – Ты чего в школу не ходишь?
– А надоела мне до чертиков ваша школа, – Алёнка поправила волосы. – Вы бы лучше заместо того, чтобы вопросы задавать, подвезли меня.
– Садись, конечно.
Колокольцев подвинулся, Алёнка ловко запрыгнула в повозку.
– И куда путь держишь? – Колокольцев закрыл книгу, положил ее на старый саквояж.
– Во Фряново, – Алёнка повернулась к Колокольцеву. – Мать меня к знахарке за травой для Степки и бабы Дуни отправила. Вы ведь в город направляетесь?
– В город, – Колокольцев кивнул.
– Вот когда обратно из города поедете, заберете меня со Фряново, – Алёнка оглядела телегу, взгляд ее уткнулся в книгу. – Про Дубровского читаете? Не понравился мне этот Дубровский нисколечко. Я немножко почитала про него и бросила.
– Выводы о книге можно делать только после ее прочтения, – Колокольцев мягко улыбнулся, поправил очки.
– Дом-то он Троекурову отдал, нет? – Алёнка потеребила косу.
– Нет, поджег он дом, – Колокольцев закинул голову, посмотрел на синее-синее небо. – Вместе с чиновниками его поджег и после этого…
– Прям с людьми его поджег? – Алёнка округлила глаза, отбросила косу за спину.
– С людьми. Только это не по его вине случилось, – Колокольцев опустил голову, посмотрел на Алёнку. – Ты лучше сама книгу прочитай. И в школу обязательно ходи. Тебе в жизни знания всегда пригодятся.
– Прочитаю, – Алёнка кивнула. – Раз там дальше интересно… Вот ведь какой этот Дубровский, дом поджег…
X
В то самое время, когда телега, громыхая колесами, подъезжала к деревне Фряново, на лесной поляне подле Старой Шайтанки по обычаю галдела деревенская ребятня. Мальчишки бегали, девчонки качались на качелях. Варька Морозова сидела на траве с подружками, в руках у нее была тряпичная кукла.
– Куколку эту Василиска зовут, мне ее сестра Алёнка смастерила, – Варька покрутила куклой, погладила ее, прижала к груди. – Загадывай ты теперь, Зинка.
– Петух снес яйцо, кому оно достанется? – Зинка, конопатая девчонка, Варькина закадычная подружка, потеребила опаленный солнцем вздернутый нос.
– Ха! Да никому! Не может петух яйца нести! – Варька засмеялась. – Каждый день умывается, а полотенцем не вытирается! Кто это такой будет?
– Кошка это!
Чуть поодаль от Варьки и девчонок лежало на траве поваленное дерево, на котором сидел Варькин брат Степка. Нахмурив от усердия брови и закусив кончик языка, Степка строгал ножиком палку. Мимо Степки промчались, заливаясь смехом, мальчишки, за которыми бежал, пытаясь их «засалить» шустрый паренек с оттопыренными ушами и нагловатыми юркими глазами. Ни с того ни с сего паренек вдруг подбежал к Степке, толкнул его в грудь и завопил, громко при этом хохоча.
– Ты тепереча салишь! Саль, хромоногий! Трусишь?!
Степка разом поднялся на ноги, сжал в руке ножик. Черные, точно две переспелые вишни, глаза его бешено загорелись.
– Степка! – Варька выронила из рук куклу, вскочила с травы, кинулась к брату. – Витька, дурак! Дурак! Не слушай ты его, Степка!
– Хромоногий Степка, хроменькие ножки, захромал-запрыгал Степка по дорожке! – паренек по имени Витька снова подбежал к Степке, хлопнул его по плечу и тут же шустро отбежал.
В следующую секунду Степка, отпихнул вцепившуюся в него Варьку и сорвался с места. Бежал Степка, прихрамывая на правую ногу, кусая от дикой боли разом побелевшие губы.
– Степка-а! Степка, нельзя тебе-е! – Варька закричала, рванула за Степкой.
Мальчишки тем временем, глядя на Степку, застыли. Витька хмыкнул, скривил в усмешке рот. В следующую секунду прямо в этот самый рот угодил Степкин кулак, а острый Степкин ножик чиркнул Витькину щеку.
– Подохни, гад! – Степка схватил заоравшего от боли Витьку за грудки.
Мальчишки, очухавшись от шока, рванули к Степке, схватили его, потащили прочь от Витьки. Девчонки заверещали. Варька бросилась к брату, крепко его обняла, прижала к груди. Степку трясло, точно молнией ударило. Из глаз его рвались на волю слезы, больно было нестерпимо. Но Степка Морозов скорей бы умер, чем заплакал бы прилюдно. Что же касается Степкиного обидчика Витьки, выглядел он жуть как устрашающе, оттого как из щеки его ручьем хлестала кровь.
XI
Уральский город.
Трехэтажный дом, в котором проживал художник-портретист Яков Дмитриевич Дубасов и в котором с некоторых пор квартировал старший сын Морозовых, Алеша, находился в крайне живописной части города, расположенной на берегу реки. Дом утопал в зелени, на деревьях, окружавших дом, пели птицы, и все вышеизложенное вполне вдохновляло Якова Дмитриевича на создание вполне недурных портретов.
Войдя во двор дома, Алеша поздоровался с дворником, собирающим с травы опавшую листву, и быстро вошел в подъезд. Стремительно миновав три лестничных пролета, а квартира Дубасова находилась на последнем этаже, занимая его целиком, Алеша позвонил в колокольчик. Дверь открыла пожилая женщина в шелковой блузке, подколотой у кружевного воротника янтарной брошью.
– Добрый день, Анна Николаевна.
– Здравствуй, Алеша, – женщина приветливо кивнула и исчезла в темноте длинного коридора. Непонятно откуда донесся ее голос. – Яков Дмитриевич тебя видеть хотел. Не знаю причину, но спрашивал о тебе и интересовался, когда ты придешь.
– Да-да, – Алеша кивнул. – Я сейчас к нему зайду, вот только книжки положу.
Миновав длинный темный коридор, Алеша открыл дверь комнаты, в которой проживал.
Комната была вполне уютная. С дубовой книжной этажеркой, с пухлым парчовым диваном и письменным столом, на котором лежали груды книг, бумаг и прочих письменных принадлежностей. У одной из стен стояло пианино, совсем Алеше не нужное, но и ничуть ему не мешавшее. Вдобавок ко всему прочему на стенах комнаты висели всевозможные картины, начиная от натюрмортов, заканчивая пейзажами, что тоже Алеше было ни к чему, но и досады у него не вызывало. Алеша положил на стол книги, заглянул в одну из них, полистал ее, но, вспомнив о Дубасове, быстро вышел из комнаты.
Огромная светлая мастерская, в которой занимался художеством хозяин квартиры, была уже вполне изучена Алешей. Сотни картин, стоявший у стены сундук, в котором хранились масляные краски, большая деревянная палитра, несколько штук мольбертов, – все это Алеша видел уже не раз. И нечему ему было тут удивляться, ничто не могло вызвать у него шок, только войдя в мастерскую, Алеша едва не лишился чувств.
Посреди мастерской подле высокого мольберта стоял облаченный в бархатный стеганый халат, Яков Дмитриевич Дубасов. Перед Дубасовым находился невысокий постамент, покрытый черной тканью, на котором сидела, подобрав под себя ноги, та самая девушка с яблоками, которую месяцем ранее едва не сшиб Алеша. Только на этот раз она была без яблок, а если совсем точно, была она вообще без ничего. Без одежды. Голышом. Каштановые ее волосы были распущены, глаза прикрыты. Алеша, не дыша и мало чего соображая, таращился на девушку, точно на кентервильское привидение. А еще он нестерпимо ощущал знакомый запах фиалок.
– Проходи, Алеша. Ну, быстрей закрывай дверь, не то мне сквозняком спину надует, – Дубасов, не оборачиваясь, подправил набросок изящным движением руки.
Алеша на ватных ногах подошел к Дубасову, глаза его при этом смотрели исключительно в пол.
– Ну как? – Дубасов ткнул пальцем в художество, перевел взгляд на Алешу и тут же разразился раскатистым смехом. – Да ты никак обнаженную женскую натуру первый раз в жизни видишь?! Лиля! Он же сейчас умрет! Прикройтесь, не то я за его кончину перед Бабахиным вовек не отчитаюсь!
Девушка открыла глаза и тут же, вытаращив их от ужаса, вскрикнула, прикрывая руками голую грудь. Спрыгнув с постамента, девушка схватила одежду, кинулась за расписную китайскую ширму. Через минуту хлопнула дверь мастерской и в коридоре зазвучали спешные шаги.
– Вот, дуреха! – Дубасов продолжал хохотать. – Ты чем ее так напугал? Убежала, даже не попрощалась и денег не взяла! Ну, да ладно, я чего тебя видеть хотел. Пойдем-ка…
Дубасов быстро зашагал по комнате, вышел в коридор.
Войдя в небольшую комнату, наполовину скрытую от света тяжелыми портьерами, Дубасов подошел к массивному креслу, на котором лежала какая-то одежда.
– На бродягу ты похож, Алексей, а не на студента. Надумаю портрет какого оборванца писать, тебя непременно приглашу. А по улицам тебе вот так ходить, не разрешаю, – Дубасов взял с кресла одежду, протянул ее Алеше. – Держи, Алешка, тут тебе мой почти не ношенный костюм, несколько моих рубашек… пальто, в которое я уже не умещаюсь, да к тому ж оно из моды вышло. Так что – носи!
XII
Громыхая по пыльной дороге колесами, телега, в которой помимо кучера, школьного учителя и Алёнки Морозовой было теперь битком книг, карт и даже был большой картонный глобус, миновала сельсовет, небольшой деревенский магазин и остановилась подле дома, в котором проживали дед и бабка Петуховы.
– Спасибо, Иван Андреич! Про Дубровского нынче вечером прочитаю и в школу завтра приду! – Алёнка спрыгнула с телеги и, прижимая к груди несколько свертков, направилась к воротам дома Петуховых.
Хозяин и хозяйка дома были в этот час во дворе. Дед Лукьян начищал пузатый самовар, бабка Дуня штопала дедову рубаху.
– Вот на кой глаза мои не видять то, чё видеть более всего требуется? Иголку с ниткой не видять, букв в книжке не видять, – бабка Дуня печально вздохнула, потерла влажные глаза, глянула на деда. – Лучше бы тебя заместо иголки с ниткой не видать.
– А тебе за всю жизнь на меня глядеть желаний не было, – дед Лукьян плюнул на тряпку, потер ею пузо самовара. – Заместо иголки с ниткой мужа она видеть не желает. Курица ты, Евдокия, а не баба.
– Дурень ты, Лукьян, – бабка Дуня покачала головой. – Мне пошто иголка с ниткою сдалась? Я кому рубаху штопаю? Гришке соседу?!
– Драсьте…
Во двор вошла Алёнка. Подошла к бабке, молча сунула ей сверток, плюхнулась рядом с бабкой на лавку.
– У знахарки была? – бабка Дуня развернула сверток, понюхала траву.
– Не, у директора театра, – Алёнка сдула со лба прядь волос.
– У кого-о??? – бабка Дуня развернулась всем корпусом к Алёнке, уставила на нее маленькие круглые глаза.
– У кого – у кого! Баб Дунь, у кого еще, ежели травы тебе привезла?! – Алёнка недовольно поморщилась.
– Етить твою! От оно, заявилось дитятко, – дед Лукьян поднял голову, пронзил Алёнку колючим взглядом. – Не смей на бабку орать, беспутная.
– Умолкни, старый, – бабка махнула на деда рукой. – Приглашали мы тебя с твоими воспитаниями!
– Погляди-ка, я за нее ешо вступился, а она на меня с недовольствами, – дед Лукьян сплюнул под ноги, хлопнул тряпкой по лавке.
– Да ну на вас. Вечно вы, будто кошка с собакой, – Алёнка взяла у бабки рубаху, принялась ее штопать. – Хоть бы на закате дней своих душа в душу пожили.