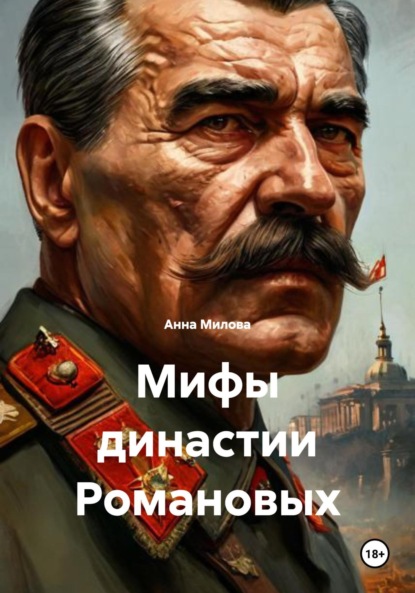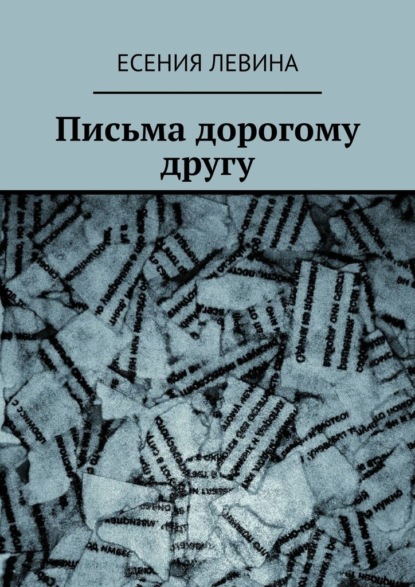- -
- 100%
- +

Часть I
"Как сеявший ветер пожал бурю этот последний царь…"
Л. Г. Жданов.
Глава I
Автомобиль пересёк Невский проспект, по лёгкому ноябрьскому снегу прочертил Дворцовую площадь. Она слушала теперь не "Боже, царя храни!…", а "Мы жертвою пали в борьбе роковой…", красными знамёнами празднуя годовщину революции. "Свобода, равенство, братство", "Отречёмся от старого мира" пестрело вокруг – увешанный плакатами Зимний дворец, прежний оплот деспотов, отмечал рождение новой эпохи.
За площадью остановились у мрачного, серого здания. Один в пальто и в шапке, другой в кожанке и в кепке, нахмуренные поднялись по широкой мраморной лестнице во второй этаж и пошли по анфиладе парадных залов. Там никого не было видно, лишь пылилась в белых чехлах старая мебель, и чернели в стенах провалы каминов. Эхом отскакивали их шаги от мраморных стен дворца – все ковры давно уже сняли и под ногами скрипел дубовый паркет. Звонко тикали часы, с люстр печально свисали пыльные хрустальные листья. Всё начало обрастать забвением.
– И как они жили в эдаком каменном мешке? До костей пронизывает холод, – поежился солидный человек в пальто с собольим воротником. – А когда его жена уехала, Степан? – спросил он крепкого парня в чёрной куртке.
– Не уехала, а удрала, – со смехом поправил тот руководителя, – с начала жили в одной зале, печурку там топили, сидели тихо, как мыши, а всё ж успели сбежать от расправы народной. А князь-то, что здесь жил, вроде ещё и стишки писал?
– Не вроде, а издавал стихи – салонную, буржуазную поэзию. И ты, Степан, в НАРКОМПРОСе* служишь и должен приобщаться к…
– Приобщаться?! – резко перебил тот, – отсюда всё старьё это велено убрать, да и позолоту, всё это золото на стенах забелить.
– Кем это велено? – удивился Пётр Анатольевич, – ты подожди командовать, новый хозяин! Там – он указал пальцем куда-то в сторону, ещё ничего не решили. Дворец достояние народа.
– Какое там к чертям достояние… – махнул рукой Степан. – У нас своя культура будет. Что он в жизни и в поэзии-то вашей понимал? В деревнях, поди, не голодал, на каторгах не горбатился. Думали, что они вечные. Воры, буржуи, ух! Степа сорвал с головы свою кепку и швырнул её на изящный, позолоченный диванчик так, что он будто съёжился и вскрикнул в ответ на его грубость.
– Все ценности и картины уже вывозят? – интересовался Пётр. – Мы спросим у наших товарищей, и примем лучшее решение.
– Пётр Анатольевич, а может, здесь приют для детей устроить, – предложил ему Степан.
– Подумаем, посмотрим…, – размышляя о чём-то своём, он подошёл к окну, и стал глядеть сквозь серое от пыли стекло на закрытую льдом Неву. Степан наблюдал за ним смирным взглядом, но на дне его глаз уже читалось – "А ты, интеллигентик, контра!"
По винтовой лестнице они спустились в первый этаж в личные покои бывших хозяев. Неспеша прошлись по комнатам – увидели уютную гостиную, на полу высокие пальмы в кадках, гору вышитых подушечек на диване, пёструю скатерть на столе под зелёным абажуром в столовой.
– Какое мещанство! – Пётр Анатольевич тронул засохшие розы в вазе стиля барокко – м-да, цветочки, вазочки…
В кабинете бывшего хозяина они прошли к письменному столу. Рядом с ним стоял распахнутый сейф, а в нём лежала на полке лишь одна толстая тетрадь в кожанном переплёте. Замочек на ней был сломан и бездействовал. Пётр вынул её из сейфа и небрежно покрутил в руках:
– И бумаги его остались? Превосходно.
Он полистал исписанные мелким почерком страницы, и, остановив рукой одну, вчитался. Брови его чуть удивлённо дёрнулись к вискам, он покачал головой и хмыкнул. Степан, теребя кепку, поглядывал на него уже с нетерпением.
– Вот что, Стёпа, – наконец оторвался от тетради Пётр, – пожалуй, мрамор для детей вреден. Он аккуратно уложил тетрадь во внутренний карман своего пальто, и опять задумался, будто решая сказать или пока не говорить ему что-то важное.
* НАРКОМПРОС – с июля 1918 года Народный комиссариат просвещения РСФСР.
Глава II
Вдвоём брели они по тихой аллее Гатчинского парка. Он любил этот городок, где прошло его детство и юность.
Когда-то здесь никем не любимый, никем не понятый и невезучий император Павел I построил на прусский манер своё хрупкое военное царство. Царь вырос в атмосфере интриг и всеобщей нелюбви, не ощущая ни в ком и ни в чём опоры, так, будто он жил на вершине песочного замка. Тяжело ему было знать равнодушие и холод матери, презрение и колкости её надменных фаворитов. И никого не было рядом, кроме преданной жены и двух его самых верных друзей.
Один из них добрый друг его и соратник, честнейший министр финансов граф Алексей Иванович Васильев всегда был рядом с ним, выслушивал, советовал. А потом снаушничали завистники и злыдни, оговорили графа, и Павел Петрович в гневе удалил его от двора – с годами он стал страшно недоверчив. Оставил бы верного человека, может, и спас бы себе жизнь, кто знает…
Ах, какие он строил планы, как был наивен в своих стремлениях к добру! Задумал освободить несчастных крепостных крестьян, и не в пику своей матери, а потому что с детства не мог выносить боль и злобу. Созданная Екатериной II империя казалась ему воплощением варварства и насилия над людьми.
Он любил своего предка и жалел его, с детства расспрашивал о нём учителей, берёг те немногие реликвии, что от него остались. С сестрой Ольгой они любили блуждать по огромному, страшному подвалу Приоратского замка и громко там кричать – ходили легенды, что там бродит привидение императора, и тому, кто ему понравится Павел всегда отвечает эхом. Эхо это он слышал, и не раз.
А сейчас он идёт рядом с матерью не как повелитель великой империи, а как смущённый мальчишка гимназист. Он всегда любил мать, и всю жизнь ощущал её холод: при одном только взгляде на него из её тёмных глаз будто сыплются ледяные иголки. Но в большом свете она всегда неизменно мила, так очаровательна и всюду появляется подтянутой и нарядно одетой, на высоких каблуках, с пышной причёской, и в лёгкой дымке горьковато-сладких духов.
С детства его поражало это различие – в своих комнатах maman* обычно ходит с мрачным лицом и в простом платье, и громко бранит детей за любую шалость, когда как papan* всегда такой добрый со всеми детьми – родными и чужими. Они хохотали, прыгали, висли на нём, забирались на спину этому "русскому медведю", от чьего слова порой зависел весь мир.
– Дети, быстро слезайте с русского царя! – кричал их датский дядюшка.
– Ничего, дела Европы подождут, пока русский царь играет с детьми, – смеялся отец.
В детстве всё казалось ему светлым и радостным, вот только слёз maman он почему-то боялся и сам не знал почему – тогда и у него внутри всё начинало ныть и дрожать.
Тогда он убегал из дворца сюда, в парк.
И всё же он счастливчик, хотя порой и ощущает хрупкость жизни, словно это не его, а чья-то другая жизнь, и не его, а чужая ему семья.
Если со страшим братом Геогрием (Жоржиком) он дружил и любил его шутки ( мальчик с раннего детства шалил и дурачился, передразнивая самих министров отца, фрейлин maman и прислугу), то младший братец Миша порой докучал: этот худенький, как тростинка, беленький мальчик был любимцем papan. Послушный и старательный в учении, он являлся примером для всех детей, поэтому раздражало в Мише всё, даже его манера говорить по-английски "зис" вместо мягкого "вис" – "это", как учил их англичанин-гувернёр. А он всё равно говорил по-английски лучше, чем брат.
Мария Фёдоровна продолжала отчитывать сына: опять он не так ответил тому министру, надо было сказать по-другому. Вот и костюм у него будто мятый – кто там следит за его гардеробом? Может быть, "Ей" не колоть зря пальцы, отпарывая и перешивая алмазные пуговицы с одежды детей, а уж лучше отутюжить мужу платье? ( свою невестку Аликс maman всегда называла только "Она", что жутко его злило).
Оправдываться не имело смысла, лишь его сердце заныло больнее, но жить с немой болью внутри он привык. Но вот maman всегда так лихо попадает в его больные места, укалывая Аликс, девочек и даже маленького Алёшу. И не знает он, как успокоить "штурм" её упрёков: никогда не мог он найти нужных слов, чтобы она поняла его, потому что он с детства в её власти, боится и любит её, и maman, отлично это понимая, ещё сильнее играет на его чувствах, будто он старая расстроенная гитара со слабыми струнами.
Со временем он придумал такую уловку – сразу задавать ей вопросы о её жизни: давно ли ты выезжала в театр? Как здоровье той милой госпожи N? Какую новую книгу ты прочла? И она тогда уходила в свою бурную жизнь, а с его сердца срывался камень.
– Что ж, изволь Ники, – переводя дух, и, воткнув в песок аллеи кружевной зонт, как копьё, maman остановилась. У её ног вертелась и тявкала японская собачка. – Читаю Карла Маркса.
– Маркс?! Тот самый? – он расплылся в изумлении. – Немецкий учёный, социалист. Позволь, но зачем?
– Один друг посоветовал, – многозначительно глянув на сына, ответила maman, – но, увы, ничего нового я в ней не нахожу. Твой отец излагал всё это более понятным языком. Подобные учения созданы лишь для того, чтобы нанести вред России.
– Забавно, а я бы не прочь ознакомиться, – быстро ответил он. Надо было что-то ей сказать, чтобы она не принялась вновь "поедать" его семью. Главное, она тут же заговорила о другом, и это значит, что сегодня ему более уже не испортят настроение.
– Не загружай себя ересью, Ники, – снова надавила она, – вернись к делам насущным, чаще ходи гулять и будь в обществе.
– Надеюсь остаться у тебя на чай, – он поцеловал руку матери. Она молча пожала плечами.
Они уже подходили к Приоратскому замку. Навстречу им бежал его адъютант со срочными телеграммами, maman любезно кивала головой, приветствуя встречных дам.
Поздно было говорить о личном.
* Maman, papan – (в первеводе с франц. яз) – мать, отец.
Глава III
Сегодня Долли проснулась слишком рано – не было ещё и семи часов утра. Она подошла к окну своей спальни и отдёрнула тяжёлую штору: солнца не было, а по Неве катились свинцовые волны, и это означало, что и в её жизни впереди такой же, как и все, серый и пустой день.
В последнее время она стала просыпаться, как от удара, от мысли, как много ей уже лет, и как страшно мелькает время, и что ужаснее всего – в её русых прядях уже сверкают нитки седины. А ведь она ещё не старая – ей всего тридцать два года. И что же – она проживёт теперь всю жизнь в этом неуютном, холодном особняке с видом на Неву и гранит с нелюбимым мужем впридачу?
Княгиню Дарью Алексеевну Рослову замуж выдали рано – она едва закончила гимназию, была хороша собой, и подходящего жениха для знатной, хотя и не богатой невесты из немецкого рода герцогов Романских нашли быстро. После венчания Долли переехала из дома отца, в этот дом мужа, и будто очутилась за дверью клетки. А там, на воле остались все её мечты о большой взаимной любви, единении с мужем и интересной, насыщенной жизни. А вместо тех мечтаний она получила ненужные ей выезды в свет, роскошные наряды, лицемерные улыбки и глупые сплетни: вот и весь смысл её жизни.
Материнство тоже далось ей с трудом: с детьми Долли ладить не умела, смущалась их, и не знала, что с ними делать. У неё самой было трудное детство – она не знала любви матери – та умерла через день после её рождения, а няньки девочки менялись так же быстро, как и пассии её отца. Только с подругами в гимназии и дома с книгами ей было по-настоящему хорошо.
Жизнь с мужем и близость с ним давно уже ей опротивела, и Долли ясно ощутила, что идёт к финалу своего брака, а может быть, и всей жизни. Но такие мысли она всё же гнала от себя – оставить детей без матери жестокость непростительная: она-то знает, каково быть почти сиротой. Она оттягивала тяжёлый разговор с мужем, опасаясь только за двух дочерей и сына, но сама уже приняла такое решение – взять их всех троих с собой и уехать, пусть в никуда, но только в другую, вольную жизнь.
Долли захотелось поставить точку и рассказать всё мужу именно сегодня, пока её ещё ничто не держит: приданое пока не прожито, и в запасе у неё есть крупная сумма денег, а там будь что будет.
Она медлила, бродила кругами по спальне, взвешивая и подбирая слова, и, собравшись с духом, решилась спуститься вниз, в кабинет мужа. Скрип ступенек деревянной лестницы будто пронзал её насквозь, в ушах гудело. Она вся вытянулась, как стрела перед полётом.
Муж Долли поднимался рано, и каждое утро шёл работать к себе в кабинет. Одетый в костюм и гладко выбритый, он уже сидел за письменным столом, разбирая какие-то бумаги.
"Господи, благослови!" – попросила она про себя.
– Доброе утро, Виктор! Как настоение? – любезно спросила мужа Долли.
– Благодарю, кажется, здоров. А отчего тебе не спится? – спросил он сухо, и, грузно развернувшись, привстал из кресла, чтобы поцеловать ей руку. – Здорова ли ты?
Долли кивнула, и молча присела на край высокого дивана и опустила голову.
– Всё хорошо, благодарю тебя. Прости, что я тебя отвлекаю, но мне нужно поговорить с тобой.
– Слушаю тебя, Долли.
Ей снова стало страшно – она словно приготовилась разбить на куски их обычное семейное утро с привычными дежурными фразами, с запахами влажной мыльной свежести, лёгкой домашней одежды и ароматного кофе.
– Ты знаешь, а я хотела бы поехать с детьми в Европу, – будто ожидая расправы над собой, еле слышно сказала она.
Виктор внимательно на неё глядел.
– А надолго ли ты хотела бы уехать? – спокойно уточнил он.
– Думаю, что надолго, – опустив глаза, замялась она, – от пристального взгляда мужа ей всегда становилось не по себе. – Я поеду в Женеву, там как раз гостит моя сестра.
– Так… а когда ты хотела бы уехать?
– Сразу, как только соберу детей.
– Ну что ж, поезжай, – не повышая голоса, ответил муж.
Она взглянула на него с удивлением.
– И денег я тебе дам, о них не волнуйся. Но вот что, Долли, – он внезапно повысил голос. – Ежели так, то я и давно хотел тебе кое что сказать. Ты, возможно, догадалась, что и у меня есть своя жизнь и свои планы.
Ожидая реакцию жены, от замолчал. Долли уверенно кивнула.
– И потому будет даже лучше, если ты уедешь, и как можно быстрее.
Долли вскинула ко лбу соболиные брови. Они с Виктором никогда не любили друг друга и такая развязка стала разумным итогом их брака, однако разрыва по воле мужа она не ждала.
– Да, и в самые ближайшие дни, но помни, что наши дети не только наследуют моё имя и моё состояние, но и навсегда останутся моими детьми и будут со мной, – чеканя каждое слово, говорил муж. – А ты просто дай мне знать, когда будешь готова, Долли.
Она вспомнила синие, наивные глаза маленького сына, и в её груди всё сжалось от боли. "Главное, сейчас не заплакать, не показать ему, как мне больно, он прекрасно это знает" – подумала она.
Опираясь на ручку дивана, Долли медленно поднялась. Виктор подошёл к ней, и, помогая ей встать, учтиво поцеловал её руку.
– С глаз долой, из сердца вон, – улыбнувшись, кивнула ему она, и вышла из кабинета.
Вернувшись к себе в спальню, Долли бросилась на кровать и горько разрыдалась.
Глава IV
Каждое лето Маля жила в Стрельне на любимой даче у берега Финского залива. "Под боком у Константина", – как говорила она, нравилось и её сыну Вове: здесь у них на ферме жили козы, и по утрам мальчик пил свежее, полезное молоко.
Этот дом был для неё теплее, чем её вилла в Ницце. Она гордилась своим родовым гнездом, где всё устроено не просто роскошно, а удобно для жизни: посттроена небольшая ферма, разбит фруктовый сад и огородик, ухоженный пруд и беседки в зарослях деревьев, клумбы с россыпью ароматных цветов, кусты жасмина у крыльца, усыпанные гравием дорожки.
Одна тропинка ведёт к купальням пляжа, другая к гаражу с лучшими автомобилями. И во всех дачных постройках, и даже по дороге к дому сияет электричество, когда как во дворце великого князя всё ещё жгут свечи.
К тому же в России её театр – огромная планета, а другого царства ей и не нужно. Она счастлива, когда танцует там и получает главные партии в каких пожелает балетах, но знает – коллеги её не любят. Не любят даже не за то, что когда-то она была близка с наследником трона, и не от зависти к её таланту и красоте, а тому, что она умеет покорять мужчин. Маля и сама не знает, как так получается, что стоит ей лишь с кем-то из них поговорить, и тот уже в её власти. Она обожает нравится и покорять, и равнодушия к себе не выносит.
Что делать, Маля рождена очаровывать!
Она помнит день и час их знакомства – выпускной праздник императорского балетного училища. По давней традиции поздравить выпускниц приехала царская чета и молодой наследник Николай Александрович. На счастье она показалась себе тогда красивой – лёгкую, воздушную, в училище её прозвали "стрекоза". И станцевала Маля отменно – её не раз вызывали "на бис".
Наследника она видела впервые: он сидел наротив неё за столом, его большие серые глаза тянули её к себе, как магнит. Они обменивались долгими взглядами, и, почуяв его молчаливый призыв, она будто слышала биение его мужской плоти.
И тут с места поднялся император Александр III:
– Господа педагоги и прелестные барышни! Пусть день сей для вас будет флагманом вашей балетной жизни, и, покинув стены этого училища, вашего причала, вы с попутным ветром отправитесь в большой мир искусства. Будьте же украшением и гордостью нашего балета!
Раздались дружные аплодисменты и заиграла музыка – начались танцы. Ники не двигался с места. Усевшись рядом с сыном, царь кивнул ему на Малю:
– Хороша, верно? Чего раскис, мужик? Пойди и пригласи её на танец. Только смотрите, не флиртуйте сильно! – пригрозил ему отец.
– Papan, я прошу Вас…, – испуганно зашептал Ники.
– Иди, иди, попрыгай! – пихнул царь сына в бок.
Страшно смущаясь, он подошёл к Мале и робко спросил её:
– Мадемуазель Красинская, не угодно ли Вам будет потанцевать со мной?
В тот вечер они мало общались, и после он долго не мог решиться на близость – к такому она не привыкла.
– В Вас нужно разжечь огонь, и сделать это может только женщина, – сказала ему Маля.
Она разожгла его, как костёр, но часы их счастья не остановились.
– Ты должен скоро жениться? Почему ты безразличен к своей невесте? – пытала она Ники.
– Не знаю…, – ответил он честно.
И всё же она позволяла себе мечтать – а что, если он останется с ней? Они идут в прогрессивный двадцатый век, и теперь незачем брать в жёны скучную европейскую принцессу. Вот царицу-балерину мир ещё не видывал! К тому же она, полька, из рода графов Красинских.
Она думала, что нанесённая им боль давно утихла: поклонники у неё есть и будут всегда. Вот если бы только ей забыть об его ласках… И никогда ни с кем ей не будет так хорошо, как бывало с ним.
И зачем только её подсунули наследнику, как живую игрушку? Это всё его отец! Родители Ники сами потом и очерняли перед ним "развратную балетную девку", умоляя сына жениться хотя бы на Аликс, если уж другие принцессы ему не милы.
До сих пор при виде его ей словно втыкают острый нож в сердце.
Но что же делать, если он её не любит? Любил бы по-настоящему, оставил бы всё и отца бы не послушал. Нет, предпочёл откупиться и уйти. Принцесса прельстила его, а чем? Вся зажатая, недалёкая и сухая "деревяшка". Неужели он может быть счастлив с такой женщиной? Разве она любит его больше, чем могла бы любить она, Маля? Разумеется, нет, он и сам это знает – немецкими красотами уже пресыщен.
И больше никаких свиданий. Довольно ей мучений, не даст она больше рвать себе сердце. Он смог забыть, какая страсть у них была, то почему она всё время должна страдать по нему, как юная барышня?
В её доме нет даже парадных царских портретов – она не простит ему предательства. И никогда никому не расскажет Маля Красинская, кто настоящий отец её детей.
Она сидела на качели в саду. На природе от тёплого морского ветра ей всегда становилось легко. Да и к чему долго горевать – жизнь чудесна!
Вова закончил завтрак в беседке, они поболтали, и сын убежал кататься "на моторе".
Маля ушла в дом и поднялась в детскую Целины. Подошла на цыпочках к её кроватке – девочка спала. Она потрепала её пушистые, пшеничные кудряшки.
Глава V
Стояла поздняя весна – счастливое время года в "Северной Пальмире". Из открытых окон дворца с сада виднелись кусты сирени: её свежий, сладкий аромат, казалось, напитал каждый уголок их дома.
В Мраморном дворце поселилось большое и дружное семейство: его светлые залы звенели голосами детей, их смехом и топотом резвых ног.
– Наша семья растопит лёд и согреет мрамор, – говорил всем Костя.
Великий князь Константин Константинович, его дядя, немногим старше племянника, был ему, как родной брат. И даже лучше брата. Он знал, что и Костя точно так же тяготится своими обязанностями – тот охотно променял бы все свои дела и звания на занятия творчеством.
Они во многом был схожи, их жёны и дети подружились. Супруга Константина Елизавета или, как звали её в семье Лиленька, приезжала к Аликс в Царское село, а когда они проводили лето в Петергофе, любила навестить подругу в Константиновском дворце. Встретившись, дамы щебетали о детях и семейных заботах.
Константин с юности сочинял стихи, часами сидя запершись у себя в кабинете так, что в первые годы их супружества Лиленька стучалась к мужу и плакала, умоляя Костю впустить её к себе и прочесть ей то, что он пишет. Поначалу он жутко сердился, но один раз пустил жену в кабинет, и, усадив её на диван, прочёл жене свои записи.
– Ты сочиняешь стихи?! – засмеялась она. – Всего-то на всего? Какие пустяки, – махнула она ручкой. Я думала, ты здесь пишешь любовные письма какой-нибудь даме и боишься, что я узнаю об этом.
– Измены – блажь, – возразил ей Костя, – жить, как другие в праздности я не намерен. Так что твоя соперница похуже.
– Кто же это? – напряглась его жена.
– Литература!
– Какая важная персона, – опять смеялась Лиленька. – Костя, ты осёл! Вот просто – Костик-ослик.
А он с жаром принялся рассказывать ей, как к нему, ещё мальчишке, пришёл в гости во дворец великий русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский и говорил с ним. Это был восторг! Костя и мечтать не мог беседовать с живым гением родной литературы.
После той встречи он и начал писать стихи.
Костя так увлёкся своим рассказом, что не заметил, как свернувшись клубочком, Лиленька уснула. Потом она призналась мужу, что ей просто было скучно.
Он разочаровался в супруге, хотя влюбился с первого взгляда в эту миловидную, светлоглазую принцессу. В начале знакомства они беседовали о погоде, светских новостях и ему было с ней хорошо. А потом он понял – говорить им больше и не о чем.
Костя отстранился от жены: больше не предлагал ей читать свои или чужие сочинения, обсуждать философские темы, и не мешал ей жить в её лёгком мирке нарядов и развлечений.
Фёдор Михайлович говорил ему, что требовать от человека того, что ему не дано, нельзя. И Костя не требовал. "Легко Достоевскому рассуждать – у самого жена рукописи переписывает", – завидовал он.
Лиленька только верная жена и любящая мать. Что ж, этого довольно.
Зато про свою жизнь он расскажет своему дневнику.
Костя вошёл в кабинет. Одна из его дневниковых тетрадей пряталась в потайном ящичке письменного стола, а все другие, за прошлые годы хранились в замаскированном под книжный шкаф сейфе, с известным только ему одному шифром.
Он сел за стол, и, пошарив рукой под столешницей, надавил пальцем небольшой выступ. Тут же отскочила маленькая деревянная полочка: в ней лежала чёрная тетрадь с крохотным замочком. Костя вставил в замок тонкий ключик, чуть повернул его, и тетрадь раскрылась.
Он обмакнул перо в чернила и вывел завитушки букв:
"25 мая. Вторник.
К нам приезжал Ники. Мы много болтали, пили кофе, повозились с детьми и любовались на младенца Олега. Жена после родов ещё слаба, и не выходит. Затем мы говорили с ним в моей chambre cekrete*. Ники расспрашивал меня о немецком социалисте Карле Марксе, и я рассказал ему то немногое, что мне о нём известно. Признаюсь, их взгляды мне симпатичны: в идеях свободы, равенства и братства я вижу заветы Христа. Разумеется, никого нельзя судить, но, как и Достоевский я уверен – это люди одержимые. Хотя как можно не стать одержимым, видя все грехи мира сего? Всё это я так же высказал Ники.
Похоже, что вскоре только мы одни и останемся верны своему царю". Немного помедлив, Костя приписал – И даже тогда, когда он сам уже не будет себе верен".