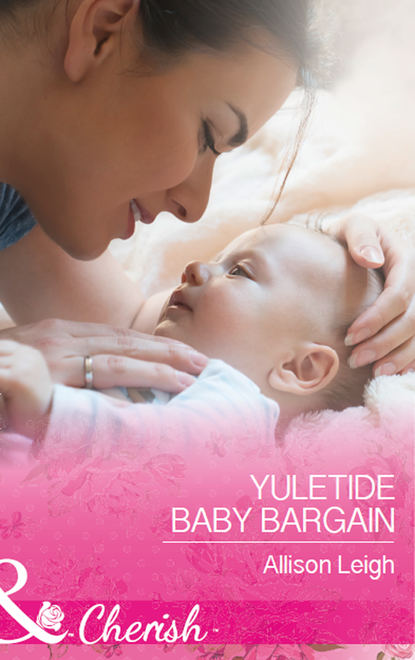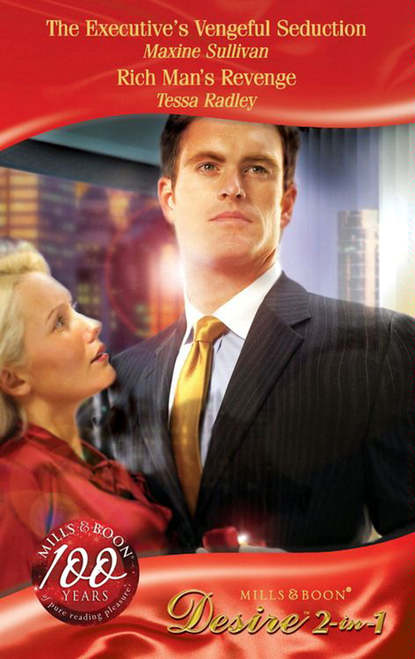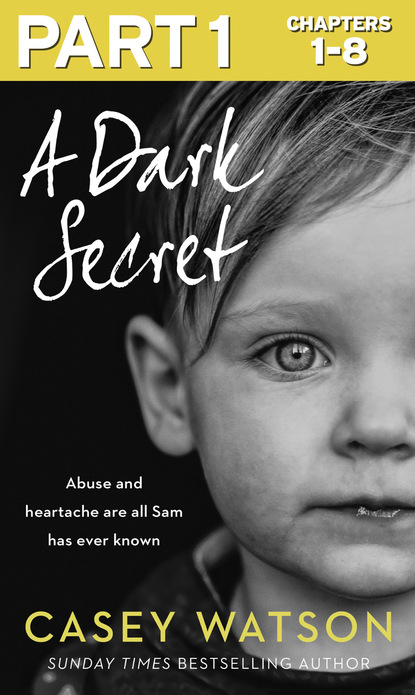Зерно мира мёртвого
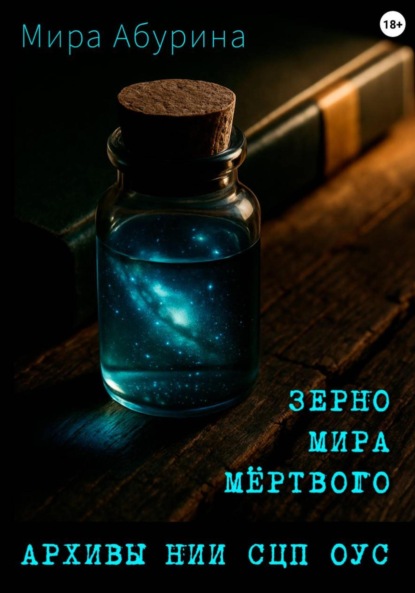
- -
- 100%
- +

Объект «Светлячок»
Анализ курсовой работы Светлова И.С. подтвердил гипотезу: явление не является случайным атмосферным феноменом. Это планомерное распространение реплицирующего агента. В отличие от предыдущих наблюдателей, субъект не списал аномалию на галлюцинации, а выявил в её проявлениях признаки системности. Вербовка субъекта признана целесообразной.
Справка из личного дела № 375-63 Архив НИИ СЦП ОУС. Фонд 0745, Опись 57-64, Дело 87АСЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА № 47-Г
Исх. № 127/с от 12.04.1957
От: Заведующего кафедрой биохимии ЛГУ, д.б.н., проф. Семёновой Н.П.
Кому: Директору Научно-исследовательского института специальных явлений и содержания природных аномалий (НИИ СЦП ОУС), д.т.н. Савченко А.П.
Тема: О направлении для ознакомления материалов научной работы аспиранта
Уважаемый Алексей Петрович,
Настоящим направляется Вам на рассмотрение текст курсовой работы аспиранта кафедры биохимии ЛГУ Светлова Игоря Сергеевича на тему «Сезонная динамика микобиоты в северных лесах», выполненной по материалам, собранным в ходе осенней полевой практики 1956 года в Архангельской области.
В процессе проведения изысканий аспирантом Светловым И.С. были зафиксированы эмпирические данные, выходящие за рамки стандартных биологических процессов и не поддающиеся интерпретации в рамках существующих научных парадигм. В частности, документированы случаи появления аномальных атмосферных образований («светящиеся туманы») с последующим осаждением неустановленного органического вещества, проявляющего свойства фосфоресценции.
Аспирант Светлов И.С. проявил высокую степень самостоятельности, разработав оригинальную методику сбора неустойчивых проб, и продемонстрировал незаурядную научную добросовестность. Характеризуется с положительной стороны, обладает аналитическим складом ума.
Учитывая специфический профиль Вашего учреждения, полагаю целесообразным ознакомление с данными материалами в рамках возможного сотрудничества.
С уважением, Зав. кафедрой биохимии ЛГУ, д.б.н., проф. Семёнова Н.П.
К служебной записке приколот листок бумаги, исписанный быстрым, размашистым почерком:
«Алексей, свет души моей! При случае – взгляни на эту работу. Мальчик – золото, пытливый и упрямый, каких поискать. Написал всё как есть, не пытаясь подогнать под "линию партии". За последний год я получила три описания "светящихся туманов" от практикантов. Двое списали всё на галлюцинации или гнилушки. Помнишь наши старые разговоры о "туманах в лесах"? Кажется, это оно. И масштаб нарастает. Светлов же первый не просто зафиксировал явление – он увидел в нём систему. Проанализировал частоту, направление ветров, состав осадков. Вывел закономерность, которая указывает на целенаправленное распространение, а не на случайный природный феномен. Отбросим канцелярит. Причина не в "аномальных данных", а в уникальности выводов этого мальчика. Если сочтёшь возможным – присмотрись к нему. Уверена, из него выйдет толк. У нас таких на кафедре не ценят – слишком много вопросов задаёт.»
Крепко жму руку. Твоя Нина. P.S. Как здоровье? Не забывай о предписаниях врачей.Кабинет директора НИИ СЦП ОУС. 13 апреля 1957 года.
Алексей Петрович Савченко, седовласый и невозмутимый, снял очки и аккуратно положил на стол служебную записку. Дата на бланке стояла вчерашняя, двенадцатое. Значит, Нина отправила её в конце дня, а к утру она уже была у него – курьерская служба НИИ работала безупречно. Пальцы директора, привыкшие к тяжести папок с грифами «совершенно секретно», потянулись к листку с дружеской припиской, испещрённому размашистым, знакомым почерком. Уголки губ дрогнули в лёгкой, почти незаметной улыбке, прочертив на мгновение лучики морщин.
Он вспомнил ту самую Нину Семёнову – не седого профессора, а задорную аспирантку Ниночку, с которой их когда-то чуть не свела судьба. Они спорили до хрипоты о тайнах природы, и в его памяти навсегда остался её смех, звонкий и беззаботный. Жизнь, партия и работа распорядились иначе, но та старая привязанность, похожая на пожелтевшую фотографию, до сих пор вызывала в памяти и горечь, и тепло.
Улыбка медленно сошла с лица мужчины. Он снова пробежался взглядом по ключевым строчкам: «Написал всё как есть, не пытаясь подогнать под "линию партии"». И следом: «У нас таких на кафедре не ценят – слишком много вопросов задаёт».
Он отлично понимал, какой риск она на себя взяла. Завкафедрой, член партбюро, рекомендует строптивого аспиранта, чья работа пахнет «лженаукой», да ещё и в закрытый институт, в обход всех официальных каналов. Один неверный шаг этого мальчика – и комиссия из Министерства могла бы всерьёз заинтересоваться, что это за «аномальные туманы» курирует сама Семёнова. Она доверяла ему свою репутацию. И карьеру.
Снова нацепив очки, директор взял карандаш и начертал на полях служебной записки чёткую, размашистую резолюцию:
«Тов. Васильеву. Проработать вопрос. Запросить характеризующие материалы через компетентные органы. О результатах доложить.»
А. Савченко.Положив карандаш, он нажал кнопку звонка. В кабинет бесшумно вошла секретарь.
– Мария Игнатьевна, передайте, пожалуйста, это Михаилу Ивановичу. Лично в руки. – Слушаюсь, Алексей Петрович. – Женщина взяла папку и так же бесшумно удалилась, мягко притворив за собой дверь.
Когда дверь закрылась, директор снял трубку аппарата внутренней связи и набрал короткий, трёхзначный номер.
– Васильев, Савченко. Направил к вам документ на Светлова Игоря Сергеевича, аспиранта ЛГУ. Оформляйте всё как положено.
– Понял, Алексей Петрович. Разберёмся.
Лишь тогда Савченко откинулся в кресле, позволив себе глубокий, уставший выдох. Дело было запущено. Завелась неспешная, но неумолимая пружина ведомственной машины. Руководитель НИИ СЦП ОУС знал, что теперь процесс займёт месяцы: проверки, запросы, тотальное изучение личного дела и всех родственных связей до седьмого колена. Но он также знал, что Нина Семёнова никогда не стала бы так рисковать своей репутацией, если бы не была уверена на все сто.
Он повернулся к окну. За стеклом назревала весенняя гроза, и первые тяжёлые капли дождя застучали по стеклу.
Общежитие ЛГУ. 15 октября 1957 года.Предрассветный сумрак медленно отступал, заливая комнату холодным свинцовым светом.
Игорь Светлов, скинув потёртый университетский пиджак, стоял посреди своей клетушки и напевал себе под нос мелодию из «Карнавальной ночи». Тёмные волосы были аккуратно уложены, а рука почти машинально поправляла непослушную прядь на лбу – привычка, оставшаяся со времён музыкального училища. В воздухе витало предвкушение: завтра – долгожданная репетиция в институтском оркестре, где он наконец-то выбил себе партию на саксофоне. На том самом инструменте, который многие сокурсники считали чудачеством, а иные – и вовсе «буржуазной диковинкой».
Мыслями молодой человек уже был в душном, пропахшем мастикой актовом зале, а не среди кип исписанной бумаги. Пальцы сами собой выстукивали на краю стола сложный, джазовый ритм.
Вчера, бежав на лекцию по кинетике, он на повороте лестницы чуть не снёс с ног ту самую девушку с филфака – Лену, кажется? – с двумя толстыми, соломенного цвета косичками и смеющимися, озорными глазами. Они столкнулись, растерянно извинились, и Игорь, поднимая рассыпавшиеся из ее рук книги, уловил лёгкий запах сдобных ватрушек из студенческой столовой. Потом пол-лекции думал, не пригласить ли её в кино на «Старик Хоттабыч». Казалось, вся жизнь – эта самая настоящая, шумная, пахнущая мокрым асфальтом после недавнего дождя и свежей типографской краской от новых учебников – лежит прямо перед ним, стоит только протянуть руку.
Курсовая по северным плесневым грибам, аккуратно переплетённая, лежала на столе как свидетельство о закрытом, не самом интересном этапе. Сдал, и ладно. Теперь можно и о своём подумать. Юноша потянулся к старенькому саксофону в футляре…
Внезапный стук в дверь прозвучал жёстко и незнакомо, разорвав его грёзы на части. Не товарищеский толчок кулаком и не голос дежурного по этажу. Чёткие, отмеренные, как метроном, удары. Стучали не костяшками, а чем-то твёрдым и металлическим. Рукояткой?
Игорь вздрогнул, с грохотом опрокинув стул.
– Кто там?
Дверь открылась, не дожидаясь его ответа. В проёме, на фоне тускло горящей лампочки в коридоре, стояли двое в одинаковых, безукоризненно отглаженных пальто, своими силуэтами заслоняя серый осенний рассвет. – Товарищ Светлов? С вами хотят побеседовать.
Фраза прозвучала не как вопрос, а как констатация. Воздух из коридора, пахнущий тушёной капустой и запахом дешёвого табака, вдруг показался ледяным. Мелодия из «Карнавальной ночи» разом вылетела из головы. Репетиция, девушка с косичками, планы на завтра – всё это в один миг отодвинулось куда-то очень далеко, стало призрачным и ненастоящим.
Настоящим были вот эти двое. Не милиция. Не свои. Люди в одинаковых, тёмно-серых пальто, с лицами, которые, казалось, никогда не знали ни улыбки, ни любопытства. Тот, что постарше, с обветренной кожей и спокойными, ничего не выражающими глазами, сделал шаг вперёд.
– Пройдемте.
Фраза прозвучала не как приглашение, а как констатация свершившегося факта. В голове у Игоря метнулась единственная, паническая мысль: За что? Он вспомнил свои едкие шутки про партком, вчерашний спор с завкафедрой о Лысенко. Каждая из этих мелочей внезапно обрела вес государственного преступления.
Без единого слова студента взяли под локти – не грубо, но с неоспоримой силой. Провели по коридору, мимо приоткрытых дверей, из-за которых доносились испуганные вздохи. Он не успел даже схватить пиджак.
Последнее, что Светлов увидел, оглянувшись, – это свою комнату, залитую первыми робкими лучами восходящего солнца, и тёмный футляр с саксофоном на кровати.
Серая «Волга». Тот же день.Его усадили на заднее сиденье. Младший, коренастый, с бычьей шеей, сел рядом, старший – вперёд, рядом с водителем. Дверь захлопнулась с глухим стуком. Воздух внутри был спёртым и густым, пропахшим потом старой кожи салона, дешёвым табаком «Беломора» и едва уловимым химическим запахом.
Машина тронулась. Светлов сидел, вжавшись в сиденье, и чувствовал, как в висках пульсирует тупая, отдающая в затылок боль, а в голове нарастает тягучая, вязкая тяжесть. Руки сами собой сцепились на коленях так, что побелели костяшки.
– Постарайтесь не смотреть в окно, – сказал старший, не оборачиваясь. Голос был ровным, безразличным.
Игорь инстинктивно отвернулся, уткнувшись взглядом в спинку переднего сиденья. Он даже не спрашивал, что случилось? Потому что как-то сразу понял: спрашивать бесполезно. Оставалось только подчиниться. Смотреть и пытаться понять, куда его везут. На допрос? В изолятор? В психушку?
Но через несколько секунд боковым зрением он все же уловил мелькание улиц. Сидевший рядом бугай негромко хмыкнул, давая понять, что заметил, но не считает нарушение серьёзным. Запрет был не для безопасности, а для поддержания контроля. Игорь повернул голову, пытаясь угадать знакомые улицы, цепляясь за размытые силуэты трамваев, за уличные вывески. Машина проехала центр, повороты, стандартные пятиэтажки… Но вскоре свернула на какую-то промзону, застроенную длинными, унылыми корпусами заводов – глухих, без окон. Они стояли чёткими рядами, уходя вглубь огороженной территории. И тогда водитель резко взял левее, «Волга» нырнула в тёмный, ничем не примечательный подъезд одного из таких цехов. Туннель. Мутные пятна за стеклом сменились сплошной, непроглядной тьмой. Свет фар выхватил из мрака уходящие вглубь стены, обитые гофрированным металлом.
Туннель? Мысль ударила, как обухом. Игорь прожил в этом городе всю жизнь. Он вырос здесь и знал его вдоль и поперёк. Город лежал на плоской, как стол, равнине. Ни тебе гор, ни крупных рек, ни метро. Ничего, что требовало бы такого сооружения, здесь не было и быть не могло.
На мгновение испуганному студенту показалось, что в промежутках между стальными листами шевелятся и уплывают вглубь тени, слишком стремительные и плавные, чтобы быть просто игрой света.
От этой мысли по спине пробежали мурашки. Игорь зажмурился, списав это на переутомление и страх, и снова уставился в потёртую кожу кресла перед собой, предпочитая слепоту этому сомнительному зрелищу.
«Волга» мерно плыла вперёд, гул мотора глухо отдавался в тесном салоне. Через три минуты, которые показались вечностью, впереди забрезжил смутный свет. Машина выкатилась из тоннеля, и Игоря ослепило резким, искусственным светом мощных прожекторов, заливавших всё вокруг сизым, безжизненным сиянием.
Они оказались на широкой дороге, уходящей через огромную, залитую прожекторами территорию. По обе стороны тянулись рядами молодые ели, а за ними – целый городок из серых, монументальных зданий. Между корпусами сновали фигуры в белых халатах и военной форме. Воздух за стеклом дрожал от низкого гула дизельных генераторов. Масштаб открывшейся панорамы был ошеломляющим.
«Волга» подкатила к одному из этих массивных, безликих зданий. Над входом висела простая табличка с лаконичной, казённой аббревиатурой: «НИИ СЦП ОУС». Но это был не просто институт. Это было государство в государстве.
Игорь с предельной ясностью осознал простую мысль: «Сюда просто так не попасть. И отсюда – не выйти».
Старший сотрудник вышел и открыл дверцу. В салон ворвался свежий, холодный воздух, пахнущий хвоей и озоном.
– Приехали. Выходите.
Ноги были ватными. Игорь почти вывалился из салона, спотыкаясь о высокий порог, и выпрямился уже на земле, которая казалась непривычно твёрдой. Под ногой хрустнула ветка. Этот простой, живой звук навсегда отделил его вчерашний день от сегодняшнего. Воздух обжёг лёгкие, и он понял, что всё это время задерживал дыхание.
НИИ СЦП ОУС. Комната 3-Б. Тот же день.Светлова провели по бесконечному, уходящему вперёд коридору, застеленному потёртым линолеумом, где единственным звуком был приглушённый, навязчивый гул невидимой аппаратуры.
Комната, в которую его ввели, была выкрашена в унылый бюрократический зелёный цвет. Стол, два стула, пепельница. На стене, вопреки всем послесъездовским директивам о борьбе с «культом личности», висел строгий портрет Сталина. Художник изобразил его не отцом народов, а скорее главным инженером чудовищного проекта: внимательный, тяжёлый взгляд будто оценивал саму пригодность человеческого материала.
Игорь остался один. Он сидел, вжавшись в стул и положив ладони на колени, чтобы скрыть непроизвольную дрожь, и ждал. Прошло десять минут. Двадцать. Время растянулось, наполненное лишь мерным тиканьем настенных часов и нарастающим ужасом от неопределённости.
Наконец дверь открылась. Вошёл тот самый старший сотрудник из «Волги», но теперь без пальто, в строгом кителе защитного цвета, без единого знака отличия, если не считать планочку с тусклыми орденами. Мужчина представился просто: «Подполковник Васильев». Он сел напротив, положил на стол тонкую папку – личное дело Игоря – и уставился на него тем же взглядом, что и человек с портрета: бесстрастным, проницающим насквозь.
– Ну что, товарищ Светлов, – его голос был ровным и без эмоций, как у диктора, зачитывающего сводку погоды. – Давайте познакомимся поближе. Вы не против?
Вопрос был риторическим. Последующие сорок минут Игорь отвечал. Не на шаблонные вопросы из военкомата, а на другие – точные, выверенные, вскрывающие его натуру, как скальпель.
О родителях-учителях. О причинах ухода из музыкального училища.
– Не потянул конкуренцию или не захотел быть одним из многих? – уточнил Васильев, делая пометку.
Об отношении к последним событиям в Венгрии. О том, что он думает о работах Лысенко.
– Интересная позиция, – заметил подполковник, и Игорь не понял, услышал он в его голосе одобрение или презрение.
– Ваша курсовая, – Васильев, наконец, открыл папку. – Вы утверждаете, что наблюдали «аномальные атмосферные образования». Почему не списали это на галлюцинации, отравление угарным газом или брак фотопластинок? Что заставило вас упорствовать?
– Данные были воспроизводимы, – чётко, почти вызубрено ответил Игорь, чувствуя, как за этим формальным ответом стоит вся его научная совесть. – Я вёл дневник наблюдений. Светимость фиксировали три разных фотоаппарата. Местные жители подтвердили явление, у них для него есть название – «хмарь».
– Местные жители, – Васильев сделал очередную пометку. – Суеверные, малограмотные люди. Вы предпочли их слова учебнику биохимии?
– Я предпочёл факты догмам, товарищ подполковник.
Офицер на секунду поднял на него взгляд. В его глазах что-то мелькнуло – не улыбка, а скорее тень профессионального интереса, будто он увидел в испытуемом редкий, но перспективный кадровый ресурс.
– Вы упрямы. Это может быть и достоинством, и недостатком. – Он перелистнул страницу в деле. – В 1943 году, на тех же болотах под Архангельском, разведотделение попало в такую же «хмарь». Командир доложил: «Видимость ноль, комары не кусают, и тишина, как в танке». Они просидели в болоте шесть часов. Никаких последствий. Ни тогда, ни после. Командование сочло, что отделение устроило самоволку. Командира, старшего сержанта, отдали под трибунал за бездействие. Роту, от которой они ушли на задание, лишили знамени. Дело легло в архив. Но мы-то его нашли.
Васильев закрыл папку. Закрыл – и отодвинул её от себя, как бы очищая пространство стола для главного вывода.
– Эта "хмарь", товарищ Светлов, уже калечила судьбы, когда вы пешком под стол ходили. Ваша работа, эти "безобидные светяшки" – вторая ласточка. Вопрос в том, что принесёт третья?»
Подполковник откинулся на спинку стула, впервые за весь разговор сменив позу, и нажал кнопку звонка на столе.
– Вы нас заинтересовали. – Его взгляд на секунду скользнул по испуганному студенту, будто ставя в уме галочку. – Вас проводят для оформления документов.
Выйдя из кабинета, Игорь прислонился к прохладной стене и понял, что всё время сжимал кулаки. Он разжал пальцы и судорожно вздохнул. Тело вдруг ослабело, словно после долгой болезни, но в голове, наконец, прояснилось.
Его проверяли не на благонадёжность. Его испытывали на прочность. На способность видеть закономерности там, где другие видели случайность.
И тут его осенило. Здесь, за этим порогом, не было политики, пятилетки и «линии партии». Здесь начиналась чистая наука. Та, что имеет дело не с догмами. А с Угрозой. Им не нужно было слепое согласие – им была нужна истина, добытая вопреки всему.
Этой системе был нужен не винтик. Им был нужен инструмент.
Ей требовалось его упрямство. То самое, что не позволило списать аномалию на «брак плёнки». То самое, что было необходимо, чтобы разглядеть в «светяшках» не сказку, а врага.
Он прошёл.
Кабинет директора НИИ СЦП ОУС. Тот же день.Кабинет поразил его своим аскетизмом. Никакого помпезного сталинского ампира, лишь массивный стол, стеллажи с папками и карта СССР на стене, испещрённая значками, смысл которых он пока не понимал. Пахло старым деревом, мастикой и озоном – запахом лаборатории, а не кабинета чиновника.
За столом сидел седовласый мужчина. Он был молчаливее и спокойнее, чем Игорь мог предположить. В его позе не было ни угрозы, ни отеческой снисходительности. Только сосредоточенность. Он поправил очки и внимательно взглянул на студента.
– Товарищ Светлов. – Его голос был тихим, но обладал странным свойством заполнять собой всё пространство, вытесняя посторонние звуки. – Вы, наверное, уже поняли, что оказались в месте, где привычные ориентиры теряют смысл.
Игорь молча кивнул. Ощущение сдвинувшейся реальности, в которую его бросили, начало формироваться ещё в кабинете у Васильева.
Директор отодвинул в сторону курсовую работу Игоря, как будто этот документ уже выполнил свою роль.
– Ваше упрямство – ценный ресурс. Но здесь оно обязывает. – Савченко посмотрел на него прямо, и его взгляд стал ощутимо тяжелее. – Мы здесь для того, чтобы гасить пожары до того, как они возникнут. Пока что ваша "хмарь" – это странные туманы и плёнка на асфальте. Диковинка. Но каждая диковинка в нашем деле – это верхушка айсберга, под которой может скрываться всё что угодно. От новой формы жизни до… инструмента. Наша задача – понять, что именно, и быть готовыми.
Он сделал паузу, давая собеседнику время осознать. Игорь стоял, стараясь дышать ровно, и чувствовал, как леденящий ужас постепенно отступает, сменяясь странным, почти болезненным любопытством.
Профессор снял очки и жестом предложил Игорю сесть. Его взгляд был не оценивающим, а изучающим – словно он рассматривал редкий, не до конца понятый артефакт.
– Товарищ Светлов. Вы задавались вопросом, почему ваш скромный научный труд лёг именно на мой стол, а не на стол какого-нибудь начальника отдела кадров?
Игорь молчал. Вопрос и впрямь казался нелепым.
– Институт – это машина, – продолжил Савченко. – Она перемалывает тонны рутины. Но её создавали для того, чтобы ловить сигналы. Едва уловимые аномалии в шуме реальности. – Он переложил курсовую на самый край стола. – Ваша работа – такой сигнал. Но дело не в том, что вы описали. Дело в том, как вы это сделали.
Алексей Петрович достал из стола другой, более объёмный файл и открыл его. Там были фотографии: странные иероглифы на скале, снимок неопознанного биологического образца, график с аномальными колебаниями.
– За последние пять лет мы получили семь отчётов из разных точек Союза.
В том числе и тот, из сорок третьего года, о котором вам, вероятно, уже рассказали. Тот случай был первым звеном. Ваш – восьмым.
Каждое слово директора ложилось на подготовленную почву. То, что Васильев обронил как намёк, Савченко раскладывал как стройную систему. Игорь слушал, и его догадка перерастала в уверенность.
– Все эти отчёты – о «светящихся туманах». И все – от квалифицированных специалистов. Геологов, метеорологов, военных. – Он посмотрел на Игоря поверх очков, и в его глазах читалась усталость. – И все они, столкнувшись с непонятным, пытались подогнать его под известные им шаблоны. Геолог искал выход газов, метеоролог – оптический феномен, военный – диверсию. Они видели не явление. Они видели свою специализацию.
Он отчётливо постучал пальцем по обложке курсовой.
– А вы… вы просто описали то, что видели. Без готового шаблона. Вы признали существование явления, которое не укладывалось в вашу картину мира. Для учёного это сложнее, чем совершить открытие. Это требует определённого склада ума. Упрямства. Или, если хотите, честности.
Игорь машинально провёл рукой по волосам, поправляя ту самую непослушную прядь. Жест был знакомым, почти автоматическим, и он сам удивился этому – казалось, тело понемногу возвращалось к норме, пока разум пытался осмыслить новую реальность.
И пока Савченко говорил, начальное напряжение окончательно отпустило Игоря. Его догадка, робко возникшая после беседы с Васильевым, теперь обретала плоть и кровь. Карта, папки, спокойные слова – всё складывалось в единую, неоспоримую картину. Да, его оценивали. И сейчас ему не просто сообщали вердикт – ему предлагали войти в механизм, работу которого он уже начал угадывать. Это было… признанием. Пугающим и пьянящим.
Голос директора на мгновение поплыл, слившись с гулом в ушах. Игорю пришлось сделать волевое усилие, чтобы снова сфокусироваться. Профессор продолжал рассуждать.
– Вы признали существование явления, которое не укладывалось в вашу картину мира. Более того.
Савченко закрыл папку с чужими отчётами и отодвинул её, как отодвигают что-то ненужное.
– Все они констатировали факт и постарались его забыть. А вы… – он снова посмотрел на выводы в курсовой, – вы написали: «Упорство, с которым явление воспроизводится в одних и тех же биотопах, указывает не на случайный фактор, а на свойство неизвестного агента к целенаправленному распространению».
Он сделал паузу, давая Игорю осознать вес этих слов.
– Вы не просто зафиксировали аномалию, товарищ Светлов. Вы увидели в ней систему. Среди десятков отчётов ваш – единственный, где за разрозненными фактами угадывается стратегия. Вот почему вы здесь. Это – первый критерий.
Савченко на мгновение прервался, его пальцы замерли на обложке курсовой, будто взвешивая нечто неосязаемое. Затем он отодвинул её и открыл верхний ящик стола. Оттуда он извлёк небольшой листок с быстрым, размашистым почерком.
– Но одного упрямства мало, – профессор положил листок на стол, повернув его к Игорю. – В нашей работе нужна внешняя оценка. Не из отдела кадров. От человека, который может поручиться не только за ваш ум, но и за ваш характер. Нина Павловна Семёнова… – он произнёс имя с лёгким, почти неуловимым уважением, – была одной из лучших. И она пишет, что из вас может выйти толк. Для меня её слово значит больше, чем любая характеристика. И это второй критерий – рекомендация.