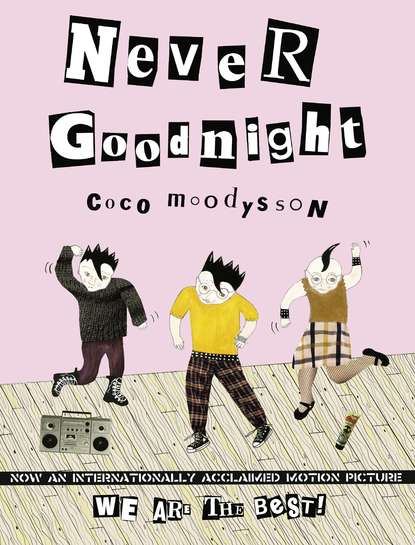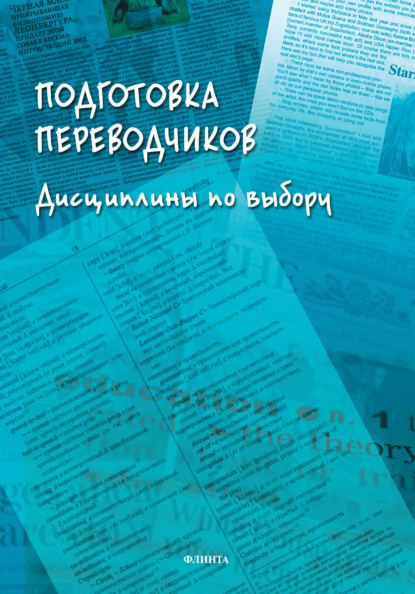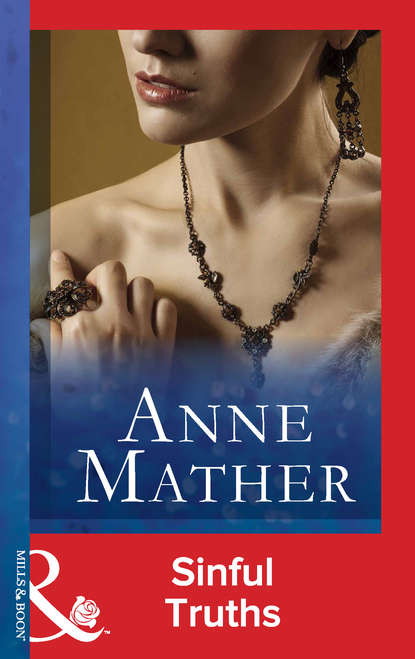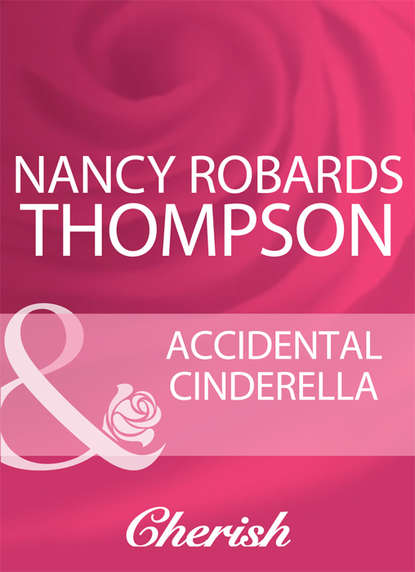Пока горит свет

- -
- 100%
- +
Она попыталась вести журнал. Открыла его на чистой странице. Вывела дату: «29 июня». И замерла. Что писать? «Ветер западный, 4 балла»? Это было неважно. Важнее было то, что за ее спиной, внизу, дышал чужой человек. Что его тело, сломанное и горячее, нарушило магнитное поле ее жизни. Она отложила перо. Страница осталась чистой.
Весь день предательски ускользал из ее рук и графика.
Она сварила себе обед, но есть не стала. Еда стояла на столе и остывала. Нина сидела напротив и смотрела на дверь в свою спальню, приоткрытую ровно настолько, чтобы слышать его дыхание. Каждый его прерывистый, хриплый вздох отзывался в ней странным, щемящим эхом. Это был звук живой боли. А ее мир был миром мертвых вещей – отполированных линз, исправных механизмов и тикающих часов.
К 14 часам она вышла на улицу, под предлогом проверить тросы. Но вместо этого села на камень у самого обрыва и уставилась на горизонт. Море сегодня было спокойным, почти равнодушным. Оно отняло и вернуло. Играло с ней. И в этой игре не было никакого смысла, кроме ее собственного, надуманного – быть «точкой в темноте». А что, если точка сбилась с курса? Что, если ее свет больше никому не нужен?
16:10.
Она заставила себя зайти к нему. Сменить повязку. Его лоб был горячим, но не обжигающим. Под тонкой кожей век бегали быстрые тени снов. Она сменила бинт, ее пальцы работали быстро и чисто, как у хорошего механика. Но когда она случайно коснулась его кожи – не раны, а просто предплечья, – она отдернула руку, будто обожглась. Это был не пациент. Это был человек. И это осознание было самым пугающим за весь день.
17:30.
Она попыталась читать. Взяла с полки книгу по навигации, открыла ее на закладке. Прочла один абзац. Потом еще. И поняла, что не помнит ни слова. Все ее мысли были там, за стеной, с тем, кто боролся со своей личной бурей во сне. Она захлопнула книгу. Звук был таким громким в тишине, что она вздрогнула.
19:00.
Вечерний обход. Делала все, что полагалось. Щелкали замки, проверялись тросы. Но это было пустой формальностью. Ее мысли были внутри дома. Она торопилась обратно, сама не понимая почему. Будто боялась, что в ее отсутствие он исчезнет. Или, наоборот, придет в себя.
21:15.
Она села в свое кресло у камина. Не включала свет. Смотрела на потухающие угли. И слушала. Слушала его дыхание, ровное теперь, глубокое. Оно заполняло собой весь дом, вытесняя ту самую тишину, что была ей когда-то опорой.
И тут она поняла. Поняла самый страшный итог этого дня.
Она боялась не его. Не его прошлого, не его силы, не той угрозы, что он мог в себе нести.
Она боялась того, что будет, когда он придет в себя.
Он пробыл здесь всего сутки. И уже успел перезапустить часы ее жизни, сбив их ход навсегда.
Он пришел в себя рывком – всем телом вперед, как будто пытался убежать от собственного кошмара.
Глаза застилала пелена боли.
Первое, что он понял – это не его кровать.
Второе – над ним склонилась женщина с ножом.
Марк рванулся в сторону, но тело не слушалось – только бешено заколотилось сердце, и рана на боку вспыхнула огнем.
– Не двигайся, – сказала женщина. Голос ровный, без угрозы, но и без жалости. – Или порвешь швы.
Он перевел взгляд на нож – обычный кухонный, с пятнами ржавчины у рукояти. На нем тоже была кровь.
– Для перевязок, – будто прочитав его мысли, пояснила она. – Не для тебя. Пока что.
Комната была маленькой, чистой, с пахнущим деревом полом. За окном – море, уже спокойное после шторма.
"Маяк", – догадался он.
Женщина – Нина, как он позже узнает – ждала ответов на вопросы.
Но Марк молчал.
Он смотрел в одну точку – на трещину в потолке, которая изгибалась, как река на карте.
– Как тебя зовут?
Трещина.
– Как ты очутился в море?
Трещина.
– Ты понимаешь меня?
Трещина.
Нина вздохнула, отставила в сторону нож и взяла бинты.
– Ну и ладно, – сказала она, будто ему и не нужно было отвечать. – Но запомни: я не люблю мертвецов в своем доме. И живых – тоже.
Она начала перевязку, а он продолжал молчать, глядя в потолок.
Только когда она коснулась особенно глубокой раны, его пальцы впились в простыни, но даже тогда он не издал ни звука.
Нина заметила это.
– Упрямый, – пробормотала она.
За окном кричали чайки.
А Марк считал трещины на потолке, как будто в них была зашифрована единственная правда, которую он еще мог вынести.
Молчание
«Молчание – это не пустота. Это язык, на котором говорят раны, слишком глубокие для слов»
Накрахмаленные простыни. Безупречно выглаженные складки. Столовые приборы, разложенные с геометрической точностью. Ее мир был собран из таких вот деталей – жестких, хрустящих, лишенных гибкости и тепла. Каждая вещь на своем месте, каждая минута расписана. Это был ее доспех, ее защита от хаоса внешнего мира и от смятения внутреннего.
Но что происходит с накрахмаленной тканью, когда в нее впитывается влага? Она размокает. Теряет форму. Предательски мякнет.
И вот в ее стерильное, выверенное царство ворвалась "Влага". В лице молчаливого, искалеченного мужчины, чье одно лишь присутствие уже размягчало острые углы ее реальности. Его раны сочились не только кровью, но и прошлым – тяжелым, чужим, опасным. А его молчание было громче любого шторма.
Она пыталась бороться с этим вторжением привычными методами: ритуалами, расписанием, холодной практичностью. Ставила перед ним тарелку супа, как ставят точку в предложении. Ждала логического завершения. Но он был не предложением. Он был многоточием, за которым угадывалась целая неизвестная повесть.
И ее безупречный, накрахмаленный мир с треском начинал промокать.
День первый:
Она поставила перед ним тарелку с дымящейся ухой – свежая рыба, отварная картошка, укроп, сорванный с грядки у маяка. Аромат разносился по комнате, цепляясь за занавески, пропитывая дерево стен.
Марк сидел, уставившись в стену. Даже не моргнул.
– Еда не отравлена.Нина стиснула зубы:
Он не отреагировал.
Вечером она забрала нетронутую тарелку. Суп застыл жирной пленкой.
Она сменила тактику – принесла простой черный хлеб, кружку крепкого чая. Минимализм. Ничего лишнего.
День второй:
– Хочешь умереть – умрешь, – сказала она, ставя поднос на тумбочку. – Но не в моем доме.
Он даже не повернул голову.
Ее расписание трещало по швам:
· Проверка линз маяка – опоздание на 12 минут
· Обход территории – сокращен до 5 минут
· Вечерний чай – вообще забыла
Она стучала дверьми, роняла кастрюли, громко пересчитывала ступени – нарочно.
Никакой реакции.
День третий:
Нина влетела в комнату с тарелкой, которая грохнулась на стол: – Ешь. Сейчас же.
Гречневая каша, яйцо всмятку (идеальной круглой формы, как она любила).
Марк медленно поднял на нее глаза – впервые за три дня. Взгляд был пустым, как выброшенная ракушка.
– Ты… – ее голос дал трещину. – Ты сводишь меня с ума.
Она вышла. Хлопнула дверью так, что с полки упала банка с чаем.
– Идиот. Упрямый, тупой, неблагодарный…
Два часа бродила по берегу, пиная камни:
Когда вернулась – чашка на тумбочке была пуста.
На дне – осадок из чайных листьев.
Рядом – аккуратно сложенная салфетка с едва заметными отпечатками пальцев.
Нина потрогала чашку – еще теплая.
За окном море вздохнуло волной, а где-то внутри нее что-то дрогнуло.
– Завтра будет омлет, – бросила она в пустоту.
И впервые за три дня ее расписание осталось неисправленным.
На четвертый день он попытался встать.
Нина услышала шум из его комнаты – глухой удар, сдавленный стон. Она застала его на полу, вцепившегося в край кровати, с побелевшими от боли губами.
– Идиот! – вырвалось у нее, прежде чем она успела подумать.
Она подскочила, схватила его под мышки, но он отшатнулся.
– Не… трогай…
Голос его был хриплым, как будто годами не использовался.
– Ага, значит, говорить все-таки умеешь? – Нина скрестила руки. – Тогда скажи мне хотя бы свое имя, черт возьми! Или мне продолжать называть тебя "раненой обузой"?
Он оперся о стену, пытаясь перевести дыхание. Капли пота стекали по вискам.
– Марк… – наконец выдохнул он.
– Что?
– Марк. – Он поднял на нее взгляд – впервые осознанный, ясный. – Меня зовут Марк.
Нина замерла. Это было больше, чем она ожидала.
– Ну вот видишь, не так уж это и сложно, – пробормотала она, протягивая ему стакан воды.
Он взял его дрожащими руками, и Нина вдруг заметила шрамы на его пальцах – старые, грубые. Руки человека, который слишком много держал оружия.
– Спасибо… – он произнес это так тихо, что она едва расслышала.
– Не благодари, – Нина отвернулась, поправляя складки на простыне. – Просто… не умирай у меня дома.
Она вышла из комнаты, оставив его наедине с тиканьем часов и тяжестью произнесенного имени. В воздухе повисло хрупкое перемирие, купленное ценой одного-единственного слова: «Марк».
Следующие несколько часов прошли в натянутом, но продуктивном молчании. Нина вернулась к своему расписанию с удвоенной яростью, словно пытаясь засыпать песком трещину, только что образовавшуюся в ее стене. Она мыла полы, чистила механизмы, записывала показания приборов с такой тщательностью, будто от этого зависела судьба мира. А может, так оно и было – ее мира.
Марк лежал, глядя в потолок, и слушал эти яростные, методичные звуки. Каждый стук, каждый скрип говорил ему о ней больше, чем любые слова. Это был звук тотального контроля, граничащего с отчаянием.
К вечеру, выполнив последний пункт своего списка, Нина приготовила ужин. Простую яичницу, без изысков, но идеально круглую, с аккуратно поджаренными краями. Символ возвращения к норме, который она несла на подносе, как оливковую ветвь.
И вот тогда, сделав всего несколько шагов по коридору, она замерла.
Тихий стон из ванной заставил её остановиться с подносом еды в руках.
Не громкий крик, не зов о помощи. Сдавленный, животный звук, который вырвался сквозь стиснутые зубы. Звук человека, пытающегося справиться с болью в одиночку и терпящего поражение.
Поднос с идеальной яичницей дрогнул в ее руках. Масло на сковородке колыхнулось.
Дверь была приоткрыта. В щели пробивался свет, смешанный с резким запахом меди и спирта.
Запах крови, едкий и металлический, смешивался с аптечной резкостью спирта. Это был запах борьбы. Той самой, что он вел за закрытой дверью, пока она наводила свои бессмысленные порядки. И в этой щели, в этом запахе, был ответ на все ее «просто не умирай». Он и не собирался. Он пытался выжить. По-своему. Без ее разрешения.
Нина толкнула дверь плечом – и застыла.
Марк сидел на краю ванны, согнувшись, с окровавленными бинтами в руках. Его спина, покрытая старыми шрамами, напряглась при её появлении.
– Ты идиот?! – шипение вырвалось само. – Швы разойдутся!
Он даже не обернулся, только глухо пробормотал:
– Уходи.
Но она уже ставила поднос и хватала полотенце.
– Дай.
Марк вздрогнул, когда её пальцы коснулись его кожи. Но не сопротивлялся.
Нина работала молча, с привычной точностью:
1. Очистила рану (он стиснул зубы, но не застонал).
2. Обработала антисептиком (мускулы на спине дёрнулись).
3. Наложила свежий бинт (её ногти случайно скользнули по шраму у лопатки – и он резко дёрнулся вперёд).
– Не… там…
Она не поняла сразу. Рука автоматически потянулась к тому месту, где под рёбрами зиял старый шрам – ровный, хирургически точный.
Марк вдруг вскочил, отшвырнув аптечку.
– Хватит!
Флакон с йодом разбился о кафель, оставив кроваво-коричневый след.
Нина подняла глаза. Впервые за все дни он смотрел на неё по-настоящему – не сквозь, а В.
– Это пулевое, – сказала она не вопросом, а констатацией.
Он молчал.
– Входное отверстие сзади. Значит, стреляли в спину.
Его пальцы сжали край раковины до побеления костяшек.
Нина медленно поднялась, вытирая руки о полотенце.
– Завтра поменяем бинты снова.
На пороге обернулась:
– И Марк?
Он поднял взгляд.
– Следующий раз – предупреди. Или я привяжу тебя к кровати.
Дверь закрылась.
А он остался сидеть в луже йода и воды, впервые за долгие годы прикрыв ладонью тот самый шрам – как будто она могла через него прочитать то, что он никогда не говорил вслух.
Дверь закрылась. Щелчок замка прозвучал как выстрел.
Марк медленно поднял голову.
Зеркало над раковиной было запотевшим, размытым, но он все равно увидел ее.
Аврора.
Она стояла за его отражением – в том самом синем платье, в котором хоронили. Ее губы шевелились, но вместо голоса из них сочилась вода, которая должна была потушить огонь, в котором она сгорела.
"Ты позволил ей прикоснуться…"
Марк рванулся назад, опрокинув табурет. Спина ударилась о кафель, но он даже не почувствовал боли – только ледяные струйки воды, настоящей воды, стекающие по его лицу.
Он зажмурился.
– Нет…
Это был не крик, а хрип – разодранный, кровавый, вырванный из самого нутра.
Но когда он открыл глаза, в зеркале был только он сам – изможденный, дикий, с перекошенным от ужаса лицом.
Марк схватил бритву со столика – и взмахнул.
Зеркало разлетелось на осколки.
Один из них впился ему в ладонь, но он не почувствовал.
Только когда дверь распахнулась и в проеме возникла Нина (она не уходила, стояла за дверью,), он понял – кровь на полу настоящая.
И его тоже.
– Выходи, – сказала она мягче, чем когда-либо. – Я приготовила чай.
А за окном маяк начал свой вечный круг, освещая то, что осталось от его прошлого – только осколки.
Кухня маяка тонула в оранжевом свете заката. Стол, обычно безупречно чистый, был заставлен чашками, банкой меда и рассыпанными бинтами – свидетельство прошедшей бури.
Марк сидел у окна, закутанный в одеяло, которое Нина набросила на него, не спрашивая. Его пальцы обхватывали чашку, но не согревались – они все еще дрожали, как после ледяного душа.
Нина молча подлила ему кипятка.
– Сахар?
Он покачал головой.
Она положила две ложки в свою чашку – ровно столько, сколько всегда.
Тишина между ними была густой, как туман над морем. Не неловкой, но натянутой, будто каждый знал, что за ней скрывается, но боялся коснуться.
Марк смотрел в окно. Вода была спокойной, почти зеркальной, но он видел в ней другое – вспышки выстрелов, пену на губах умирающего, кровь, смешанную с морской солью.
Нина следила за его лицом, но не спрашивала.
Она пила чай.
Он не притрагивался к своему.
Закат гас, окрашивая стены в синеву.
– Я не спрошу, – наконец сказала Нина, ставя чашку на стол.
Марк медленно перевел на нее взгляд.
– Но если захочешь рассказать – я здесь.
Он кивнул. Один раз.
Она встала, чтобы убрать чашки, но его рука вдруг накрыла ее ладонь – быстро, как вспышка маяка, и так же неожиданно.
– Спасибо.
Всего одно слово. Но в нем было больше, чем в часах разговоров.
Нина не отдернула руку.
– Не за что.
А за окном море дышало, не требуя ответов.
Незваный гвоздь в механизме
Иногда море приносит не обломки кораблей, а обломки душ. И самый страшный шторм – не тот, что бушует снаружи, а тот, что просыпается в тишине между двумя людьми.
Ее мир, некогда бесшумный и отлаженный, как часовой механизм, теперь скрипел, хрипел и спотыкался на каждом шагу. И виной тому был один-единственный незваный гвоздь, вбитый в его идеальную конструкцию, – Марк.
6:15. Скрип двери.
Нина застыла с занесенной над страницей журнала ручкой. Из спальни донеслись тяжелые, шаркающие шаги, затем – глухой удар о косяк и сдавленное ругательство. Ее перо дрогнуло, оставив на идеально чистом листе безобразную кляксу. Она не обернулась, лишь сильнее сжала пальцы. Ее утренний ритуал был нарушен. Первая трещина.
7:00. Кухня.
Она готовила овсянку, священнодействуя у плиты. Точное количество крупы, ровно 180 миллилитров воды, щепотка соли. Войдя на кухню, Марк молча опустился на стул, и под его весом старый деревянный каркас жалобно заскрипел. Он сидел, уставившись в стол, тяжело дыша, и всем своим видом нарушал стерильную атмосферу. Он не просил есть, не пытался помочь. Он просто присутствовал. И этого было достаточно, чтобы ее концентрация дала сбой. Она пересолила кашу. Впервые за десять лет.
9:30. Ванная.
Нина собиралась проверить барометр, но путь на второй этаж ей преградила лужа. Небольшая, мутная, растекшаяся от порога ванной. Из-за двери доносится шум воды. Он мылся. И не вытер за собой. Она стояла и смотрела на эту лужу, и ее пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Это было не просто нарушение порядка. Это было вторжение. Осквернение. Она потратила десять минут, чтобы вытереть пол, чувствуя, как по спине ползут мурашки бессильной ярости.
12:00. Гостиная.
Он занял ее кресло. Не то, чтобы он выбрал его специально. Он просто рухнул в первое попавшееся, и это оказалось ее кресло – то самое, с выемкой под ее спину, с подлокотником, на который она клала книгу. Он сидел, откинув голову, с закрытыми глазами, и спал. А она стояла в дверях со своей тарелкой с рыбой и не могла зайти. Ее пространство, ее убежище было занято. Она ела на кухне, стоя у окна, и еда была безвкусной, как зола.
15:10. Лестница на маяк.
Она поднималась, чтобы проверить линзы, и на полпути наткнулась на него. Он сидел на ступеньках, посередине пролета, опершись спиной о стену, и его широкие плечи перекрывали узкий проход.
– Пропусти, – сказала она, и голос прозвучал резче, чем она планировала.
Он медленно поднял на нее взгляд. Глаза были остекленевшими от усталости и боли.
– Минуту, – хрипло выдохнул он. – Не могу… дальше.
Она могла бы попросить его подвинуться, помочь ему подняться. Но она просто ждала, глядя, как он, стиснув зубы, с нечеловеческим усилием заставляет свое тело подчиниться и отползает в сторону, давая ей пройти. Она прошла, не глядя на него, чувствуя его тяжелое дыхание у себя за спиной. И весь день потом ей казалось, что она слышит его на каждой ступеньке.
19:00. Вечерний чай.
Она разлила чай по двум чашкам. По привычке. И тут же опомнилась. Почему две? Он не просил. Он не был желанным гостем. Он был помехой, гвоздем, скрипом. Она с силой поставила вторую чашку обратно на полку, и фарфор звякнул, чуть не треснув.
К концу дня ее нервы были натянуты струнами. Каждый его вздох, каждый стон, каждый неловкий шаг отзывался в ней раздраженным эхом. Он был живым, дышащим, страдающим воплощением хаоса, ворвавшимся в ее выстроенную вселенную. И самое ужасное было в том, что она не могла просто выбросить этот «гвоздь» обратно в море. Потому что под грузом его молчания, под тяжестью его шрамов и боли она начала смутно различать контуры чего-то большего. Чего-то, что пугало ее куда сильнее, чем бытовые неудобства. Но до этих откровений было еще далеко. А пока ее мир сузился до размеров раненого мужчины, который мешал ей жить, напоминая, что она – живая.
продолжи их разговор, где она давит его вопросами, а он опять молчит
Вечер опустился на маяк, тяжелый и беззвучный, как ее невысказанные вопросы. Они сидели в гостиной – она в своем кресле, он – на жестком деревянном стуле у камина. Между ними висела стена из невысказанного, и Нина решила, что пришло время ее проломать.
Она отставила чашку с недопитым чаем. Звук был четким, как вызов.
– Твоя рана, – начала она, глядя прямо на него. – Пулевое. В спину. Кто стрелял?
Марк не ответил. Он смотрел на огонь, его лицо было каменной маской.
– Ты был военным? Контрабандистом? Беглым каторжником? – ее голос был ровным, без эмоций, как у следователя. – В порту висели объявления о розыске. За тобой охотятся?
Он перевел взгляд на нее. В его глазах не было ни страха, ни гнева. Только пустота, уходящая вглубь, в такое темное место, куда ее слова даже не долетали.
– Почему ты не зовешь на помощь? – она наклонилась вперед, ее пальцы впились в подлокотники. – Я могла бы сообщить о тебе. Почему молчишь?
Тишина в ответ была оглушительной. Она слышала, как трещит полено в камине, как завывает ветер за окном, как бьется ее собственное сердце – громко, назойливо.
– Я рискую, приютив тебя! – ее голос впервые дрогнул, в нем прорвалось напряжение последних дней. – Меня могут обвинить в укрывательстве. Обыскать маяк. Отобрать все. Ты понимаешь это? Или тебя волнует только твоя шкура?
Он опустил голову, его пальцы сцепились в замок. Суставы побелели. Это было единственное движение, единственная реакция.
Ее терпение лопнуло.
– Хорошо, – она встала, и ее тень накрыла его. – Хочешь молчать – молчи. Но запомни. Ты здесь не по праву. Ты – милость. Моя милость. И она может закончиться в любой момент. Я не обязана вытирать твою кровь и терпеть твое молчание. Если завтра утряом я не услышу от тебя ни слова, я сама отведу тебя в порт и сдам первому же стражнику. Понял?
Она ждала. Хоть звука. Хоть взгляда. Хоть тени протеста.
Но он просто сидел, сгорбленный и безмолвный, как скала, которую не взять ни уговорами, ни угрозами.
Нина развернулась и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Она стояла в коридоре, прислонившись лбом к холодной каменной стене, и слушала тишину за своей спиной. Она давила на него всеми силами, а он уходил в молчание, как в крепость. И в этой тихой войне не было победителей. Были только два острова, разделенные океаном недоверия и боли. И ее остров начинал тонуть в тени его.
Она стояла в коридоре, все еще чувствуя на губах горький привкус собственной беспомощности. Угрозы, которые она только что швырнула в его молчание, повисли в воздухе и растаяли, как дым. Он победил. Просто не вступив в бой.
И тут снаружи, заглушая вой ветра, раздался яростный стук. Не просьба, а требование. Нина вздрогнула, сердце на мгновение ушло в пятки. Она бросила взгляд на дверь в гостиную, за которой сидел Марк, и инстинктивно сделала шаг, заслонив ее собой.
Не успев открыть, она увидела через стекло искаженное яростью лицо Пристона. Он ввалился внутрь, сбивая с себя капли дождя и хлопья пены, что шли у него изо рта.
– Где он?! – проревел старик, его глаза бешено блестели в полумраке прихожей. – Где этот молчаливый черт?!
– Пристон, уходи, – сказала Нина, но ее голос потерял всю свою прежнюю сталь. Он звучал устало.
– Нет уж, хватит! – он попытался пройти мимо нее, тяжело дыша, пахнущий дешевым ромом и злобой. – Пока ты тут с ним цацкаешься, в порту люди шепчутся! Про мое судно вспомнили! Из-за него ко мне опять начнут приходить! Я выбью из него всё, что он знает, своими руками!
Он рванулся вперед. И в этот момент Нина, всегда такая сдержанная и расчетливая, отреагировала чисто инстинктивно. Она не отступила. Она резко шагнула навстречу, упершись руками в его грудь, и оттолкнула его назад, в притвор.
– НЕТ!
Его собственный крик и ее, прорвавшийся наружу, повисли в воздухе. Они стояли, тяжело дыша, измеряя друг друга взглядами.
– Ты что, защищаешь его? – Пристон смотрел на нее с неподдельным изумлением. – После всего, что было? После Мартина?
– Я защищаю свой дом! – выкрикнула она, и в ее голосе наконец зазвенела знакомая всем твердость. – Мой порог. И то, что происходит за ним. Это мое решение. Мое!
– Он опасен! – старик ткнул грязным пальцем в сторону гостиной.
– А я – нет? – ее вопрос прозвучал тихо, но с такой ледяной угрозой, что Пристон невольно отступил на шаг. – Ты забыл, кто я? Я та, что одна пережила три шторма, когда все рыбаки сидели по домам. Та, что может найти риф в тумане по одному лишь звуку волны. И та, что вышвырнет тебя отсюда к чертовой матери, если ты тронешь того, кто находится под моей защитой. Понял?
Они стояли в напряженной дуэли взглядов. Глаза Пристона метались от ярости к недоумению, а потом – к странному, внезапному пониманию. Он видел не просто женщину. Он видел хозяйку этой скалы. Хранительницу.
Он плюнул на пол, но уже без прежней ярости.
– Ладно, – просипел он. – Твоя воля. Твоя скала. Твоя беда. Но когда он перережет тебе глотку ночью, не зови на помощь.
Он развернулся и, пошатываясь, вышел в ночь, с силой хлопнув дверью.
Нина осталась стоять, опершись спиной о косяк двери в гостиную, дрожа от выброса адреналина. Она слышала за спиной его дыхание. Ровное. Спокойное. Он все слышал.
И тогда, сквозь дерево, до нее донелся тихий, хриплый голос, который она не слышала уже много дней:
– Спасибо.
Всего одно слово. Но в нем было больше, чем во всех ее угрозах и допросах. Оно пробило брешь в его молчании. Маленькую. Но достаточную, чтобы внутрь пролился свет.