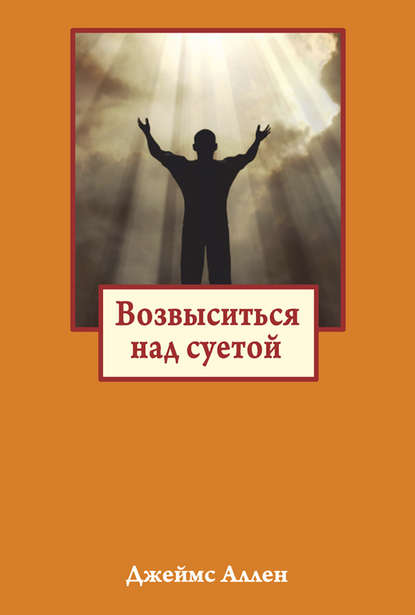Пока горит свет

- -
- 100%
- +
Шепот прибоя
Море рождает волны, деревня – сплетни. И то, и другое со временем разбивается о скалы
Рыбацкая деревушка, прилепившаяся к подножию скал, никогда не спала. Она лишь ненадолго закрывала глаза, чтобы, едва забрезжит рассвет, снова распахнуть их – красными от бессонницы окнами кабаков, щербатыми улыбками причалов, сетями, развешанными для просушки, как гигантские паутины, в которых запутался сам воздух, густой от запаха гниющей тины, копченой рыбы и влажной шерсти.
Именно в этот час, когда солнце только начинало раскачивать маятник дня, Нина спустилась с тропы. Ее появление было тем событием, что заставляло часы бить точнее. Мужики, чинящие сети у лодок, замирали на секунду, женщины у колодцев прикрывали коромысла, приглушая их скрип. Она была частью пейзажа, как сам маяк, – неизменная, далекая, необходимая. Но сегодня ее визит был не по расписанию.
Лавка «Все для моря» пахла дегтем, пенькой и старостью. За прилавком стоял Генрих, человек с лицом, будто вырубленным топором из коряги.
– Нина, – кивнул он, вытирая руки о фартук. – Керосину подвезли. Отборный.
– Спасибо, Генрих, – она отложила на прилавок сверток с деньгами. – И дай мне еще пару катушек прочной лески. И гвоздей.
Пока он собирал заказ, в лавку вошел Эдгар, брат трактирщицы. Его глаза, маленькие и юркие, как у краба, сразу же уцепились за Нину.
– Говорят, у тебя на маяке гость, Нина, – начал он, сладко растягивая слова. – Морячок, погорелец. Правда, что ли?
Воздух в лавке загустел. Генрих замер с катушкой в руке. Нина не поворачивалась, разглядывая витрину с крючками.
– Правда, – сказала она ровно.
– И что же он за птица? – не унимался Эдгар, подбираясь ближе. – Откуда? Как звать-то?
– Он не говорит.
– Не говорит? – Эдгар фыркнул. – Или не может? Может, ему есть что скрывать? У нас тут, знаешь ли, тихая гавань. Не любим мы, когда к нам чужая беда прибивается. Особенно молчаливая.
Нина медленно обернулась. Ее взгляд был холодным и острым, как тот самый крючок в витрине.
– Эдгар, – произнесла она тихо. – Твоя лодка. «Чайка». У нее правый борт прохудился. Я видела, как ты в прошлую субботу вернулся, накренившись. И третьего дня ты не вышел в море. Чинил?
Эдгар поперхнулся, его уверенность мгновенно сдулась.
– Я… это…
– Вот и займись своей бедой, – закончила она, поворачиваясь к прилавку. – А чужую я сама разберу.
Генрих молча протянул ей сверток. В его глазах читалось некое одобрение.
Но на улице ее ждала вторая линия обороны – Клара, жена рыбака Ларса, с двумя пухлыми детишками, будто специально выставленными напоказ, как живой щит.
– Нина, голубушка, – запричитала она, хватая ее за рукав. – Мы все так волнуемся! Этот человек… он ведь не опасный? Дети-то наши по берегу бегают!
Нина посмотрела на детей, потом на Клару.
– Твой Ларс, – сказала она, – в прошлом месяце вернулся с промысла без двух пальцев. Правда?
Клара побледнела и кивнула.
– А ты знаешь, что он три дня скрывал рану, боясь, что его сочтут калекой и не возьмут в следующую артель? Что гной пошел, и он ночами стонал, а ты думала, это он пьяный?
Клара опустила глаза, губы ее задрожали.
– Вот и я сейчас выхаживаю рану, – тихо, но четко сказала Нина. – Не мешай мне.
Она пошла дальше, чувствуя на спине десятки глаз. Шепотки рождались тут же, за ее спиной, как пена за кормой: «Сама не своя…», «Черту душу заложила…».
У самого выхода из деревни ее догнал старый Эйнар. Он молча сунул ей в корзину сверток, пахнущий копченым угрем.
– Для него, – хрипло бросил старик. – Чтобы силы набирался. И поскорее… – он не договорил, махнул рукой и заковылял прочь.
Едва она переступила за первую прилавку с овощами, как на нее обрушился шквал притворного радушия.
– Нинушка! Подь сюды! – замахала рукой тучная Марфа, торгующая луком и сплетнями. – Говорят, у тебя на маяке птичка новая завелась! Певец, что ли, раз молчит?
Нина, не останавливаясь, бросила в корзину кочан капусты.
– Не поет, – сухо ответила она, отсчитывая монеты.
– А глаза-то у него какие? – вступила в разговор худая, как щепка, Грета, приторговывая вязанками сушеного чабреца. – Говорят, колдуны такие глаза имеют. Чтобы девичьи души воровать.
– Его душа, Грета, тебя с твоим чабрецом волнует куда больше, чем моя, – отрезала Нина, проходя мимо. – У тебя же пол-лавки этого добра не распродано с прошлого лета.
Она шла дальше, а шепоток плыл за ней, как придонное течение:
«Сама не своя…», «Видно, правда, приворожил…»…
Покупая соль у мрачного лавочника Петруса, она почувствовала на себе тяжелый взгляд.
– Тебе, выходит, теперь на двоих? – проворчал он, завязывая мешок. – Или он у тебя задарма столуется?
Нина положила на прилавок ровно в два раза больше монет, чем обычно. Монеты звякнули, как пощечина.
– Вот за его долю. Чтобы неповадно было спрашивать.
Она двинулась к лавке рыбака Йорна, но путь ей преградили трое местных парней, уже изрядно поддатых с утра. Старший из них, Карл, сын трактирщика, неуверенно покосился на своих дружков и шагнул вперед.
– Слушай, Нина, – начал он, пытаясь придать голосу грубость. – Этот твой молчун… Он кто такой? А то наши девчонки пугаются. Ходить мимо маяка боятся. Может, нам с ним поговорить по-мужски? Объяснить, как у нас тут заведено?
Нина остановилась. Она не сказала ни слова. Она просто медленно опустила свою тяжелую корзину на землю. Звук был негромкий, но почему-то заставил парней насторожиться. Она выпрямилась во весь свой рост и посмотрела на Карла. Она смотрела не в глаза, а куда-то в район переносицы, холодным, безразличным взглядом человека, который видел штормы покруче их утреннего похмелья.
– Заведено? – тихо переспросила она. – У нас заведено, Карл, что я каждую зиму отгребаю снег от твоего сарая, потому что твой отец слишком пьян, чтобы это сделать. Заведено, что твоя мать приходит ко мне за травами, когда у тебя от дурного рома живот скручивает. И заведено, – ее голос стал тише, но от этого только страшнее, – что я могу одним словом в порту сделать так, что тебе ни одна артель на промысел не возьмет до конца сезона. Это – как у нас заведено. Хочешь, проверяй.
Она не ждала ответа. Подняла корзину и пошла дальше. Парни расступились перед ней, как перед ледорезом.
У лотка Йорна, куда она наконец добралась, ее ждало неожиданное утешение. Старый рыбак молча протянул ей двух лучших лососей, жирных и серебристых.
– На, – буркнул он. – С твоим-то… на пропитание. Чтобы сильнее был.
Она кивнула, благодарная за то, что он ничего не спрашивал.
Неся свою ношу обратно к тропе, ведущей на маяк, Нина чувствовала себя не победителем, выигравшим битву. Она чувствовала себя крепостью, осажденной со всех сторон. И каждый взгляд, каждый шепоток был очередным камнем, брошенным в ее стены. А внутри этой крепости находился тот, кто даже не подозревал, какую бурю вызвал своим молчаливым присутствием. Или подозревал? Этот вопрос отныне будет преследовать ее везде.
Тропинка петляла между покосившимися сараями, и Нина уже почти вышла на окраину, когда из-за угла, запыхавшись, появился Билли. Он был без своей обычной ухмылки, без размашистой походки. В руках он сжимал жалкий, но яркий пучок полевых цветов – ромашки, колокольчики и что-то синее, что она не знала названия. Лицо его пылало таким огнем, что, казалось, могло растопить утренний туман.
Он преградил ей путь, отчаянно пытаясь перевести дух.
– Нина! Я тебя ждал… то есть, не ждал, а видел, как ты спускаешься… и побежал…
Он протянул ей цветы. Стебли были помяты в его потной ладони.
– Это… это тебе. За твою доброту. И за то, что простила меня тогда.
Нина замерла с корзиной в руках. Она смотрела то на цветы, то на его юное, наивное, исполненное обожания лицо. Внутри у нее все съежилось от неловкости. Это была не та неловкость, что с Марком – колючая, полная напряжения. Это была жалость. Тяжелая и безрадостная.
– Билли… – начала она, и ее голос прозвучал мягче, чем она планировала.
– Они как ты! – перебил он, счастливо сияя. – Сильные. И красивые. И ни на кого не похожи!
Она медленно, почти нехотя, взяла букет. Ее пальцы, привыкшие к грубой веревке и холодному металлу, неловко прикоснулись к нежным лепесткам.
– Спасибо, – сказала она, и это было единственное, что она могла сказать. Она не могла объяснить ему, что не считает себя ни сильной, ни красивой. Что она – просто функциональная единица, как шестеренка в механизме маяка.
Он стоял, ожидая чего-то большего. Улыбки. Хотя бы намека на ту нежность, что переполняла его.
– Они очень… милые, – насильно выдавила она, чувствуя, как горит лицо. Она ощущала себя в ловушке. Ей хотелось положить руку ему на плечо, как брату, и сказать: «Успокойся, мальчик. Это всего лишь цветы». Но она знала, что для него это было не «всего лишь».
– Я могу… помочь тебе донести до маяка? – робко предложил он, указывая на ее тяжелую корзину.
– Нет, – ответила она слишком быстро и резко. И, видя, как его лицо померкло, поспешно добавила: – Мне… нужно одной. Мне нужно проверить тросы по дороге.
Она видела, как он проглотил обиду, как заставил себя улыбнуться.
– Конечно. Я понимаю.
Он не понимал. Он видел в ее отказе очередную стену, которую нужно штурмовать с новым букетом или новой клятвой.
– Беги, – сказала Нина, уже отворачиваясь и делая шаг по тропе. – Твоя мать, наверное, заждалась.
Он постоял еще мгновение, глядя ей вслед, а потом развернулся и побежал прочь, расталкивая кур, его широкая спина выражала такую трогательную и безнадежную тоску, что у Нины сжалось сердце.
Она шла в гору, держа в руке этот жалкий, увядающий на глазах букет. Он был ей тяжелее, чем вся поклажа в корзине. Он был символом чувства, которое она не могла принять и не хотела ранить. Она сжала стебли, и ее пальцы испачкались зеленым соком. Цветы пахли пылью и детством. А ее мир пахл солью, одиночеством и кровью незнакомца в ее доме. И между этими двумя мирами не было моста.
На полпути к маяку она остановилась и разжала пальцы. Ветер тут же подхватил несколько лепестков и понес их в сторону обрыва, к морю. Она смотрела, как они кружатся в воздухе, и чувствовала странное облегчение. Затем, с решительным видом, сунула оставшиеся цветы в корзину, к гвоздям и катушкам с леской. Пусть простоят немного в кувшине с водой. В знак памяти о той простой, неиспорченной жизни, которой она никогда не сможет жить.
Неуместная тень
Бывают раны, которые не заживают. Бывают привычки, которые не исправить. Но самое страшное – это осознать, что ты не гость в чужой жизни, а стихийное бедствие
Идеальный механизм ее жизни, уже давно давший сбой, теперь скрипел, стонал и сыпал шестеренками. И виной тому был незваный винтик, который не просто вклинился в отлаженный ход, но и пытался его регулировать. Безуспешно.
Катастрофически безуспешно.
Он начал с малого. С воды.
7:10.
Нина, с точностью аптекаря отмеряющая молоко для овсянки, услышала за спиной шаркающие шаги. Марк, бледный и осунувшийся, но уже способный передвигаться без посторонней помощи, подошел к плите и молча взял со стола чайник.
– Не надо, – бросила она, не оборачиваясь.
Он не отреагировал. Раздался шум льющейся в чайник воды, затем – грохот крышки. Он поставил его на конфорку, которую она только что выключила, и повернул ручку. Синий огонь с шипом рванулся вверх, опалив дно еще пустого чайника. Пахло паленым металлом.
Нина застыла с мерной кружкой в руке. Ее взгляд медленно поднялся от обугленного дна чайника к его лицу. Он смотрел на огонь с каким-то отрешенным любопытством, будто впервые видел этот процесс.
– Ты только что испортил мой чайник, – произнесла она ровным, бесстрастным тоном, за которым скрывалась буря.
Он перевел на нее пустой взгляд.
– Я хотел помочь.
– Помощь, – отчеканила она, – должна быть полезной. Это была диверсия.
Она выключила газ, отодвинула его в сторону одним движением и принялась готовить заново. Молча. Он же остался стоять посреди кухни, огромный и неуместный, как выброшенный на берег буй, перекрывая собой движение и свет.
12:30. Попытка наведения порядка.
Он решил прибраться. Вернее, это было не решение, а какое-то стихийное бедствие. Нина, вернувшись с обхода территории, застала его в гостиной. Книги, аккуратно расставленные по алфавиту, лежали в хаотичной груде на полу. Он вытирал пыль с полки, и его широкие, неуклюжие ладони сметали все на своем пути. Стакан с карандашами опрокинут. Компас, всегда лежавший строго на север, был сдвинут.
Она остановилась на пороге, и ее лицо стало маской из льда.
– Что ты делаешь?
– Убираю, – последовал все тот же глухой, лишенный интонации ответ.
– Это не уборка. Это вандализм. Ты нарушил систему.
Он посмотрел на груду книг, потом на ее побелевшие костяшки, впившиеся в дверной косяк.
– Я хотел протереть полку.
– Чтобы протереть полку, не нужно объявлять тотальную войну всему, что на ней стоит. Ты – слон в посудной лавке, Марк. Слон, который почему-то решил, что он тут главный горшечник.
Она молча прошла мимо, подняла компас и вернула его на законное место. Стрелка дрогнула и с облегчением указала на север.
15:00.
Это стало точкой кипения. Она развешивала на веревке у маяка постиранные простыни. Белье трепетало на ветру, выстроенное в линию с армейской точностью. Расстояние между прищепками – пять сантиметров. Никаких складок.
Марк вышел подышать и, проходя мимо, решил «помочь». Он взял с корзины ее накрахмаленную рабочую рубашку и повесил ее на ту же веревку. Но он не знал о существовании прищепок. Он просто перекинул ее через веревку.
Порыв ветра, яростный и внезапный, сорвал рубашку и унес ее прочь. Белое пятно на мгновение мелькнуло в воздухе, а затем исчезло за краем скалы, внизу, где о камни с грохотом разбивались волны.
Нина застыла с прищепкой в руке. Она смотрела туда, где только что была ее рубашка. Та самая, выглаженная с таким трудом. Та самая, что была частью ее униформы, ее доспехов.
Она медленно повернулась к нему. Он стоял, глядя на пустую веревку, и на его лице впервые за все время появилось нечто, отдаленно напоминающее осознание собственной вины.
– Моя… рубашка, – произнесла она тихо. Слишком тихо.
– Ветер, – пробормотал он.
– НЕТ! – ее крик разорвал воздух, перекрыв шум прибоя. Он был резким, животным, полным накопленных за день ярости и отчаяния. – Не ветер! Ты! Это ты! Ты сжег мой чайник! Ты разгромил мою библиотеку! Ты утопил мою рубашку! Каждая твоя «помощь» – это акт уничтожения! Ты словно создан для того, чтобы ломать!
Она подошла к нему вплотную, запрокинув голову, ее глаза полыхали.
– Я не просила тебя помогать! Я просила тебя не умирать! И знаешь что? Начинаю жалеть, что ты выжил! Мой мир был целым, пока в нем не появился ты!
Она выдохнула эти слова ему в лицо, а потом, отшатнувшись, повернулась и ушла в дом, оставив его одного под свист ветра и с видом повисшего на веревке белья, которое он так и не сумел понять.
Марк остался стоять на краю скалы. Он смотрел на кипящую внизу пену, туда, где исчезла ее рубашка. Его пальцы сжались в кулаки. Впервые за долгие годы в его душе что-то пошевелилось. Это была не боль от старых ран. Это было новое, острое и непривычное чувство. Стыд. И странное, щемящее желание. Желание не просто выжить, а научиться жить в этом хрупком, выверенном мире, который он так безжалостно крушил своим присутствием. Но как научиться не ломать, когда за душой нет ничего, кроме обломков?
Вечер затянулся плотной, липкой паутиной молчания. Нина не зажигала свет в гостиной, сидя в своем кресле и уставившись в потухший камин. Слова, которые она швырнула ему днем, висели в воздухе, как ядовитый туман: «Начинаю жалеть, что ты выжил». Она не хотела этого говорить. Но это была правда – правда ее измотанных нервов и разрушенного уклада.
Из кухни доносились звуки. Не те, что были раньше – ритмичные, точные. А неуверенные, грубые. Скрип отодвигаемого стула. Глухой стук кружки о стол. Шарканье его шагов. Каждый звук был иглой, вонзающейся в ее и без того растерзанное спокойствие.
Она не выдержала. Рванулась с кресла и прошла на кухню, остановившись в дверях.
Марк стоял у раковины. В его руках была та самая фарфоровая чашка, белая, без единого узора, ее любимая. Он пытался ее вымыть. Его большие, иссеченные шрамами пальцы неуклюже сжимали хрупкий фарфор. Мыльная пена затекала ему под ногти. Он тер чашку с таким сосредоточенным усилием, будто от этого зависела его жизнь.
И в этот момент чашка, идеально гладкая и скользкая от мыла, вырвалась из его рук.
Звук был негромким, но для Нины – оглушительным. Черепок разлетелся на три крупных части, белые осколки рассыпались по полу, как кости разбитого скелета ее прежней жизни.
Она не закричала. Не бросилась собирать осколки. Она просто подняла на него взгляд. И в ее глазах не было гнева. Там была ледяная, бездонная усталость.
– Хватит, – произнесла она тихо. – Просто… хватит.
Марк стоял, опустив руки, смотря на осколки. Вода с мылом капала с его пальцев на пол. Он был похож на мальчишку, только что разгромившего единственную игрушку.
– Я… – его голос сорвался. – Я куплю новую.
– Не купишь, – она покачала головой. – Ее больше нет. Как и моей рубашки. Как и моего спокойствия.
Она отвернулась, подошла к плите, взяла со стола чугунный котелок и с силой поставила его на конфорку. Грохот эхом прокатился по кухне.
– Я уйду, – сказал он сзади.
Она не обернулась.
– Куда? В море? Оно тебя уже один раз выплюнуло. Дважды не предлагают.
– В порт. Устроюсь на любое судно. Грузчиком. Бондарем. Чем угодно.
Нина резко повернулась. Ее лицо было искажено гримасой, которую он раньше не видел – смесью жалости и презрения.
– Посмотри на себя! – ее голос снова зазвенел, но теперь в нем была не ярость, а горькая насмешка. – Ты с трудом стоишь на ногах! Ты чашку мыть не можешь! Какой из тебя грузчик? Ты им и до раны-то был, поди, не ахти каким, раз тебе в спину стреляли свои же!
Она видела, как он внутренне сжался от ее слов, но не остановилась. Выплескивала наружу всю свою боль.
– Ты думаешь, я не вижу? Ты не рабочий. Ты – солдат. Или бандит. Привык, чтобы за тебя убирали, готовили, чинили. А когда остался один, решил, что справишься. И чуть не сдох у меня на пороге! Ты не способен выжить один. Пока.
Он молчал, сжав кулаки, глядя в пол. Его гордость была растоптана, его слабость – выставлена напоказ.
– Так что не строй из себя героя, – она с силой выдернула ящик стола, доставая ложки. – Как окрепнешь по-настоящему – уйдешь. И чтобы я тебя больше никогда не видела. А пока… – она швырнула ложки на стол, – сиди тихо. И не трогай больше ничего. Это и будет твоей лучшей помощью.
Она снова повернулась к плите, ее спина была прямая и неприступная. Разговор был окончен.
Марк неподвижно простоял еще минуту, глядя на ее спину, на осколки чашки у своих ног. Затем он медленно, с трудом наклонился и начал собирать их. Осколок впился ему в палец, выступила кровь. Он не почувствовал. Он собирал их с той же безрадостной тщательностью, с какой она вела свои журналы. Это был его первый, жалкий и неумелый шаг. Не к тому, чтобы помочь. А к тому, чтобы перестать ломать. И в гробовой тишине кухни, нарушаемой лишь ее яростными движениями, этот тихий звон фарфора был похож на начало покаяния.
Чужой среди своих
Одни женщины предлагают забытье, другие – правду. И только выбрав вторых, можно найти не просто пристань, а берег, к которому захочется пристать навсегда
Солнце вставало над деревней лениво, будто нехотя, заливая бледным светом крыши, застрявшие в прошлом веке, и пустынные в этот ранний час улочки. Для Марка этот свет был не добрым знаком, а прожектором, выхватывавшим его из привычной тени маяка и бросавшим в самое пекло чужой, незнакомой жизни. Он стоял на краю главной – и единственной – улицы, чувствуя себя не просто чужим, а инопланетянином, сошедшим с корабля на враждебную землю.
Идея найти работу родилась в нем не из благородного порыва отблагодарить Нину, и даже не из желания быть полезным. Это был инстинкт загнанного зверя, попытка найти свою нишу, свое место под этим чужим солнцем, чтобы перестать быть обузой, вечным должником, живым укором, молчаливо висящим на ее пороге.
Его первой целью стала верфь. Вернее, то, что здесь называли верфью – несколько сараев, пахнущих смолой и свежей стружкой, где несколько мужиков с обветренными, как старые карты, лицами латали каркас рыбацкой шхуны. Звуки их работы – ритмичные удары молотков, скрежет пилы – были единственным понятным ему языком в этом месте.
Он подошел, стараясь держаться уверенно, но его собственная тень, длинная и неуклюжая, казалось, путалась у него в ногах.
– Работы нет, – бросил один из них, даже не поднимая головы, лишь мельком скользнув по нему взглядом, в котором читалось сразу все: и любопытство, и настороженность, и легкое презрение.
– Я могу… – начал Марк, но голос его, привыкший к тишине и шепотам, сорвался на полуслове, прозвучав сипло и неубедительно. – Я могу работать. С деревом. С железом.
Второй мужик, помоложе, с насмешливыми глазами, отложил рубанок.
– Слышь, «морячок», – протянул он. – А на чем это ты там плавал, что с деревом управляешься? На яхте, поди, капитанской? Или на гробу том, что тебя к нам принесло?
Грубый хохот прокатился по верфи. Марк сглотнул. Каждый смехок был как удар по голой коже. Он чувствовал, как по спине бегут мурашки, а пальцы сами собой сжимаются в кулаки. Старая, знакомая ярость, горькая и беспомощная, подкатила к горлу. Но он сдержался. Развернулся и ушел, оставив за спиной этот смех, чувствуя его жгучие следы на своей спине.
Следующей точкой стал рыбный склад, совмещенный с трактиром. Запах кислого пива, жареного лука и влажных портьем встретил его у входа. Хозяин, толстый, лоснящийся человек по имени Бруно, с интересом разглядывал его, вытирая стаканы грязной тряпкой.
– Так, – протянул он, когда Марк, запинаясь, изложил свою просьбу. – Работы, говоришь, ищешь. Силы не жалеешь. Ну что ж… – Он окинул Марк оценивающим взглядом. – У меня как раз погреб прочистить надо. Бочки переставить. Место сырое, тесное. Как раз для тебя, морской волк. Заплачу… – он назвал сумму, которая была оскорбительно мала.
Марк кивнул. Была бы работа.
Погреб оказался настоящим подземным царством сырости и плесени. Воздух был густым и спертым, пахло землей, грибком и чем-то протухшим. Бочки, которые нужно было переставить, были тяжелыми, неподъемными. Его еще не до конца зажившая рана на спине заныла при первой же попытке сдвинуть одну из них с места. Боль была острой, живой, напоминающей о его уязвимости.
Он работал молча, стиснув зубы, в полумраке, различая окружающий мир лишь по прикосновениям – скользкие от влаги камни стен, шершавую древесину бочек, липкую грязь под ногами. Он двигался медленно, неуклюже, как раненый медведь в берлоге. Пот заливал ему глаза, смешиваясь с грязью на лице. Он чувствовал, как силы покидают его, но не останавливался. Это было его крещение, его испытание на прочность в этом новом, жестоком мире.
Через несколько часов, совершенно изможденный, он выбрался на свет. Бруно, не глядя, сунул ему в руку несколько монет.
– На сегодня хватит. Завтра, если живой будешь, приходи. Работы хватит.
Марк не ответил. Он просто взял деньги и побрел прочь, чувствуя, как каждая мышца в его теле кричит от боли и усталости. Монеты жгли ему ладонь, словно раскаленные угли. Это была не плата. Это была подачка.
По пути обратно, к маяку, он увидел группу рыбаков, разгружающих улов. Сеть, тяжелая, полная серебристой, трепещущей жизни, требовала сильных рук. Он подошел, и снова – тот же самый, уже знакомый взгляд. Настороженный, недоверчивый.
– Обойдемся, – бросил один из них, и в его тоне сквозила не просто отчужденность, а нечто большее – страх. Страх перед тем, кого они не знали, перед тем, кто пришел из ниоткуда и мог принести с собой беду.
Марк остановился. Он смотрел на их спина, на их слаженные, привычные движения, и понимал, что между ним и ими – пропасть. Он был для них не человеком, а явлением. Как шторм или эпидемия. Нечто, что нужно переждать, перетерпеть, но ни в коем случае не впускать в свой круг.
Он побрел дальше, по той самой тропе, что вела вверх, к маяку. Каждый шаг давался ему с огромным трудом. Он был грязным, пропахшим потом и плесенью, разбитым и униженным. Но впервые за долгие недели он чувствовал не просто физическую боль. Он чувствовал нечто иное – жгучее, непривычное чувство стыда. Стыда за свою беспомощность, за свою неуклюжесть, за то, что он, привыкший командовать и подчинять, не мог найти себе места среди этих простых людей.