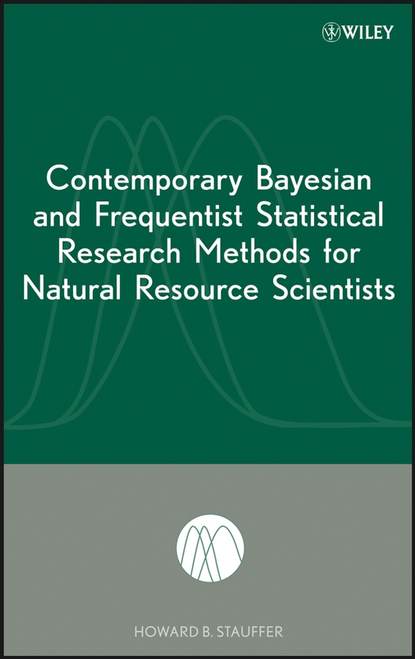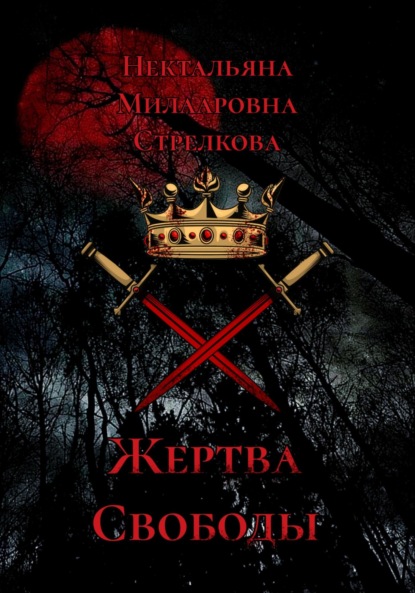Выбор сильного духом. По волнам памяти
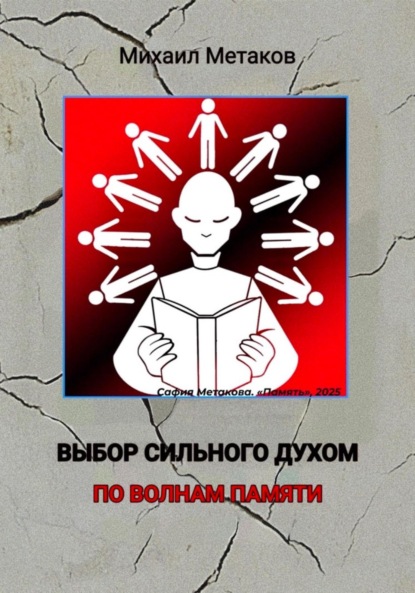
- -
- 100%
- +

Часть вторая. По волнам памяти
Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять…
Александр Кушнер
От автора
Пожалуй, самое трудное занятие для человека, решившего опубликовать семейные мемуары (от фр. mémoires – воспоминания), это найти в себе мудрость и силу, чтобы чрезвычайно бережно и аккуратно положить на бумагу дорогие сердцу воспоминания о самых близких людях – своих родителях и созданной ими семье. А также вспомнить и свою собственную жизнь. Автору этой книги невероятно повезло: в его распоряжении оказался большой мемуарный рассказ любимой мамочки – Метаковой Антонины Платоновны (1916–2010), написанный ее собственной рукой в начале «нулевых». Я безмерно рад, что именно по моей инициативе в 1997-ом она пообещала подумать над сделанным ей предложением, а потом в течении пяти лет так увлеклась, как она говорила «памятной писаниной», что получился очень интересный и подробный документально-исторический рассказ, охвативший огромную полосу жизни не только нашей страны, но и этой удивительной женщины, честно прожившей 95 лет и подарившей жизнь мне, моим четверым братьям и сестре.
Название книги тоже выбрано не случайно. Оно ассоциируется с любимыми со студенческих времен песнями из легендарного музыкального альбома «По волнам моей памяти» композитора Давида Тухманова (кстати, создателя гениального песенного гимна «День победы»). Когда моя мама, будучи уже давно на пенсии, приезжала в декабре 1976 года ко мне, студенту, в гости в Ленинград, мы с ней вместе упивались волшебством потрясающего отечественного вокального модерна…
* * *Чего было больше в маминых воспоминаниях – избавления от страхов молчания, копившихся всю жизнь при непростой сталинской и послесталинской власти или аффекта от горбачевской перестроечной «оттепели» – трудно сказать и нельзя уже спросить, но искренность и откровенность, с которыми писались мамой мемуарные воспоминания трогают до глубины души. Ни тени приукрасить или солгать – каждое слово на вес золота и их длинная цепочка как былинная Ариаднова нить выводила из лабиринтов житейского бытия и забытья, освещая укромные уголки нашей семейной жизни, являя свету даже то, что люди обычно обходят молчанием, стараясь не выносить сор из избы. И это глубинное, сакральное откровение есть самое главное, что подвигло меня совершить особенный поступок – предать публичной огласке сокровенные мысли моей матери как живого современника целой эпохи и огромной страны, совершившей прорыв в неизведанное «светлое будущее».
Рожденная в августе 1916-го, за год и два месяца до гибели Российской империи, почти ровесница Октябрьской революции 1917 года, моя мама вместе со всеми земляками и соотечественниками, принявшими Советскую власть, строила и созидала новое государство. Росла, училась, трудилась, любила, радовалась и страдала, пережила не только гражданскую, финскую и Великую Отечественную войны, но и мучительный распад Советского Союза в 1991 году. Потеряла двух мужей в финскую и Отечественную, получив похоронки на безвести пропавших героев-воинов. Словом, сполна хватила лиха и многое повидала на своем веку, но при этом никогда не жаловалась на то, что в СССР лишь отчасти было построено справедливое общество, – при любом раскладе, говорила она, всего, что было сделано хорошего в советской стране, с лихвой хватило, чтобы показать всему миру пример лучшей организации человеческой жизни.
Иногда по коже бегают мурашки от того, какие грандиозные события и перемены происходили при мамином соучастии и на ее глазах и какой силы духа это требовало от обычного человека. Без всякого сомнения, свой женский, гражданский и человеческий долг она выполнила по полной. Даже в конце жизни, рассказывая о собственной нелегкой судьбе, она неизменно излучала оптимизм и светлую веру в будущее, веру в добрых людей и во всех нас – своих родных и близких.
Наша мама была настоящей женщиной, женой и матерью, надежной хранительницей семейного очага. Об этом мало написано в её воспоминаниях, но я как средний сын могу клятвенно заверить каждого, что это истинная правда. Через какие только трудности семейной жизни ей и нам не пришлось пройти! – но при этом мы всегда знали, что мама рядом и поможет в любой момент: найдет теплое и верное материнское слово, подскажет что надо делать, поддержит каждого в житейских передрягах и неурядицах. Она стоически переносила горькие удары судьбы и потерю близких, её слезы на людях и при детях были редким исключением. Никогда не были забыты и обделены маминой заботой даже те из нас, кто по глупой нелепице попадал в тюремную неволю.
Невероятная нравственная и духовная сила, которая исходила от этой маленькой женщины, будила в наших сердцах и душах ответную любовь и стремление всегда поступать как она – честно и по справедливости. У нее был действительно какой-то божий дар сочувствия и сострадания, который создавал вокруг неё и, в первую очередь, в нашей семье атмосферу простого человеческого счастья независимо от внешних, не всегда благоприятных, обстоятельств, факторов и событий.
А еще мама была хорошим педагогом и учителем, несла знания детям во многих школах от архангельского до югорского Севера, где преподавала географию, биологию, химию и ботанику. К слову, все мы, её дети, не знали что такое детский сад, наше дошкольное воспитание было абсолютно домашним и главную роль в этом играла мама. Кроме того, она переняла у своей мамы, нашей любимой бабушки Поли (Пелагеи Андриановны) мастерство волшебной стряпни на домашней кухне, прядения шерсти и вязания нам зимних варежек и носков. Всегда рукодельничала, была неразлучна со своей помощницей швейной машинкой «Зингер», растила нас в чистоте и опрятности, приучала к домашнему уюту и труду. Любила литературу, читала нам сказки и детские книги, отменно пела, любила русские народные песни, стала моей первой наставницей в игре на семиструнной гитаре. Казалось, не было таких дел, которые не умела бы делать наша мама, успевая работать, быть достойной женой и хозяйкой, вести хлопотное домашнее хозяйство.
Кстати, будучи в молодости членом ОСОАВИАХИМа (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР), мама вполне заслуженно имела нагрудный знак «Ворошиловский стрелок». Вспоминается, как много позже, переехав семьей из Архангельской в Тюменскую область, в поселке Назарово Кондинского района в Ханты-Мансийском (тогда еще национальном) округе, наш отец, в прошлом боевой офицер, фронтовой снайпер и профессиональный охотник, в День Советской армии и Военно-морского флота 23 февраля 1962 года решил устроить семейные соревнования по стрельбе из охотничьей «мелкашки» на таежной поселковой окраине. Мишенями на расстоянии 50 шагов были нарисованные сажей на четырех дощечках черные кружочки. Отец, я и мой младший брат Валера – из трех выстрелов попали только по два раза, а мама показала высший класс, поразив тремя выстрелами свою мишень почти в «десятку». Помню, это было незабываемое детское восхищение и еще один мамин триумф.
По сути, мамины мемуары это не просто автобиографическая исповедь человека, который жил и выживал в предлагаемых судьбой и высшими силами обстоятельствах. В первую очередь это свидетельство очевидца всего советского времени, прожитого и пережитого вместе со страной, это упрямые факты и доказательства, без фальши и показухи раскрывающие хронологию реальной жизни «на земле» одной конкретно взятой семьи со всеми удачами и неудачами житейского бытия. Конечно же, это далеко не «Будденброки» – история семьи, описанная в романе известного немецкого писателя Томаса Манна, однако мемуары моей матери тоже можно смело назвать поучительным уроком для каждого, кому интересна невыдуманная жизнь обычной советской многодетной семьи, жившей в скромном достатке, как говорится, от зарплаты до зарплаты…
* * *Мой отец – Метаков Митрофан Георгиевич (1912–1985) был полной противоположностью мамы. И не потому, что он был мужчиной, а потому, что его жизнь никак не вписывалась в обычные рамки. Про таких в народе говорят – человек трудной судьбы. Рожденный в небогатой семье за пять лет до гибели Российской Империи в небольшом селении Кыллах Олёкминского уезда, расположенном на острове в среднем течении реки Лена на юго-западе Якутии, он начал свою трудовую жизнь преподавателем русского языка в якутских национальных школах.
В середине тридцатых годов переехал в Магадан, где в то время стремительно развивалась золотодобывающая индустрия, строился новый город и морской порт. Однако в октябре тридцать седьмого по ложному доносу был арестован и обвинен в контрреволюционной троцкистской деятельности, подготовке вооруженного восстания, разжигании националистической вражды, антисоветской агитации в пользу Японии. Через два года мучений в застенках магаданского НКВД, отца освободили в связи с прекращением дела за отсутствием состава преступления.
До 1942 года он работал по специальности – учил русскому языку будущих бойцов Красной армии, но после гибели брата добился снятия брони и ушел добровольцем на фронт. Война для него началась с разгрома фашистов и наступления советских войск под Москвой. Командовал стрелковой ротой в звании старшего лейтенанта, был командиром группы снайперов, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», благодарностями Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. Честно и достойно, несмотря на обиды и несправедливости, воевал за Родину мой отец. Прошел-пропехотил от Москвы до Берлина, победу встретил в берлинском пригороде, но в Якутию и на Колыму не вернулся.
Победная радость была омрачена трагедией, случившейся в его части. Отец и его бойцы, ошалевшие от победы и конца войны, обнаружили на ближайшей железнодорожной станции вагоны с бочками немецкого «шнапса». Все они, конечно же знали, что фашисты при отступлении специально оставляли отравленные продукты и алкоголь, однако понадеялись на вечный русский «авось». Попытались по-кустарному фильтровать спиртное, но крайне неудачно – остатками яда отравились более десяти человек. Отец не участвовал в этой «победной попойке», но так как он был командиром подразделения, ему первому предъявили обвинение, а дальше разжалование, военный трибунал и десять лет тюремного заключения. На этапе из Германии в Сибирь его эшелон неожиданно развернули на север Архангельской области и арестанты попали в гулаговские лагеря под городом Молотовском, ныне Северодвинском, на восстановление Беломоро-Балтийского канала.
Через год каторжных работ отец добился справедливого пересуда, освободился и решил остаться в Архангельской области. Как он потом рассказывал, стыдно было возвращаться на родину не героем войны, а вчерашним военным арестантом, пусть даже и невинно осужденным. Потом была встреча с нашей мамой, описанная в её мемуарном рассказе, у которой на руках уже было трое детей от двух погибших на фронте мужей – первый погиб в финскую, второй в сорок четвертом году. Появились на свет и мы – еще трое метаковских малышей. Послевоенная жизнь многодетной семьи, особенно в северной глубинке, была нелегкой, почти невыносимой.
В начале 60-х годов на всю страну прогремело Шаимское нефтяное месторождение на севере Тюменской области. Туда и отправился наш отец, поначалу поохотничав в Кондинском районе Ханты-Мансийского национального округа, а через год устроившись вышкомонтажником в Шаимскую нефтеразведочную экспедицию бригаду, где трудился первооткрыватель тюменской нефти знаменитый буровой мастер Семен Урусов. В 1961 году мы с мамой по вызову отца переехали из Архангельской области в поселок Назарово недалеко от Шаима и Урая, но через год там закрыли школу и отец завербовался на стройку в Усть-Балык Сургутского района, где начиналось освоение очередных новых нефтяных месторождений.
Пионерная (первоначальная) застройка поселка нефтеразведчиков Усть-Балык, ставшего в 1967 году городом Нефтеюганском, велась силами небольшого строительного участка, в дальнейшем реорганизованного в легендарное стройуправление №10 треста «Нефтеюганскгазстрой». Именно с него, крохотного стройучастка, началась новая страница жизни отца, а вместе с ним и всех нас – мамы и детей – на берегу Юганской Оби, левой протоки большой западно-сибирской реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. С этим местом связана дальнейшая жизнь всей нашей семьи, начиная с осени 1962 года. В апреле 1985-го отца не стало, его похоронили на старом городском кладбище, а мама упокоилась в Воронежской области в 2010 году, куда была вынуждена переехать вместе с моей младшей сестрой Валентиной по состоянию здоровья.
* * *На личном примере и авторитете отца держалось многое в нашей большой семье. Это было тяжелое послевоенное и послесталинское время, время дурных хрущевских реформ и отчаянных попыток огромной страны выкарабкаться из нищеты и разрухи. Старшие дети от погибших на войне отцов были для него по-настоящему родными и родительское отношение к ним было тоже настоящим. Когда он, с изуродованной войной и несправедливостью душой появился в моей жизни, – я помню примерно с пяти-шести своих лет. Помню себя маленького на его сильных руках и крепких плечах во время наших веселых прогулок по крутому берегу любимой реки Онеги в окрестностях родных архангельских сел Посад, Васильев Двор и Турчасово. Помню, как тонули в дырявом челне, пытаясь поймать маленькую рыбешку для наживки на продольник в надежде на крупную щуку. Помню, как спасались от стаи волков, которые поздним зимним вечером пытались настичь нас по дороге из соседней деревни, куда отец ездил по делам и взял меня с собой. Помню, как отец крепко выпорол меня за кражу из кармана его пальто зарплатной двадцатипятирублевки с целью купить в сельповском магазине любимых карамелек «подушечки».
А еще детская память сохранила отцовские увлечения охотой и рыбалкой, когда он, вернувшийся с войны почти целехоньким, собирал деревенских мальчишек-подростков для охоты и рыбалки, особенно когда они большой компанией ходили с берестяными котомками-пестерями за плечами за тридцать верст на дальние озера на несколько дней и приносили крупных окуней на домашний засол. Однажды мы с мальчишками так заигрались в «войну» с фашистами (а в другие игры в то время просто не играли), что я в роли красноармейца-пулеметчика, когда закончились патроны, вдруг инстинктивно вскочил из-за пулемета, сделанного старшими братьями из ребристой церковной балясины, и с отчаянным криком «смерть фашистам!» бросил себе и окружившим меня врагам под ноги деревяшку-гранату. Я не знал, что отец случайно наблюдал эту сцену из окна нашего дома: спустя час, обедая в семейном кругу, он оценил мой мужественный поступок словами – «молодец, ты настоящий солдат – дрался до конца!» и это на всю жизнь врезалось в мою память как высочайшая похвала бывалого фронтовика. Кстати, после этого он впервые дал мне реально «понюхать пороху», свозив на утиную охоту и позволив выстрелить из настоящего охотничьего ружья.
Также помню отца в минуты роковые, когда, простудившись на охоте, умер наш старший брат Алик и он в тусклом свете керосиновой лампы, отбрасывая мрачную тень на стены, сидел у гроба в холодной избе на окраине деревни, согнувшись от горя и повторяя «это я виноват», а я, принесший отцу по маминой просьбе поесть, стоял у порога в слезах и навечно запоминал эту жуткую картину в своей детской памяти.
Потом еще много было случаев, когда фронтовой, профессиональный и жизненный опыт отца помогал нам – его детям, независимо от возраста и родства – решать собственные проблемы, ориентируясь на отцовские дела и поступки. Сказать честно, были у нашего батяни и отчаянные «закидоны», когда он уходил временами в тяжкие запои, доставая маму и нас пьяными скандалами. Но эти дикие моменты не могли повлиять на нас каким-то решительным образом, ведь с нами рядом всегда была наша мама, а в свое время и бабушка Поля, которые каким-то непостижимым образом всегда успокаивали и утихомиривали разбушевавшегося главу семейства, а потом объясняли нам, что такое неадекватное поведение это прямое следствие ужасов войны и тяжелых испытаний, выпавших на его долю. А мы знали и верили, что так оно и было и никогда не держали зла на отца, тем более, что он всегда искренне винился и каялся перед семьей за свои пьяные срывы.
Однажды, уже будучи совсем взрослым и работая в областном центре Тюмени, я помогал отцу, срочно прилетевшему из Нефтеюганска, вылечить перелом поясничного позвонка, который случился при падении на скользкой лестнице. Одновременно в это же время у нас родилась младшенькая дочка Нина, а у супруги Зои в роддоме случилось воспаление молочных желез и вся наша семейная компания оказалась в цейтноте – отца и жену срочно положил в больницу, а я остался с дочкой-малышкой на руках, чередуя работу, постоянные «набеги» на молочную кухню и поездки в больницу к больным родственникам. Батя после выздоровления, посмотрев на мои и наши мучения, сказал при расставании, что он гордится своим сыном-первенцем и попросил у меня прощения за все свои грехи. Это был незабываемый «момент истины» от настоящего мужчины, отца и героического воина-фронтовика, который я не забуду никогда…
* * *Понятное дело, о своих родителях и семье можно рассказывать бесконечно долго, и бесконечно трогательно. Однако будет вполне оправданно и справедливо, что на этом месте мой сыновний рассказ прервется и слово будет передано сначала мемуарным воспоминаниям моей мамы, а затем отдельному рассказу об отце, точнее, повествованию о нем третьих лиц, поскольку личных записей он никогда не вел, но история, тем не менее, сохранила память об этом родном человеке. По ходу публикуемых записей и источников мною будут делаться дополнительные авторские вставки, замечания и комментарии, что является совершенно оправданным и необходимым условием, чтобы книга в целом обрела стилистически законченный и литературный вид в жанре семейно-исторического романа.
Итак, повторимся, сначала слово будет предоставлено нашей маме, вторая глава книги будет посвящена жизни и судьбе нашего отца, а в третьей главе автор расскажет о себе и других близких по духу людях. Еще раз прошу читателей и моих родных не судить меня строго за эту смелую и даже несколько авантюрную попытку – она, на мой взгляд, вполне оправдана уже одним тем, что каждый раз, глядя на фотографии наших родителей, ловишь себя на мысли, что далеко не всё было сказано им при жизни и еще далеко не всё сделано, чтобы сохранить их дорогие сердцу образы в памяти потомков…
Глава первая. Личные мемуары нашей мамы

Рукописное начало мемуаров нашей мамы. Фото из личного архива автора.

Бабушка Тоня (наша мама) и внучка Нина, 1986 год. Фото из личного архива автора.
* * *Родилась я на Севере европейской части СССР в Архангельской области, Плесецком районе, в деревне Окулиха (бывшая Кисляковская) 20 июля по старому стилю (по новому – 2 августа) 1916 года, за год до Великой Октябрьской революции.
Отец мой – Палкин Платон Степанович работал на отхожих заработках-промыслах. По рассказам матери отец работал, вернее, плавал на буксирных пароходах в городе Архангельске, один из них назывался «Семерка» (не раз, видимо, проплывал мимо или причаливал к Холмогорам, родине нашего великого земляка Михаила Васильевича Ломоносова. – прим. автора). Также плавал за границу, буксировал баржи с лесом: тогда наша страна вывозила лес в Англию и другие страны.
Отец, мама и я жили в Архангельске, а когда началась гражданская война мама уехала в деревню, где жили мы с бабушкой, матерью отца. Она умерла, когда мне было четыре года, поэтому я ее почти не помню. Затем отец переводится в город Онегу, где тоже плавал на буксирных пароходиках. Помню, один назывался «Ельма». Работа на воде подорвала его здоровье и он рано умер – в июне 1932 года в Онеге, где и похоронен.
У отца было было две сестры – Марина Степановна и Пелагия Степановна. Марина Степановна жила в деревне Верхний Двор, у нее было трое детей – Анна, Александра и Александр от первого брака со Слотиным. Вторично тетя Марина выходила замуж за Рядцина Федора, который как и первый муж умер рано. Прожила 78 лет, умерла 30 декабря 1958 года, похоронена в городе Кировск Мурманской области.
Анна вышла замуж за Дядькина Ивана Васильевича. В гражданскую войну он был красным партизаном и командиром, имя его упоминается в воспоминаниях однополчан. Это был грамотный, культурный, воспитанный человек. Не пил, не курил и был авторитетом на работе и в семье. После войны работал в городе Онеге в райисполкоме в сельхозотделе. Затем его перевели в сельхозотдел села Конево Приозерного района. В 1937 году в одном из колхозов был падеж скота и ему приписали это в вину. Обвинили во вредительстве и репрессировали по статье 58 на пять лет. По происшествии двух лет его реабилитировали, но на прежнюю работу не вернулся, а уехал в город Кировск, где работал на обогатительной фабрике мастером до пенсии. Умер 20 сентября 1966 года и похоронен на родине в деревне Турчасово Плесецкого (ныне Онежского) района.
У Дядькиных было семеро детей: Миша, погиб на фронте в Великую Отечественную войну; Женя, жил в Ленинграде, инвалид, ветеран ВОВ, умер 23 июня 1990 года; Рая, живет в городе Кировске; Нина, живет в городе Аппатиты; Ким, умер в феврале 1975 года; Борис, живет в Кировске; Оля, живет в Северодвинске. Анна Андреевна похоронена в Кировске.
Вторая сестра Анны – Александра – проживала в городе Аппатиты (2.04.1905–29.01.1993). Выходила замуж за Сафиулина Шакира в городе Онеге. Детей было много, пятеро, но все умирали маленькими, зажился только старший Юра, но и он погиб в аппатитских горах во время снежного обвала. Он тогда учился в 10 классе. Александра Андреевна жила в Аппатитах, была окружена вниманием племянников, друзей и государства. Умерла 29 января 1993 года.
Александр Андреевич окончил Ленинградский строительный институт, работал в Кировске, но потом уехал в Читинскую область и больше о нем ничего неизвестно. Умер 2 ноября 1966 года.
Вторая сестра отца – Пантелеева (Палкина) Пелагея Степановна проживала в деревне Подомариха недалеко от Турчасова, километра три ниже по течению реки Онеги. Муж ее – дядя Ваня – пришел с гражданской войны израненный, долго болел и скончался рано. Детей тоже было много и всех надо было поднимать одной тете Поладье. Старший сын Алексей, затем Женя, Аня, Тася, Лида и Володя. Женя утонул в Онеге, переезжая через реку к пароходу. Он тогда учился в средней школе в селе Чекуево. Был сильный шторм. Аня с мужем умерли от тифа. Володя умер – долго болел, а Лида и Тася жили в Липецке. Тася умерла 9 декабря 1992 года, а Лида скончалась 28 июня 2001 года.
* * *Трагически погиб Алексей. Он был старший в семье и все заботы легли на его плечи. Жить с такой большой семьей в деревне без отца-кормильца, да когда работали в колхозе за «палочки-трудодни», было почти невозможно. И он всех вывез из деревни в Харьков. Сам Алексей до войны работал в городе Махачкале в органах КГБ. Работник он был добросовестный, принципиальный, да в органах государственной безопасности и должны были работать люди кристально чистые. В годы войны его переводят на работу в Якутскую АССР, в ее столицу город Якутск. Вместе с ним на персональном самолете летели жена, сын и племянник (сын сестры Анны), которого он воспитывал. Не долетая до Якутска, Алексей был выброшен из самолета, а жена с мальчиками были убиты в самолете. Этот переезд на новое место работы и диверсия против него были, видимо, устроены специально ненавидящими его людьми. Свидетельством этого преступления остались письмо и фотографии у сестры Лидии Ивановны. На фотографии запечатлены четыре гроба – в одном Алексей, в трех других остальные. Обо всем этом мне рассказала Лида, когда я была у нее в гостях летом 1987 года. У Лиды есть дочь Люда (22.09.1932) и внук Андрей (1970), который женился осенью 1988 года. Теперь он женат вторично.
Таисия (Тася) Ивановна Жукова (29.09.1910) жила с Лидой на их даче, которая расположена в деревне Пады в 50 километрах от Липецка. После продолжительной болезни скончалась 9 декабря 1992 года. Так я с ней и не встретилась, о чем очень сожалею…
Авторская вставка. После долгих поисков в интернете автору удалось обнаружить короткую информацию об Алексее Ивановиче Пантелееве, подтверждающую вышеприведенную версию нашей мамы о гибели её двоюродного брата А. И.Пантелеева (приводится дословно):