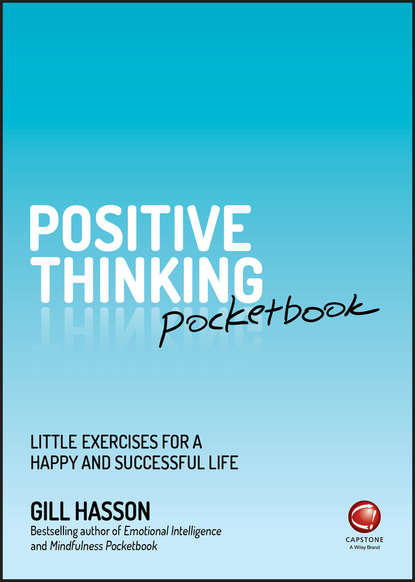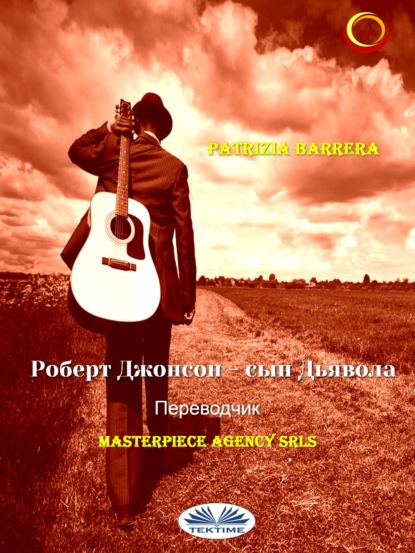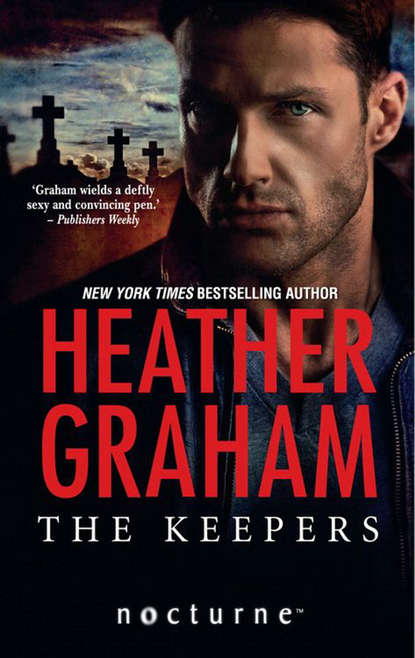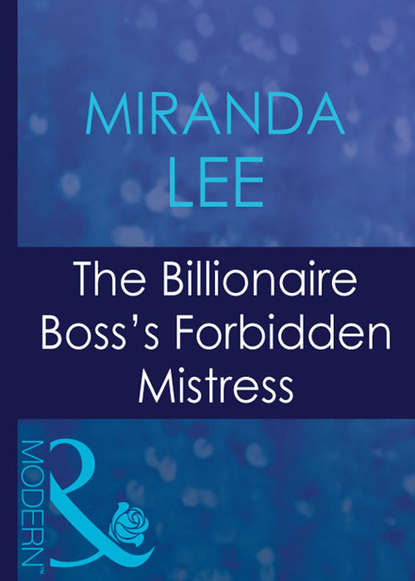Выбор сильного духом. По волнам памяти
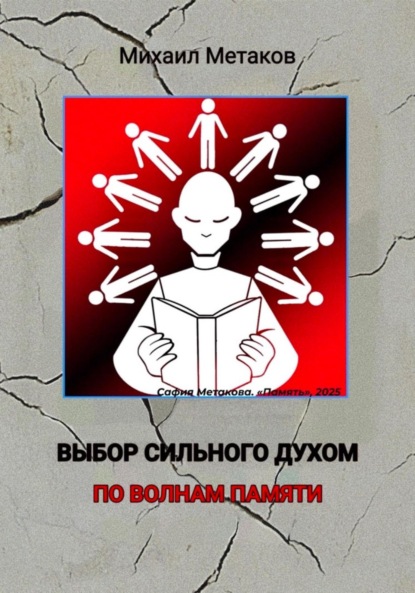
- -
- 100%
- +

Пантелеев Алексей Иванович (1907-1941)
Пантелеев А.И. (1907, Архангельская губ. – 1941). Родился в семье крестьянина-бедняка. Русский. В КП с 03.32. Образование: 2 класса школы 2 ступени, с.Турчасово 1922.
Рабочий на Сухонских гос. бумажных ф-ках, пос.Печаткино 03.23–06.28; зав. лесным складом разъезда Колфонд Северной ж.д. 06.28–06.29.
В войсках ОГПУ: рядовой Волочисского погран. отряда ОГПУ 11.29–06.32.
В органах ОГПУ – НКВД: сотр. ГПУ УССР, Харьков 06.32–07.34; сотр. НКВД УССР, Киев 07.34–10.35; курсант Центр. школы НКВД СССР 10.35–07.37; опер. уполн. 11 отд-я 4 отд. ГУГБ НКВД СССР 01.08.37–28.03.38; опер. уполн. 11 отд-я 4 отд. 1 упр. НКВД СССР 28.03.38–29.09.38; опер. уполн. 11 отд-я 2 отд. ГУГБ НКВД СССР 29.09.38–07.01.39; нарком внутр. дел Дагестанской АССР 07.01.39–26.02.41; нарком ГБ Дагестанской АССР 26.02.41–31.07.41; нарком внутр. дел Якутской АССР 31.07.41–09.41.
Приказом НКВД СССР от 06.10.41 исключен из списков личного состава НКВД за смертью.
Звания: сержант ГБ; мл. лейтенант ГБ 05.11.37; капитан ГБ 07.01.39 (произведен из мл. лейтенанта ГБ); майор ГБ 30.04.39.
Награда: орден Красной Звезды 26.04.40.
(Из книги: Н.В.Петров, К.В.Скоркин. "Кто руководил НКВД. 1934–1941")
* * *Мама моя – Пелагея Андриановна, урожденная Новикова, родилась в деревне Подомариха Онежского района Архангельской области 20 октября 1898 года. Отец ее – Новиков Андриан и мать Евдокия Михайловна Новикова жили в Подомарихе. Дедушка умер рано, а бабушка умерла в 30-е годы. Детей у них было много, но некоторые умерли маленькими. Дядя Саша умер уже взрослым, а дядя Коля, наверное, погиб на войне, так как он из деревни уехал в Архангельск и мы о нем больше ничего не знали, хотя мама разыскивала его, но безрезультатно.
Мама вышла замуж за отца в 16 лет. Отец был вдовцом, жена умерла, а за вдовца богатые невесты не шли. Мама была из бедной семьи и посватали ее. Раз отец, в основном, работал на отхожих заработках – бурлачил, как у нас говорили, то, чтобы хозяйство содержать да за матерью (моей бабушкой) присматривать нужна была молодая хозяйка.

Родители нашей мамы: папа – Палкин Платон Степанович, мама – Палкина (Новикова) Пелагея Андриановна. Фото из личного архива автора.
У мамы было четверо детей – я, Миша и Шура Палкины от первого брака и брат Коля Пономарев от второго. Хозяйство маме вести было, конечно, нелегко, так как нужно было обрабатывать землю, растить хлеб, ухаживать за скотом (лошадь, корова, овцы, куры), да нас растить. Мама первые годы не была хозяйкой в доме, так как живы были бабушка и тетки. Она была как работница. Расход вела бабушка, маме не доверяли. Когда у бабушки здоровье стало слабым, мама потребовала у отца, чтобы расход он доверил ей (отец, видимо, был слабохарактерным и перечить своей матери не мог). Только после этого мама стала хозяйкой и ей разрешалось сидеть за самоваром и наливать чай всем семейным – до этого она такого права не имела.
В годы гражданской войны маму гоняли на фронт, который проходил повсеместно на поморском Севере – по реке Онеге и по линии железной дороги на Мурманск и Архангельск. Деревни наши занимались то красными, то белыми. Особенно тяжелые бои были в окрестностях деревни Турчасово, там еще долго потом сохранялись окопы и проволочные заграждения. Много было потоплено антантовского оружия и боеприпасов под деревней Подомарихой. Когда белые отступили – от деревни Чекуево до станции Обозерской – мама по мобилизации ездила так далеко. Мужчины воевали, а женщины возили раненых. Так было несколько раз, а я все это время жила с бабушкой Феодосией, матерью отца.
В 1920 году родился брат Миша, а в 1924 году сестра Шура. Мама еще долго была под контролем сестер отца и тетки Табаренки – это, видимо, сестра матери отца, звали ее Евдокия. Она жила одна и иногда приходила к маме, все командовала. Однажды мама мыла пол, а тетка пришла к нам и стала чего-то требовать. Мама выгнала ее ухватом, кончилось терпение.
* * *Когда отец приезжал осенью после навигации домой, то это был великий праздник. Он был очень аккуратный, экономный, хозяйственный. Привозил деньги, разные подарки, особенно много отрезов ткани. Даже маме однажды привез мандолину, на которой она иногда играла, а мы с удовольствием слушали. Когда он приезжал, то тут как воронье слетались его сестрицы. Платоша был должен с ними чем-нибудь поделиться, а они готовы были все забрать. Мама, конечно, переживала, но против таких властных, как тетка Марина, она не могла воспротивиться. Ведь у ней тоже семья, всех надо было обуть и одеть, а впереди зима и лето, то есть почти целый год. Приходилось со всем мириться, такова была жизнь.
В 30-е годы мама в числе первых вступила в колхоз и, будучи застрельщиком в этом деле, помогала организовать коллективное хозяйство – вступали-то не все. Женщина она была активная и ее избрали бригадиром колхозников, проживающих в деревнях Окулиха и Малая Шаркова. Работа была не из легких, а в 30-е годы и людей в деревне становилось все меньше и меньше. Целыми семьями уезжали в города – в Онегу, Архангельск, Ленинград.
Потом мама была принята в члены ВКП(б). Так как в нашей местности была развита лесная промышленность, были организованы леспромхозы и план заготовки леса надо было выполнять любыми средствами – на лесозаготовки гоняли и женщин. Случалось, что мама не могла никого направить из бригады и ей приходилось ехать самой. Непосильный, неженский, тяжелый труд, скудное питание изнуряли людей. Мама в лесу заболела и выехала домой. За что была наказана – исключена из партии.
Годы жизни в колхозе были очень тяжелыми. Работали за палочки-трудодни, отца уже не было, непосильные налоги доводили людей до отчаяния. Молока надо было сдать государству 500 литров, сдавали яйца, шерсть, масло (его своего не было, так покупали и все равно сдавали). Жили только тем, что выращивали на огороде – капуста, брюква, лук, картофель. Сеяли рожь и ячмень, из которых потом делали муку и крупу. Летом на каникулах я ежедневно ходила за три километра, носила на приемку по пять литров молока в большом тяжелом медном чайнике, а обратно несла молочные отходы – обрат, из которого мама на ужин варила «мучёнку», то есть жидкий молочный суп из муки. Масла, яиц нам тоже не доставалось.
* * *Когда умер Колин отец – дядя Ефим Пономарев – мама жила одна, потом со мной, затем с Николаем. Вечная труженица! – сколько она вынесла за свою жизнь, даже пенсии не получала за погибшего на Отечественной войне сына Михаила. Какая несправедливость! Умерла мама 25 декабря 1960 года и похоронена на кладбище, расположенном между деревнями Копыловкой и Катышихой недалеко от своей родины Подомарихи.
Моя младшая сестренка Шура умерла в девять лет от дифтерии. Заболела, наевшись снегу, идя домой из школы, так как в школе не могла пробиться к бачку, чтобы попить водички. Медицина (фельдшер) в деревне не смогла оказать ей помощь. Она была девочка скромная, ласковая. Даже в школу пойдет, то обязательно с улицы постучится в окошко, чтобы проститься с дорогой мамочкой. Пока болела, кот Мурка не отходил от нее, они очень были привязаны друг к другу. Шура говорила: «Вот, мурушка, заболела Шурочка, не поймает тебе теперь широчек» (это были бычки-подкаменщики, которых мы ловили для кошек вилками). Или: «Нету у нас фотокарточки, так и не узнает какая я моя креснинька» (это она про меня так говорила, я в то время училась в Вологде).
Когда мама поняла, что Шура безнадежна, то спросила у нее: «Что Шура ты накажешь нам?»; она всех перебрала по отдельности и пожелала: «Пусть живут хорошо». Тогда мама спросила: «А что Шуре Дружинину (мальчику-соседу) накажешь?». Она ответила: «А ну его, Шурка-башурка, он только бугорки наши ломал, да дрался». В последние сутки спросила у мамы: «Мама, скоро ли семь часов?». И так не один раз спрашивала: «Мама, все еще не семь?». Как будто знала – предсказала время своей кончины. В семь часов утра и скончалась. Так не стало моей маленькой сестренки. Вечная ей память!
* * *Брат Миша родился в ноябре 1920 года. Все его детство тоже прошло в деревне. В школу он пошел очень маленьким, ему не было и семи лет. С первого по третий класс он ходил в деревне Юхновка, это в двух километрах от нашей деревни, в четвертый класс ходил в деревне Прошкова, в пятом классе учился в Онеге, где жили отец и я училась, шестой и седьмой классы заканчивал в деревне Турчасово, это в десяти километрах от дома. Мища рос спокойным, дисциплинированным мальчиком. Был трудолюбив, скромен. Всегда помогал маме: ловил дрова на реке, пилил их, ловил рыбу, помогал по хозяйству. После окончания семилетки поступил в Вологодский ветеринарный техникум.
Годы учебы были очень трудными. Жили на одну стипендию, так как мама почти совсем не могла нам помогать. Я теперь даже представить не могу, как мы учились! Придет Миша ко мне в гости, проведать, а мне и угостить его нечем. Принесу свои двести грамм от обеда или ужина, да приготовлю стакан киселя (из сухого киселя-экстракта) – вот и было все угощение.
После окончания техникума Миша был направлен на работу в Грязовецкий район, откуда и призван затем в армию. Первые годы в армии совпали с окончанием войны с Финляндией, поэтому какой-то период ему и его товарищам пришлось очищать поля боев от трупов лошадей. Затем служил в Белорусии в городе Лепеле Витебской области. В 1941 году от него пришло письмо, в котором он написал такие слова, которые я никогда не забуду: «Едем в западном направлении – зачем? – сами догадывайтесь».

Мой родной дядя, мамин брат – Палкин Михаил Платонович (1920-1941). Фото из личного архива автора.
Письмо я получила 21 июня, а 22-го началась война. Они, вернее, его часть, приняли первые бои. Так и погибли бедные двадцатилетние парни, не успевшие еще пожить. Больше от Миши не было ни одной весточки. Где он похоронен мы и не знаем, в похоронке только и было написано «пропал без вести». Так не стало у меня и брата. Только осталось его имя, которое с честью и заслуженно носит мой сын Михаил.
* * *Где я родилась – уже писала. Детство мое прошло в деревне Окулиха. Местность наша красивая, живописная – открытая река, на которой стояла наша деревня, называется Онега. Берег ее пологий, каменистый. Около воды всегда рос кустарник из ивы, листья которой летом мы всегда заготовляли на корм овцам для зимы. Теперь тальника нет, он не растет, так как во времена ледоходов на реке вся растительность льдом срезалась.
Во время ледохода уровень воды в реке Онеге сильно поднимался и на нашем низменном берегу всегда нагромождались горы льда. Лежали они до тех пор, пока их не расстопляли весенние солнечные лучи. Река во время половодья так разливалась, что в школу ездили на лодках прямо от нашего дома.
Онега-река всегда была любимой и необходимой в жизни крестьян. В реке ловили рыбу: мы, дети – мешковиной, взрослые – сетями и неводами, на острогу, уромным деревом, на продольник, на дорожку и удочкой. Рыбы было много и разной – плотва, туржа, щука, сиг, окунь, пескарь, лещ, семга. А теперь, когда почти всё русло реки забито топляками (утонувшим во время молевого сплава лесом), рыбы почти нет – нет условий жизни для нее. Да и моторные лодки, катера, «ракеты» снуют круглосуточно. А какая вода в реке грязная, даже для питья-то малопригодная. Весной луга посыпают минеральными удобрениями, а во время дождей все эти нитраты стекают в ручьи, а из них в реки. От построенных «ёлочек», где производится летом дойка коров, весь навоз тоже стекает в ручьи и реки. В общем экология нашего края тоже нарушена как и везде повсеместно.
Рыбу ловят еще на озерах – Мешкозеро, Уровское, Низкое, Васильевское, Кенозеро, Шардозеро и др. На дальние озера рыбаки ходили пешком за 30–40 километров, чтобы наловить рыбы побыстрее и крупной. Озера были богаты рыбой, даже сказочно богаты. По реке ездили и за грибами на лодке или за Меньшачиху (деревня на противоположном берегу), или за речку Игрему. Река Игрема течет из лесных болот и озер за деревней Хлупоногой, которой теперь нет и в помине. Люди все выехали из этой, так называемой «неперспективной» деревни, и теперь осталось пустое место, да в памяти старожилов одно название. В этой деревне жили прекрасные труженики, растили хлеб, скот, кормили семьи, строились, рожали детей, пожилые умирали, парни женились, девушки выходили замуж. И не знали никогда о том, чтобы хлеб покупать в магазиге, а тем более ввозить его из-за границы. Это были настоящие хозяева своей земли. Теперь об этой деревне напоминают лишь фамилии людей, которые носят одноименное название с деревней – Хлупоновские.
За деревней Меньшачиха, домов три или четыре, протекал ручей, который назывался Копанец. Или люди его искусственно раскопали, или природные воды, текущие также из болот и озер, но он проложил себе дорогу до реки Онеги. На этом ручье, полноводном весной и осенью, была построена водяная мельница, которая обслуживала население Городка. Это был наш сельский совет (сельсовет), включающий все деревни по обе стороны реки Онеги в радиусе десяти километров.
Кстати, напомню, какие были деревни в Городковском сельсовете. На левом берегу реки были следующие: Хлупонога, Окулиха, Малая Шаркова, Юхновка, Тепягина, Заручьевье, Таборы. На правом берегу – Матвеевка, Меньшачиха, Подлесье, Прошкова, Заозерье, Глухова, Рослая Гора, Большая Шаркова, Филипповка, Острый Конец. Всего семнадцать деревень. Проживали в них до коллективизации тысячи людей, а теперь во всем Городке живут только несколько десятков семей. Страшный парадокс!
* * *Река Онега – единственный путь, связывающий деревни между собой. По реке на лодках ездили в магазины в Ярнему и Турчасово, на почту в деревню Прошково. Весной и осенью в половодье ходили от деревни Порог до Ярнемы пароходы. На моей памяти плавал пароход «Онега» – такой маломощный пароходик-трудяга. Он много лет служил для народа: перевозил пассажиров, груз, почту. Он от деревни Порог до деревни Ярнема плыл 15 часов, а теперь ходит «Заря», она это расстояние преодолевает за два-три часа. Пароход «Онегу» сменил пароход «Лев Толстой». Ну а если вода спадала, особенно когда лето бывало жаркое, недождливое, то на пароходе ходили до деревни Фёхтальма или до деревни Прилуки. Это от нас – я имею в виду деревню Окулиху – километрах в 18–24. Тогда к пароходу добирались или на лодках с веслами, или на лошадях (вначале на дровнях, а потом, когда уже появились телеги, то на телегах).
К пароходу всегда ехали вечером. Ночевали в деревне, так как на пароход не пускали. В половине четвертого утра пароходный гудок звал пассажиров на посадку. Затем следовал гудок в 3 часа 45 минут, а 4-х часовой – это уже отчаливали и пассажиров ожидал долгий утомительный путь до деревни Порог. А оттуда или в город Онегу на берегу Белого моря, или в Архангельск, Мурманск или Плесецк (где в начале семидесятых был построен Плесецкий космодром).
Теперь на родину можно приехать через железнодорожную станцию Вонгуда, здесь же в деревне Порог сесть на «Зарю». Или из Архангельска самолетом АН-2, который летит по маршруту Архангельск-Ярнема-Каргополь. И еще от станции Плесецк ходят два автобуса по маршрутам Плесецкая-Улитино или Плесецкая-Ковкула (через Савинское, Ярнему, Городок, Турчасово). Самолеты, правда, теперь не летают.
Мы жили в лесной зоне и лес, который окружал нас, был тоже вечным и надежным кормильцем. Из леса строили дома, бани, амбары, мосты. Делали всю домашнюю утварь, дровни, телеги, дуги, санки, топорища, прялки, заготавливали веники, метлы, веточный корм. Долбили челна, делали лодки, весла к ним. Городили из жердей и кольев изгороди, остожья, прясла. Плели корзины. В нашем заулке стояло приспособление для гнутья полозьев для дровней.
* * *А какой лес! Стройные сосны, ели, лиственницы, береза, ольха, осина, черемуха, рябина, калина и т.д. А сколько черной и красной смородины, шиповника, малины, можжевельника. Ягоды собирали уже в августе – чернику, голубику, бруснику, малину, морошку, клюкву, землянику. Лес был богат дикими животными и пернатыми. Водились лисы, рыси, куницы, белки, горностаи, волки, медведи, лоси, глухари, тетеревы-косачи, рябчики, куропатки и т.д. А сколько было грибов, рыбы в лесных озерах и речках! Теперь как будто все вымерло – лес вырубили, стоят одни пеньки и валяется оставленный лесорубами мусор…
Мне даже во сне снятся все тропинки и дорожки, по которым мы ходили в лес по грибы и ягоды, на покосы, в навины убирать урожай хлебов. Как сейчас помню, чтобы попасть на наш «билет» (это расчищенная территория в лесу, вспаханная и огороженная изгородью; его еще называли по фамилии владельца – Палкинский, Дружинински и т.д. билет), надо было из деревни пройти по улице через «павну». Улица была отгорожена изгородью справа и слева, чтобы скот не попал на покосы и поля. Павна – это старое русло реки Онеги, текла она давным-давно по этому месту. Потом она – эта старица – заболотилась, поросла травой-осокой: для скота сено из этой травы было неаппетитным, но все же его скармливали, так как зимой «на безрыбье и рак рыба».
Чтобы попасть в лес или навины, еще первые жители здешних мест – крестьяне – сделали дороги. Летом ездили по этой улице, а зимой дорога шла через павну по зимнику, который устанавливался лишь после больших морозов, потому что в павне были зыбуны, в которые могли провалиться или коровы, или лошади и даже человек. Через полкилометра местность возвышается, поскольку это бывший левый берег старого русла, да и местность у нас вообще холмистая.
При подъеме начинаются навины. Справа – Басолей, слева Маленькая Навинка, дальше Большая Навина, Пусты. Здесь росстань, т.е. дороги идут в трех направлениях. Направо – в Наволок, куда гоняли стадо коров на пастбище по лесной дороге и можно было попасть в любую из перечисленных деревень по левому берегу реки. Прямо – дорога шла на Пысому (пять километров) и далее на Шомокшу (12 км). Налево – дорога в направлении к нашему «билету» мимо Дюжаковщиных, Уйды и др.
«Билет» наш находился далеко, около клюквенных болот, так как отец его разрабатывал уже, наверное, в последнюю очередь. Дорога шла сначала по полям, местность была открытая, веселая: везде колосились хлебные нивы ячменя, ржи, овса, гороха. А потом – лесом. Мне всегда было жутковато идти по этому отрезку пути – тёмному, даже угрюмому, лесу. Но когда лес кончался, то мы, перемахнув по маленькому мостику через ручей, выходили на полянку.
Сколько было радости и удовольствия, что мы у цели! Первым делом мы всегда пили водичку из ручья, который вытекал из болота. Вода прохладная, утоляла жажду, а цвет ее был как чай, но очень вкусная. На «билете» у нас был покос небольшой – косили траву и заготавливали сено для скота. А также здесь была пашня, где сеяли рожь, ячмень и овес. От леса «билет» был отгорожен изгородью от потравы скотом посевов. За изгородью было болото без конца и края, где росло много клюквы и морошки.
* * *Наша деревня, где раньше было девять дворов, а теперь осталось шесть, еще сохранилась, но в ней живут только летом, а зимой даже нет дороги, да и некому ее поддерживать. Нет лошадей, пожилые люди не в состоянии торить ее, а молодежь вся выехала в те населенные пункты, где есть магазины, школы, почта и самое главное – работа. В нашей местности на пятидесяти километрах было 15 колхозов, а теперь их всех объединили в один совхоз животноводческого направления. Теперь вот и скот весь уничтожили.
Что меня поразило – я приезжала на родину в 1990 году – это то, что все посевные площади заброшены и превращены в пастбища. На такой, прежде плодоносной земле, не сеют ни одной злаковой культуры. А ведь какой был богатый край! Каждый хозяин держал скот, косил сено, имел огород и пашни. Все обеспечивали свои семьи хлебом и овощами, заготавливали грибы и ягоды. Хлеб никогда не покупали в магазинах, а тем более не надеялись на заграницу, свой продавали (это до колхозов) и жили справно. До тех пор, пока не появились колхозы, которые разорили деревни и людей. Какие получились результаты от коллективизации я уже писала, да вы и так все прекрасно знаете…
А какие люди жили в нашей деревне! Котов Александр Харлампьевич с сыновьями Иваном, Матвеем и Павлом. Дружинины – Григорий Михайлович, Федор Михайлович, Андрей Михайлович, Иосиф Дмитриевич. Талецкая Мария Сергеевна. Мой отец – Палкин Платон Степанович. Мужчины и женщины были очень дружные, уважали друг друга, не ссорились. Многих уже нет в живых, остались лишь их дети и внуки, которые покинули свои гнезда или продали свои дома. Если и остались которые, то они как память о том, что здесь когда-то жили прекрасные люди-труженики…
* * *Немного о себе и своей семье. В первый класс я пошла в 1924 году в деревне Таборы, которая от нашей деревни находилась в трех-четырех километрах. Ежедневно такие маленькие человечки утром шли в школу, а вечером обратно. Учил нас учитель-мужчина, конечно точного имени и отчества его я уже не помню, кажется Иван Васильевич. Во второй класс пошла в школу, которая находилась от нас в двух километрах в деревне Юхновка. Школа была в большом двухэтажном, наверно бывшем купеческом богатом доме. Там же я училась и в третьем классе. В четвертый класс я пошла уже в школу, которая была за рекой в километре от дома в деревне Прошково. Школа была двухкомплектная. Тут и прошло мое детство. Зимой – школа, а летом нянчилась с братом и сестрой. Здесь я вступила в пионеры, была активной участницей художественной самодеятельности.
В те годы шла волна борьбы с религией, нам не разрешали ходить в церковь, даже выходной день был в четверг. Церковь, такую красивую, закрыли и в ней вначале был устроен склад, а потом превратили в конюшню. Такое было страшное время. И теперь еще стоит эта церковь, но от нее осталось одно название – вконец обшарпанное здание, посеревшее, разграбленное. Теперь старушки, да и молодые помолились бы, но восстановить церковь нет средств, а жители-прихожане рады бы помочь, да нечем.
Окончив в 1928 году четвертый класс, я должна была учиться в пятом классе, но учиться надо было в деревне Клещево, это в тридцати километрах от нашей деревни. Меня не приняли, так наше хозяйство считалось середняцким, а не бедняцким. И начались мои скитания по миру…
* * *В августе, собрав короб с пожитками, мама отвезла меня в деревню Фёхтольму, посадила на пароход «Онега» и поехала я к отцу грызть гранит науки в городе Онеге. Целый день пароход плыл до деревни Порог, а вечером с попутчиками я поехала в этот город, до которого было 25 километров. Отец жил в общежитии, а меня на квартиру устроил его знакомый.
В Онеге я окончила семь классов, последний год училась без отца, он умер летом, когда я закончила шестой класс. Жила то на квартире, то в интернате, где жили дети коммунаров-колхозников. Тот год был очень трудный. Хлеб давали по карточкам, мне полагалось 200 грамм. В интернате меня не кормили, так как я была не из коммуны. Мне только разрешалось утром, днем и вечером брать лишь стакан чая с солью. В большую перемену в школе было организовано чаепитие, давали один стакан чая и 200 грамм хлеба – вот и вся радость.
А кушать-то все равно хочется. Тогда, отнеся сумки с учебниками в интернат, подружки – спасибо им за это – забирали меня и мы шли в столовую, где работали их старшие сестры или знакомые. Из жалости к нам, рискуя поплатиться работой, они выносили нам по тарелке супа. Это был для нас праздник, но завтра опять кушать надо. В такой день я хлеб не выкупала, копила до 400 грамм. Иногда после школы бежали обратно в школу на разведку – не осталось ли хлебушка от чаепития. Технички-уборщицы были люди честные, оставляли хлеб и мы имели таким образом возможность дополнительно раздобыть еду.
Вот так – тяжело и трудно – проходил тот учебный год. Но мы, дети, не унывали, активно участвовали в пионерской и тимуровской работе, обучали неграмотных. В школе была «Живая газета» и мы в интернате организовали свою. Весь монтаж нам готовил культработник Коммуны Саша Сажин. Мы готовились, репетировали, сочиняли частушки на «злобу дня», критиковали недостатки в Коммуне и ехали за восемь километров выступать. Нас очень ждали и мы с удовольствием демонстрировали свои таланты. Нам аплодировали и кормили обедом. Руководителя у нас не было, мы все делали сами по своей неугомонной инициативе.
Однажды мы были приглашены в деревню Вордогоры – это на на крутом берегу Белого моря. Ездили туда зимой на лошадях за 30 километров, лошадей выделяла Коммуна. Взрослых с нами не было. Вот такие были самостоятельные и одержимые. Вся наша программа состояла из нескольких номеров:
1. Парад-антрэ со словами, движениями, гимнастическими упражнениями и декламацией.
2. Тематический, всегда новый номер, к 1 мая и 7 ноября. Или «Весенняя путина», так как там жили в основном рыбаки.