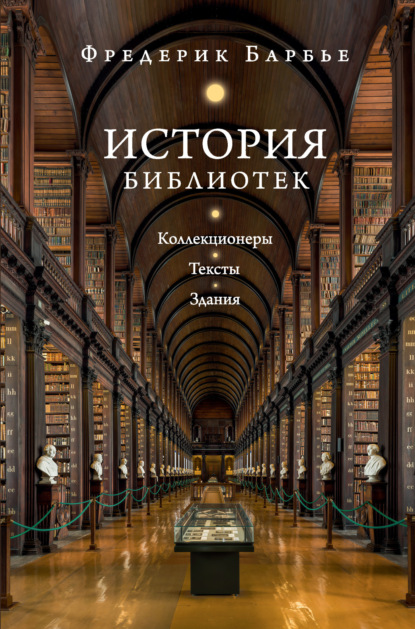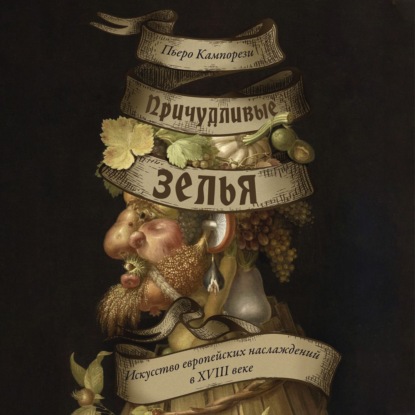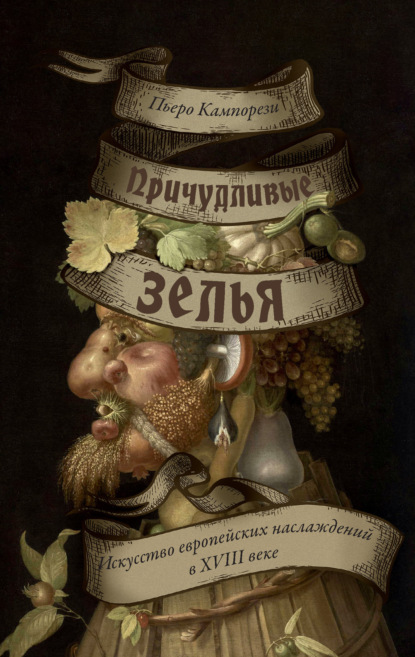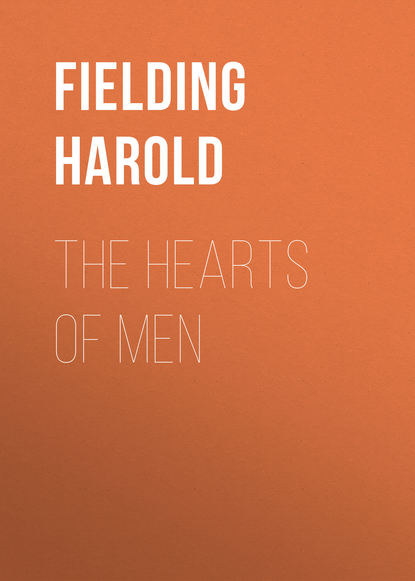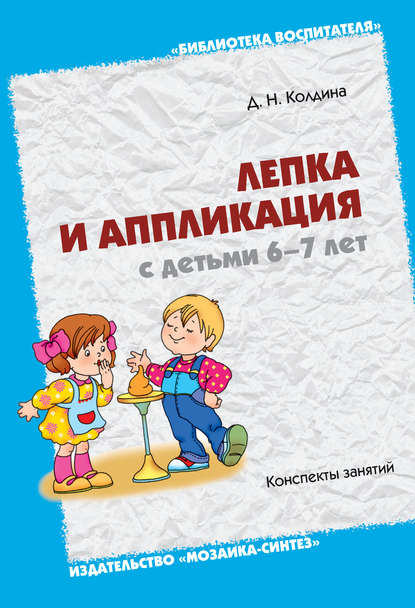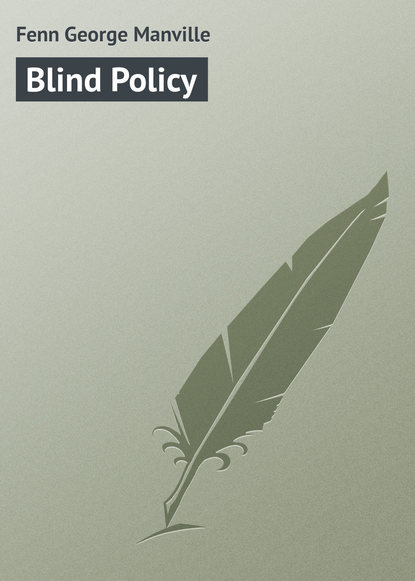Камень глупости. Всемирная история безумия
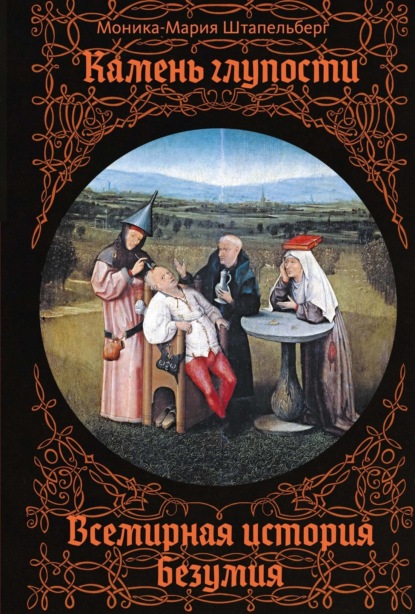
- -
- 100%
- +
Несмотря на столетиями сохранявшиеся суеверия, в древности медицина в целом стояла на структурированной и рациональной основе, какими бы странными ни были некоторые из теорий. Из этих рациональных представлений выросла гуморальная теория. Ее влияние доминировало в медицине и в том, как она понимала человеческое тело, на протяжении тысячелетий до становления контролируемой эмпирической науки. Гуморальная теория, вероятно, развилась, так как практически всем болезням и симптомам она могла дать хоть какое-то простое обоснование. Хотя она практически бесполезна, в эту теорию «на протяжении почти 2000 лет верили и действовали на ее основе и врачи, и представители других профессий, не считая ее <…> сущей чепухой» [3].
Для того чтобы понять медицину древних времен, необходимо изложить гуморальную теорию, поскольку именно она формировала диагностическую и терапевтическую основу для всех физических, а также психических заболеваний вплоть до середины XIX века. Гуморальная теория основывалась на представлении, что вся материя во вселенной, включая человеческое тело, состоит из четырех элементов: огня, воздуха, воды и земли [4]. Эта модель, конечно, была в значительной степени адаптирована ко многим человеческим реалиям: временам года, ветрам, стихиям, а также движениям небес. С этой системой убеждений переплеталась идея, обычно приписываемая греческому врачу Гиппократу: человеческое тело содержит четыре основных элемента в форме жидкостей. Она предлагала логическое обоснование, согласно которому человеческой личности, предрасположенности, а также всем болезням можно было найти объяснение, а недомогания и расстройства приписывались дисбалансу четырех жидкостей.
Понять это проще, если принять во внимание, что слово «гумор» произошло от латинского umorem, означающего «жидкость». Считалось, что «тело подвержено ритмам развития и изменения, определяемым основными жидкостями, содержащимися в кожной оболочке; здоровье и болезнь являются результатом изменения их баланса» [5]. Гиппократ заметил, что кровь, извлеченная из тела, разделяется на четыре части: черное вещество, которое оседает на дне; красная жидкость; белая материя, окрашивающая красную жидкость; и желтоватая жидкость сверху. В древности врачи классифицировали их как четыре основные жидкости организма: черную желчь, кровь, флегму [6] и желтую желчь [7, 8].
Древняя медицина известна нам в основном по греческим и латинским медицинским трактатам, начиная с греческого «Корпуса Гиппократа» (ок. 410 до н. э.) и заканчивая византийскими медицинскими сборниками (ок. 400). Среди многочисленных задокументированных и описанных заболеваний психические расстройства, такие как мания и меланхолия, не считались отдельными медицинскими категориями. Все медицинские расстройства рассматривались как недуги тела. Другими словами, в этих текстах не было общепринятых терминов для «психических заболеваний» или древнегреческих и латинских слов, обозначающих «безумие» или «психоз» [9].
Что касается безумия или психоза, Гиппократ настаивал на том, что все психические состояния можно объяснить физическими причинами. «Полезно также знать людям, что не из иного места возникают в нас удовольствия, радости, смех и шутки, как именно отсюда (от мозга), откуда также происходят печаль, тоска, скорбь и плач; <…> от этой же самой части нашего тела мы и безумствуем, и сумасшествуем, и являются нам страхи и ужасы, <…> а также сновидения и заблуждения неуместные, заботы беспричинные; отсюда также происходит у нас незнание настоящих дел, неспособность и неопытность. И все это случается у нас от мозга, когда он нездоров»[5] [10]. В случае безумия причиной считался дисбаланс жидкостей или гуморов, «поднимающихся» к мозгу. «Таким образом, медицина исключает сверхъестественное по определению» [11].
Термин «психиатрия» буквально означает «медицинское лечение души или разума». Предшественником современного понятия «разум» является древнегреческая концепция «души» (psykhē), с помощью которой досократовские мыслители (VI–V вв. до н. э.) различали то, что живо, и то, что мертво. Они могли понимать выражение «он испустил дух» в буквальном смысле – его душа покинула тело. Позже, начиная с Платона (ок. 427–348 до н. э.), философы стали задавать более сложные вопросы о том, как люди чувствуют, думают, принимают решения, а также приобретают знания и удерживают их в памяти.
В древние времена не доктора, а философы были известны как «врачи души». Эллинистические философские школы подробно рассуждали о «болезнях» души – негативных эмоциональных предрасположенностях, которые считались вредными для человеческого счастья и удовлетворенности. Древняя философия поощряла свободу от всех страхов, тревог и неудовлетворенности. Считалось, что это состояние «свободы» поддерживает гармонию и хорошее здоровье тела и разума, о чем свидетельствует классическая латинская фраза mens sana in corpore sano, означающая «в здоровом теле здоровый дух». Считалось, что хорошее физическое здоровье зависело от баланса тела, регулируемого четырьмя гуморами.
Согласно Платону, «болезни души», которые он описывал как моральные недостатки, в идеальном обществе должны быть искоренены. Это способствует эмоциональной стабильности, самообладанию и благополучию всех граждан, отчего улучшается их физическое и психическое здоровье. Однако те, кто психически нестабилен или сошел с ума из-за физических болезней, должны находиться под строгим надзором своей семьи [12, 13].
Платон поместил физическое средоточие мышления, интеллекта, осознанности и понимания в голову, в отличие от представителей других философских школ его времени, которые придерживались кардиоцентрической модели. Следовательно, психические заболевания проистекали из головы, где испорченные и неправильно расположенные гуморы отравляли физическое вместилище разума и отрицательно влияли на него. Платон подчеркивал, что безрассудство – состояние, в котором рациональная душа или интеллект не функционируют должным образом, – может быть вызвано различными физическими нарушениями. Он считал, что даже естественный рост физического тела подавляет рациональное мышление, поэтому дети становятся полностью рациональными только после того, как перестают расти [14]. Он советовал поддерживать крепкое здоровье, активно занимаясь умственными и физическими упражнениями.
В отличие от Платона, его ученик Аристотель (384–322 до н. э.) считал физическим центром интеллекта и восприятия сердце. Соответственно, Аристотель предположил, что психические расстройства зарождаются в области сердца. Однако он также утверждал, что в психических расстройствах равную роль может играть мозг, поскольку именно он, будучи самым холодным органом тела, компенсирует жар и сухость сердца. Но если мозг перестает выполнять свою регулирующую функцию, это приводит к «болезням, безумию и смерти» [15].
Столетия спустя, когда Рим стал доминировать над большей частью цивилизованного мира (ок. 260 до н. э.), врачи, поддерживающие греческую традицию, продолжали отстаивать теории о медицине и психических расстройствах.
В своих знаменитых работах «О причинах и симптомах острых и хронических болезней» и «О лечении острых и хронических болезней» греческий врач Аретей из Каппадокии (жил во второй половине II в.) различал нервные заболевания и психические расстройства, а также описывал истерию, манию и меланхолию. Он утверждал, что эмоциональные состояния были просто усиленными или утрированными преобладающими чертами характера – новая концепция для того времени. Он также установил, что симптомы мании и депрессии могут проявляться у одного и того же человека [16], тем самым на много столетий предвосхитив открытия немецкого психиатра XIX века Эмиля Крепелина (1856–1926), что мания и меланхолия являются частью одного и того же расстройства, а именно биполярного [17].
Известный греческий врач Гален придерживался теории Гиппократа о четырех жидкостях, но затем расширил эту концепцию, включив в нее различные темпераменты и определенные комплекции людей. Кроме того, он также связал каждый гумор с органом его формирования и с определенным временем года. Например, черная желчь была связана с селезенкой, осенью и меланхолическим состоянием. Она вызывала грусть, депрессию и беспокойство, а также была причиной коварства и трусости. Считалось, что у меланхоликов темная кожа и волосы. Такие сложные классификации применялись ко всем четырем гуморам. В наше время остатки гуморальной теории все еще живут в терминах «меланхолик», «сангвиник», «флегматик» и «холерик», которые мы используем для описания различных темпераментов. По-английски также до сих пор можно сказать, что человек в «хорошем или плохом гуморе»[6], говоря о его настроении.
Гален не говорил о психических заболеваниях как таковых, но противопоставлял мыслительные функции, такие как память, мышление и восприятие, физическим. Неспособность проявлять любую из этих нормальных человеческих функций была равносильна медицинскому диагнозу. Согласно энцефалоцентрической модели, он поместил «функции основных способностей» – физический центр познания и восприятия – в мозг, «утверждая, что он действует через нервную систему и вещество, называемое психической пневмой, содержащееся в желудочках мозга и в нервах» [18].
Согласно взглядам Галена, лечение психических заболеваний заключается в устранении доминирующего физического дисбаланса жидкостей организма с помощью кровопускания и слабительных средств. Эта точка зрения доминировала в рекомендациях по лечению как физических, так и психических заболеваний на протяжении почти двух тысячелетий.
С крахом Римской империи в V веке н. э. греко-римская медицинская культура переместилась в Византию. Изучение медицины в Европе пришло в упадок, и фактически несколько столетий систематического изучения медицины там не существовало. Однако в VII веке в результате роста исламской культуры все изменилось.
В позднем Средневековье врачи из исламских стран пользовались большим уважением, и заслуженно, поскольку изучение и практику медицины в то время возглавляли мусульманские общества на своих обширных территориях, простирающихся от современной южной Испании до Ирана [19]. Исламская средневековая медицина сохранила и структурировала медицинские знания классической Античности, включая труды греческих врачей Гиппократа, Галена и Диоскорида. Между 600 и 1200 годами исламская средневековая медицина была самой развитой и сложной в мире, включала в себя теории и труды древнегреческой, персидской, а также индийской аюрведической медицины. Европейские врачи познакомились с трактатами исламских авторов в период Возрождения и вместе со знаниями древней классической медицины внедрили эти теории и принципы в западную медицину [20].
Средневековая концепция безумия и «безумных слов»
Из-за предполагаемой связи с одержимостью безумие веками считалось чем-то глубоко постыдным. Сумасшедших боялись и избегали. В древние времена греческие и римские законы стремились не допустить, чтобы психически неуравновешенные навредили жизни, здоровью и имуществу других, и поэтому возлагали ответственность за них на опекунов. «Сумасшедшие не должны показываться в городе, – писал Платон в «Законах». – Их близкие пусть охраняют их в своем доме как умеют»[7] [21]. Другими словами, ответственность за безумного возлагалась на его семью. Также было и в Средние века: безумные люди и «деревенские дурачки» находились под присмотром или «содержались» своими семьями. Однако часто этих несчастных запирали в подвалах или свинарниках или отправляли просить милостыню, тем самым увеличивая количество нищих, бродящих по дорогам. «Формальная сегрегация начала развиваться к концу Средних веков, часто под влиянием христианского долга милосердия. Иногда сумасшедших запирали в башнях или темницах под надзором общественности» [22]. Лечебницы существовали со времен Средневековья, но эти учреждения имели только функцию опеки – изначально пациентам не предоставляли никакого лечения.
Средневековая народная мудрость гласила: «Безумие видно сразу» [23] – точка зрения, которая была подкреплена и подчеркнута художниками и писателями. Следовательно, больные, как правило, изображались странными, неопрятными и «дикими», в изношенной или совсем рваной одежде. Дурака часто изображали с камнем, торчащим изо лба, как бы говоря: «Изъян его был <…> на лице написан» [24]. Этот гипотетический камень, «камень глупости» или камень безумия, считался причиной безумия, идиотии или деменции, и предполагалось, что он находится в черепах у тех, кто страдает психическим расстройством. Знаменитая картина фламандского художника Иеронима Босха (ок. 1490) изображает хирурга-шарлатана, вырезающего «глупость» из головы Лубберта Даса – фольклорного дурака[8].
Лучше понять средневековое и более позднее использование терминологии в отношении психических заболеваний можно, изучив основную терминологию, используемую на протяжении веков. Уже в конце XIII века английское слово mad («безумный», от староанглийского gemædde) описывало человека, «путающегося в мыслях, слабоумного», а также кого-то «безрассудного и очень глупого». Далее Георгианская эпоха (с 1714 примерно по 1837 г.) дала нам ряд слов, наиболее часто используемых в английском при описании психического заболевания: «сумасшедший» – crazy (с конца XVI в. craze означает cracked, «полный трещин») и «безумный» – insane (от латинского insanus – «нездоровый»).
Также появились «лунатик» (lunatic) и «лунатизм» [9](lunacy) от латинского luna, то есть «Луна». «Лунатик» родился из веры в то, что движения и фазы Луны вызывали временное помешательство. Английская поговорка подтверждает бытующее мнение, что Луна оказывает влияние на людей: «Луна полна – разум угасает». Вызванное Луной безумие считали проявлением контроля Луны над всеми жидкостями тела, включая те, что находятся в мозге. Говорили, что психически неуравновешенные люди «действуют по воле Луны». В своей трагедии «Отелло» Шекспир ссылался на силу Луны, сводящей людей с ума: «Виновно отклонение луны: // Она как раз приблизилась к земле, // И у людей мутится разум»[10] [25].
Тенденция связывать психические заболевания с интеллектуальными нарушениями была широко распространена в Англии в Средневековье и более поздние времена. Тем не менее в середине XIII века появилось различие с юридической точки зрения: слабоумные с рождения были защищены законом, в то время как забота о «сумасшедших» оставалась преимущественно обязанностью их ближайших родственников – почти как в древнегреческих законах. Однако если семья не могла или не хотела содержать таких людей, эту задачу брали на себя власти.
В 1324 году король Эдуард II внес значительные изменения в права тех, кого считали «слабоумными» или психически больными. Законодательство постановило, что имущество «слабоумных от природы будет помещено под стражу Короны, чтобы ни они сами, ни их наследники не были ограблены» [26]. Тот факт, что закон называл таких людей «слабоумными от природы», тем самым проводя грань между умственной отсталостью и психическими заболеваниями, стал важной вехой в восприятии психических заболеваний в тот период. Другими словами, «слабоумные» теперь отличались от «сумасшедших». В интеллектуальной недостаточности умственно отсталого (изначально называемого «слабоумным от природы») виновата его наследственность, а «сумасшедшие», как считалось, потенциально могли восстановить дееспособность. «Сумасшедшего» описывали как человека, у которого «был разум, но из-за болезни, горя или другого происшествия он потерял способность его использовать» [27].
В XV веке, помимо терминов «слабоумный» и «сумасшедший», использовалось выражение «имбецил» (imbecile). Так называли тех, кто после рождения пострадал от когнитивных нарушений, таких как повреждение головного мозга вследствие болезни или травмы, – эти состояния, несмотря на то что они были хроническими, не считались столь же серьезными, как идиотия. «Термины “слабоумный” и “имбецил” были широко распространены и в XX веке» [28, 29]. В наше время такая терминология считается оскорбительной и уничижительной, и те, кого тогда признавали «идиотами» и «имбецилами», сейчас считаются людьми с ограниченными возможностями здоровья [30].
В XVI веке известный английский врач и астролог Ричард Нейпир «для описания мужчин и женщин, которые явно находились в состоянии помешательства, использовал три простых слова: “сумасшедшие”, “лунатики” и “безумные”, к которым позже добавил неоднозначный термин “не в себе”, чтобы описать состояния бреда по шкале от простой неуравновешенности до полной потери разума» [31].
Однако, несмотря на различные определения, различие между идиотией и сумасшествием «хотя и полезно, не обязательно прекращает отождествление умственной отсталости с психическими заболеваниями» [32]. Как упоминалось ранее, в народе идиотия и безумие веками оставались синонимами, и существовала хорошо известная, но ничем не подкрепленная максима, что дурак имеет привилегию говорить свободно, поскольку за свои слова ответственности не несет. При королевских дворах по всей Европе дуракам – часто это были придворные шуты – предоставлялась защита как невинным игрушкам короля, над которыми посмеялась природа [33]. Следовательно, при дворе к ним часто относились как к правдорубам [34]. В елизаветинские времена «изображение безумия было повсеместным» [35], и Уильям Шекспир рассуждал о природе безумия, а также его предполагаемых причинах, по крайней мере, в 20 из 38 своих пьес [36]. Стоит отметить, что в те времена «сцена кишела дураками и сумасшедшими» [37]. В пьесах Шекспира шуты имели право говорить практически все что угодно, и автор часто использовал их, чтобы невзначай раскрыть некоторые истины, прокомментировать социальные ситуации или чтобы просто рассказать своей аудитории какую-нибудь шутку.
Первые признаки растущего общественного интереса к безумию, по-видимому, были замечены в Англии в конце XVI века. «В конце XVI и начале XVII веков английский народ стал больше беспокоиться о распространении безумия <…>, чем когда-либо прежде» [38]. Возможной причиной растущего общественного интереса к этой теме в то время в середине XVI века было закрытие английских монастырей Генрихом VIII (1491–1547). «Монастыри были главным центром поддержки бедных и душевнобольных, и внезапно их прикрыли» [39]. Теперь несчастным приходилось бродить по деревням – об этом речь пойдет в главе 4.
Восприятие безумия в христианстве
Во всей средневековой христианской Европе считалось, что болезнь выполняет три основные функции. Во-первых, таким образом Бог испытывает мужество, дух и решительность человека, как в случае с библейским ветхозаветным персонажем Иовом, который с головы до ног покрылся язвами [40]. Во-вторых, болезнь также воспринималась как предостерегающий знак, призывающий раскаяться. Все несчастья, как отдельных личностей, так и всего общества или страны, обычно рассматривались как наказание или искупление за совершенные грехи. Лучше всего это убеждение отражено в словах летописца монастыря Питерборо, жившего в середине XII века. Он писал, что в течение 19 лет правления короля Стефана жители Англии страдали от непомерных налогов, голода, болезней, нищеты и мародерства, то есть «страдали за грехи свои». Как и голод, лишения и бедность, болезни тоже были неразрывно связаны с грехом [41]. И, наконец, болезни были Божьим наказанием, в основном (но не только) за грехи неверность и прелюбодеяние: «Господь поразит тебя безумием» [42].
В христианстве безумие рассматривалось и как результат греха или одержимости демонами, и, что довольно иронично, как результат божественного вдохновения или же физического дисбаланса. Все это послужило основой для различных методов лечения, в том числе связанных с умилостивлением Бога или поиском религиозного заступничества: пост, молитва и паломничество к определенным святым. Средства же, связанные с медицинским вмешательством, были сосредоточены главным образом на кровопускании и очищении организма с целью сбалансировать его жидкости. С христианской точки зрения безумие «должно иметь цель в великом Божьем замысле», поскольку любая немощь, трудности или недуг могли быть истолкованы как испытание, «направленное на наказание гордых, осуждение нечестивых или испытание <…> праведных» [43].
Однако представление о болезни как о Божьей каре возникло не в христианской традиции – оно было присуще и древним культурам. Древние египтяне ужасно боялись божественного гнева – «Тексты пирамид», «Египетская книга мертвых», а также «Тексты саркофагов» содержат множество заклинаний, защищающих людей от гнева Богов. В древнегреческой религии богиня Немезида мстила и наказывала тех, кто выказывал высокомерие, самонадеянность и тщеславие перед богами. Греческий драматург Софокл описал беды и страдания всего населения Фив, пораженных чумой «из-за гордыни, отцеубийства и кровосмешения, в которых был непреднамеренно повинен их царь Эдип» [44].
В Средние века считалось, что физические и психические заболевания вызваны моральными или духовными недостатками. Физическое тело было отражением как разума, так и души. Следовательно, нечистота души четко проявлялась в нечистоте плоти. Это вытекало из основополагающего убеждения католиков в существовании «первородного греха» – концепции, описанной в трудах Блаженного Августина (354–430), который утверждал, что склонность ко злу присуща всем людям. Таким образом, все люди рождаются с первородным грехом и предрасположены к нечестивости и смерти. Несомненно, это учение привело к тому, что бесчисленное множество средневековых христиан винили себя в безнравственности и испытывали глубокое чувство стыда и вины, особенно «матери детей с ограниченными интеллектуальными возможностями, которые считали, что их действия привели к рождению нечистого ребенка» [45]. Наказание и позор часто ждали тех, кто был физически и умственно неполноценен, а иногда и их семьи. Здоровым человек считался только тогда, когда праведная и благородная душа твердо устанавливала господство над плотью.
Различные физические и психические недуги рассматривались не только как результат «первородного греха», но и как признак и прямой результат увлечения одним из семи смертных грехов, которые рассматривались как второстепенные по отношению к «первородному». Считалось, что влечение к греху вызывает дисбаланс гуморов, которые нарушают работу мозга, приводя к психической нестабильности [46]. Сумасшедшие, идиоты и особенно эпилептики, считалось, были одержимы демонами. Естественно, эпилепсия особенно ярко демонстрировала все признаки одержимости, подтверждая распространенное мнение, что любой человек может стать жертвой внушающих ужас демонов.
Происки дьявола
Помимо концепции греха, вызывающего физические и психические заболевания, христианское богословие утверждало, что Святой Дух и дьявол постоянно сражаются за душу человека. Свидетельства конфликта между душой и физическим телом, который иногда рассматривался как конфликт между добром и злом, могли вызывать чувство отчаяния, тревоги и нервозности, которые рассматривались как симптомы расстройства разума. Однако церковь также признавала форму безумия, которая «была священной, <…> и проявлялась в экстатических откровениях святых и мистиков» [47].
Однако в целом безумие считалось чем-то от дьявола, «задуманным Сатаной и распространяемым ведьмами и еретиками» [48]. В этом контексте Ричард Нейпир, священник, врач и выпускник Оксфордского университета, специализирующийся на лечении «людей с “уникальным разумом”, обнаружил, что многие из тех, кто обращался за консультацией, страдали от религиозного отчаяния, страха перед проклятием (вызванного кальвинистским пуританством), обольщением Сатаны или колдовством» [49, 50]. Нейпир сочетал различные терапевтические методы, леча психически неуравновешенных людей не только гуморальной медициной, но и народной магией, молитвами, астрологией, а также снабжая их различными талисманами и амулетами. Он обычно давал своим пациентам так называемые сигилы – «металлические эмблемы с нанесенными на них астрологическими рисунками» [51], чтобы эффективно бороться как с психическими заболеваниями, так и со злобными демонами и ведьмами.
К сожалению, теологические дискуссии о так называемых демонах и ведьмах «способствовали укреплению народных верований в почти осязаемый духовный мир сверхъестественной злой силы и искушений Сатаны» [52], одними из наиболее явных проявлений которых были безумие и умственная отсталость.
В одержимой охотой на ведьм Европе между XIV и XVII веками, по некоторым данным, 200 000 человек погибли, так как их обвиняли в том, что ими завладел демон [53]. К сожалению, неконтролируемая речь, странное поведение или лихорадочное состояние, которые в более поздние времена интерпретировались как признаки безумия, тогда толковались как результат одержимости демонами, проявления сатанизма, колдовства и сговора с дьяволом.