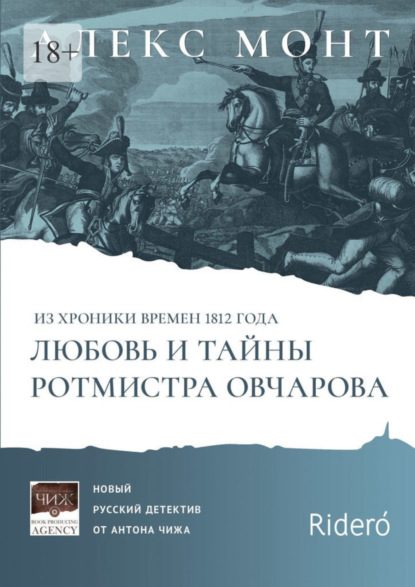Название книги:
Из хроники времен 1812 года. Любовь и тайны ротмистра Овчарова. Авантюрно-исторический роман
Автор:
Алекс Монт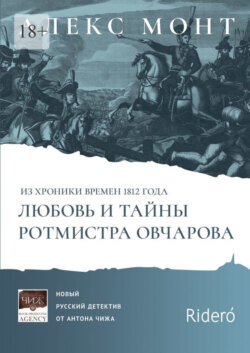
000
ОтложитьЧитал
Лучшие рецензии на LiveLib:
olryzha. Оценка 4 из 10
"Кто ведает, кто таперича, свои?! Нонче одни лихие люди, да хранцуз окаянный по дорогам рыщет"Лихой люд живет в лихие времена. Лихой и изобретательный. Тот, кто с госпожой удачей исключительно на «ты». Иные очень скоро исчезают из этого мира, стираются их имена со страниц истории. Не им вдохновлять на подвиги потомков. Да что уж там, не им растить собственных детей. Ибо только любимчики Фортуны могут рассчитывать пережить злоключения, о которых станут слагать легенды и писать романы в далеком будущем. В полыхающие огнями великих пожаров годы Наполеоновских войн переносит своего читателя автор книги «Из хроники времен 1812 года. Любовь и тайны ротмистра Овчарова» Алекс Монт.Предлагает он современникам прогуляться по пепелищу городов прошлого, посмотреть, что творилось в генеральских палатках и в царских покоях, познакомиться с простым людом, на долю которого выпали жестокие испытания, и, конечно, проследить за судьбой авантюриста, которому и выпала особая честь стать главным героем этой истории («Подобно покойному батюшке, он почувствовал вкус к карточной игре и с лёгкостью необычайной усвоил привычки и образ жизни богатых сослуживцев, без колебаний принявших его в своё общество. Ночные кутежи, волокитство, цыгане, дамы полусвета и, конечно, игра больно ударили по карману Овчарова. Ему пришлось влезть в долги, отказаться от выгодной женитьбы и заложить виленское имение, но вырученных денег для продолжения прежней разгульной жизни решительно не хватало. Прослужив ещё с год и совершив в составе полка поход в Галицию, он вышел в отставку и, в надежде поправить дела имения, удалился в деревню.»)Говоря о новой книге, прежде всего хочется отметить ее атмосферу. Во время чтения создается отчетливое ощущение, что написана она вовсе не авторов циничного, равнодушного двадцать первого века, где балом правят технологии, а приключения встречаются разве что в романах, да и то преимущественно фентезийных, а человеком, лично жившим в девятнадцатом столетии, дышавшим одним воздухом с Наполеоном и Александром Первым, Кутузовым и Багратионом. Алекс Монт ставит своей целью не просто рассказать о конкретных приключениях конкретного человека. Он стремится сделать эти приключения настолько убедительными и достоверными, насколько это только возможно, учитывая художественный жанр его произведения и туманность истории как науки в целом.Автор пытается показать характеры исторических личностей в диалогах и поступках, показать ход событий, отмеченных учебниках («Наполеон переправился на левый берег Днепра и форсированным маршем двинулся на Смоленск. Конница Мюрата атаковала передовые части дивизии Неверовского, но была им задержана на подходе к городу. Построив дивизию на большаке и прикрываясь придорожным лесом, Неверовский отступал шаг за шагом, препятствуя неприятелю зайти в тыл двум русским армиям. Барклай, расположившись на господствующих высотах близ Смоленска, настаивал на дальнейшем отступлении, чем вызвал крайнее неудовольствие рвавшегося в бой Багратиона.»), отразить быт и особенности времени такими, какими дошли до нас сведения о них в различных хрониках, используя для этого стилистику, присущую эпохе («Дворецкий Казимир, поджарый седовласый мужчина, напоминавший хорошо выезженного племенного рысака, с учтивым достоинством принял поводья и, отдав беспокойно фыркающего Бурана на поруки конюха и кликнутого Ефима, провёл ротмистра в сени. Войдя в освещённую тысячами свечей, заполненную шумной толпой залу, Овчаров тотчас принялся искать глазами Кшиштофского, как кто-то потрепал его по плечу»), перемежая с иностранными словечками и фразами, что было принято в дворянском сословии («Le resultat depassera les attentes !», «Last but not Least», «Дзень добрый, панове») и предпочитая старинную речь («убийственный огонь его артиллерии зачнёт мозжить город», «аки презренного простолюдина»), в том числе и народную («Вот те Крест, ваше высокоблагородие, неприятель суръёзно взрывать Арсенал задумал»).Иногда его желание преподнести дух эпохи нетронутым, не запачканным современностью вызывает сладостное томление и рождает светлые иллюзии, желание оказаться в прошлом и насладиться куртуазностью, мечтательностью тех дней, когда чувства были острее, образы казались ярче и насыщеннее даже в самых, казалось бы, пошлых и примитивных ситуациях («Бася, принимаясь раздеваться. Рубашка, лиф, и юбки, одна за другой, бесшумно устлали пол кабинета. Он подошёл к камину и, сняв с полки тяжёлый бронзовый канделябр со снопом горевших свечей, разом задул их. В отсвете жарко полыхавшего в камине огня скульптурное великолепие Басиного тела стало ещё желанней. Просторные балахоны простой селянки, дотоле скрадывавшие её красоту, исчезли, и его взору предстала обнажённая нимфа, настоящая наяда. Он отказывался понимать, что перед ним его крепостная девка Бася, а не богиня, сошедшая с небес. Не мраморная в своей холодной, недосягаемой недоступности, а живая, дышащая скроенная из плоти и крови, жаждущая раз познанной любви женщина»), а иногда становится поистине убийственным, пугающим своей натуралистичностью, заставляющим содрогнуться от ужаса и даже отвращения.(«Тучи ос, слепней и комаров кружились над повозкой; их мерному жужжанию вторили мириады отвратительных, доводивших до исступления мух. Облепив густо покрытые конским навозом, застывшими лужами кровавого поноса и зеленоватыми кучками человеческих фекалий тракт, они роились над самой землей, сгоняя друг друга с усеявших обочины трупов издохших лошадей и погибших от жары и жажды воинов. Слетевшиеся на падаль вороны алчно клевали разлагавшееся мясо, опуская головы в миазмы мертвечины и зарываясь в гниющую плоть по самые хвосты. Брошенные повозки и фуры затрудняли движение, приходилось часто останавливаться и вручную высвобождать дорогу»).Читатель так и мечется между романтичными картинами, достойными глаза юных экзальтированных девиц, грезящих о прекрасном и мечтающих стать для кого-нибудь музой-вдохновительницей ("Прелестная Эльжбета не выходила из головы. Её нежная лебединая шея, чудесные светло-русые волосы, обрамлённые блиставшей бриллиантами искусной работы диадемой, открытая, глубоко декольтированная грудь и влекущий дурманящий запах духов, исходивший особенно сильно во время танца, будоражил не одно лишь воображение) и суровыми военными реалиями, вызывающими оторопь у их отцов («Палатки полевых госпиталей были переполнены, а людей всё несли и несли. Обрызганные кровью лекари, в белых фартуках, вооружённые длинными ножами, широкими пилами и тонкими клещами от изнеможения падали с ног, пользуя раненых. Из-за переполненности палаток, операции делались в открытом поле. С каким-то механическим ожесточением полковые хирурги обрезали куски мяса, пилили кости, вытаскивали клещами из глубин, сочившихся кровью и почерневших ран, картечь и пули, после чего, сшивали их иглами, а рубленые раны стягивали липкими пластырями, укрепляя их бинтами. Хуже всего дело обстояло с ранеными в живот. После перевязки, заключавшейся в промывке и элементарном вправлении в брюшную полость вывалившихся внутренностей, несчастным давали изрядную дозу спирта и оставляли умирать, складируя на сырую землю. Лужи стекшейся крови меняли цвет почвы, казалось, сама земля захлёбывается ею. Пробитые картечью головы, помертвелые лица, окровавленные и исколотые штыками тела, оторванные ядрами и державшиеся на одной лишь коже раздробленные конечности, берущие за душу крики несчастных, подвергнувшихся ампутациям, и, наконец, груды сваленных человеческих членов с неснятыми ботфортами и лосинами, облепленных несметным числом гудящих жирных мух производило невообразимо тягостное впечатление»).И, как бы закрепляя произведенный эффект, писатель раз за разом дает ссылки с пояснениями, снова и снова уверяя своего читателя в подлинности всех изложенных им фактов ("Из дневника Александра Рязанова «Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 году» М. 1862 г), показывая, что каждый персонаж его произведения не просто жил когда-то на этом свете, но и творил, созидал нечто, дошедшее до нас сквозь века («Спустя много лет „бедняжка Софи“ уедет с отцом в Париж, выйдет замуж за графа де Сегюра и станет знаменитой французской детской писательницей Софией де Сегюр»), и обращая наше внимание, что слова, поступки, действия, едва заметные движения и казалось бы случайные особенности, попавшие на страницы, столь же реальны, как снег идущий за окном сегодня или гул телевизора за стенкой («В минуты гнева или сильного возбуждения у Наполеона случалось непроизвольное дрожание икроножной мышцы левой ноги.»)Но, если разобраться, книга Алекса Монта вовсе не о войне как таковой, не о политике или дипломатии, не о героизме в высоком смысле этого слова, и не о предательстве. Нельзя назвать ее и простым пересказом исторических событий. По своему жанру она ближе всего к приключенческому роману, персонажам которого предстоит на собственном опыте убедиться в истинности народной мудрости: не было бы счастья да несчастье помогло. Как и Александр Дюма, основоположник этого литературного направления, писатель оставляет сюжет на волю случая и помогает авантюристу, угодившему за решетку за подделку денежных средств да еще и по плану врага, превратиться в настоящего героя, которому отдают честь знаменитые генералы: «Ротмистр проявил недюжинную смекалку и личную храбрость и, полагаю, достоин награды». Он постепенно, шаг за шагов, легкомысленного повесу превращает в достойного уважения воина, который, согласно классическим канонам русского фольклора, вдруг открывает в себе недюжинную смекалку и огромную силу духу, позволяющую выстоять там, где другим суждено склонить голову. И где-то посреди головокружительного калейдоскопа безумств, вообразить которые сегодня можно разве что во сне, где-то в самом центре черного омута, утаскивающего на дно тысячи жизней и парочку империй, Алекс Монт помогает обрести пропащему, казалось бы, пареньку ту любовь, о которой раньше и не мечталось: "– Моё сердце не занято, и вы можете надеяться, господин ротмистр! – просто произнесла она. Услышав ответ Анны, он бросился на колени и принялся жадно целовать её руку. Анна неподвижно стояла, не отнимая руки. "Очень непросто передать дух эпохи. Невероятно сложно быть достаточно убедительным, чтобы читатель поверил в истинность разворачивающихся событий. Немало нужно изучить материалов, сопоставить фактов, посмотреть картин, дабы проникнуться атмосферой и словно раствориться в колорите выбранного времени. А ведь нужно еще научиться говорить на языке предков, что, возможно, даже труднее, чем освоить современный китайский, понять саму психологию людей, определяющую их поступки. Автор, который сумел добиться хотя бы частичного сходства с творениями, написанными людьми, жившими в той эпохе, заслуживают уважение. Но если это сходство столь велико, что можно реально поверить, будто перед нами не книга современника, а рукопись кого-то из его предшественников, остается лишь восхищаться. Именно такие чувства вызывает роман Алекса Монта.
maria_29. Оценка 0 из 10
Среди бесспорных достоинств книги я бы отметила динамичный сюжет, не содержащий провисаний, и яркую эмоциональность произведения. При этом большое внимание уделяется описанию настроения и самых разных оттенков чувств героев:«Итак, сударь! Comment allez-vous? Как живёшь, не тужишь!? Вижу, не сладко! – перемежая русскую речь французской и прикладывая к коротко стриженным, огненно рыжим усам надушенный батистовый платок, дабы заглушить настойчиво бьющий в нос острый неприятный запах, осведомился гость. На его холёном нервном лице играла ироничная, чуть презрительная усмешка, а живые подвижные глаза испытующе смотрели на узника. Едва за Никишкой затворилась дверь, камера погрузилась в сизоватый мятущийся сумрак, озаряемый светом оставленной свечи. Бледное лицо арестанта не выражало эмоций, мимолётный интерес, вызванный появлением посетителя, сменился молчаливым равнодушием, он отступил назад и, сложив на груди ещё не познавшие тяжести кандалов руки, приготовился слушать».В тексте живет интрига, присутствуют многочисленные крючки, наживки и загадки, которые создают напряжение, поддерживают читательское внимание, растравливают любопытство и способствуют затягиванию в чтение. В романе прослеживается определенная философская линия, автор стремится постичь природу тех или иных событий и ненавязчиво привлекает к этим размышлениям своего читателя, пытается заставить его сформировать собственное мнение на ту или иную проблему или ситуацию. У автора есть особый дар – описывать те или иные сцены так реалистично и подлинно, что у читателя возникает устойчивое впечатление, что он видит и слышит все тонкости данной картины, оказывается в ее эпицентре:«Из Кремля выходила гвардия. Вид у солдат был угрюмый и, невзирая на бодрящий звон литавр, победное настроение, казалось, навсегда покинуло гвардейцев. В полдень из Кремля выступила блестящая кавалькада маршалов и генералов императорской свиты. В шитых золотом и серебром мундирах, шляпах с разноцветными султанами и плюмажами и медных касках на головах, в молчаливой сосредоточенности проезжали они площадь и, миновав торцовый фасад Арсенала, бесследно исчезали в воротах. Наполеон находился среди них…»Герои романа прописаны объемно и многомерно. Все они разные по характеру, но вызывают неподдельное любопытство. Вполне возможно, читатели смогут узнать в ком-то из них себя, что усилит симпатию и интерес аудитории, а это особенно важно для успеха книги. Естественные и живые диалоги, благодаря которым произведение легко и быстро читается, являются несомненным плюсом автора:«Кто эс это? – надменно спросил старика старший по чину офицер.– Не извольте беспокоиться, господа. Это мои люди. Когда их одежонка подсохнет, они тотчас уберутся отсюдова, – в напускном испуге зачастил старик.– Diable! – бросил офицер и презрительно отвернулся.– Не забудь про наш ужин и сходи в подвал за вином, каналья! Да прикажи своим людишкам накормить лошадей! – с сильным польским акцентом бросил второй офицер и, смерив уничижительным взглядом новоявленных «людишек», оба они удалились.– Спасибо, дед, что не выдал! – поблагодарил старика Овчаров. – Значит, и у вас французы».«– Ой, дядинько, глядите! – воскликнула девочка, указывая на тяжело катившуюся по Моховой четырехместную, походящую на старинный рыдван карету, заложенную гусём. – Какая чудная одёжа у таво кучера! – дивилась она несообразному одеянию вознице. В овчинной сермяге, подпоясанной широким кушаком с пышными золотыми кистями и мужицкой шапке набекрень, он и впрямь выглядел чудно.– Чему удивляться, Акулина. Сейчас каждый одевается во что горазд. Время такое, – отвечал Овчаров, глядя с усмешкой на нелепый, скособочившийся вправо и немилосердно скрипевший экипаж. – Дёгтя на колёса пожалели, – вдогонку удалявшемуся рыдвану укоризненно бросил он».Автор не использует заезженных и банальных драматургических ходов, сюжет романа не искусственно сконструирован, а движется вперед самой логикой произведения. Его неожиданные повороты держат читателя в напряжении и завладевают вниманием с первых же строк, удерживая его до финальных нот. Произведение имеет прямую параллель с жизнью – именно поэтому, оно вызывает интерес и доверие у читательской аудитории, тогда как колоритные образы персонажей вносят в произведение дополнительную изюминку:«Полковник говорил часто и отрывисто, великосветская куртуазность салонного сибарита и вальяжная уверенность желанного гостя дамских будуаров исчезли без следа. Как досконально знавший поставленную задачу офицер, он излагал свои мысли чётко, ясно и до мелочей подробно, чем сразу завоевал заинтересованное внимание узника».Автор удачно передает, как физические волнения:«Убранная на затылке тяжёлая коса, подчиняясь ласкам Павла, рассыпалась по плечам Баси, укрыв его объятое негой лицо своим золотым покровом. Напитанные ароматом цветов волосы и молочный запах ее кожи, упругой и бархатистой, кружил голову, он становился рабом ее, капля за каплей…»так и душевные переживания героев:«В чувственном запале он едва не обмолвился о сокровенной и запретной тайне, о которой с содроганием, стыдом и болью думал лишь украдкой и наедине. Когда царственная бабка хрипела на полу в предсмертной агонии, положенная на матрас растерявшимися слугами, его отцу, наследнику престола великому князю Павлу Петровичу будущий канцлер Безбородко вручил изъятый из кабинета государыни запечатанный конверт с завещанием Екатерины, оставлявшую трон в обход него, Павла ему, любимому внуку Александру. Кутузов не мог не догадываться о содержимом пакета, поскольку в последние месяцы жизни государыни входил в её ближний круг и был едва ли ни последним, кто беседовал с императрицей перед ударом.С воцарением Павла он остался на плаву, был осыпан новыми милостями и не разделил судьбы, попавших в опалу фаворитов и приближённых Екатерины. Даже неизменно преданные его отцу Аракчеев и Ростопчин не избежали злой участи и были отставлены от службы, тогда как мудрый Кутузов присутствовал на том позднем ужине одиннадцатого марта в Михайловском замке, когда полтора часа спустя был зверски убит император. Александр подозревал что, „светлейший знал о затеваемом цареубийстве и о косвенной вовлеченности в него его самого. Столь умный и наблюдательный человек, друживший с главными вождями заговора, не мог не видеть, что должно вот-вот произойти. Но если он знал обо всём и не предупредил отца лишь оттого, что полагал и полагал наверняка, что легко поладит и с сыном“. Это предположение изводило и мучило Александра. Он не любил фельдмаршала по причине именно этого, подозреваемого им „знания“, нежели, как принято считать, из-за Аустерлица. Аустерлиц лишь добавил толику яду в уже наполненную им чашу».Говоря о недостатках книги, я бы отметила некоторую перегруженность историческими деталями и излишними, на мой взгляд, необязательными подробностями, хотя читатель в них не утонет. И в заключении хочу отметить, что роман опирается на мемуарные источники, благодаря которым картины сожженной Москвы, а также перипетии дворцовых и светских интриг, живейшим образом отражённые в мыслях и поступках героев, выглядят особенно достоверно.