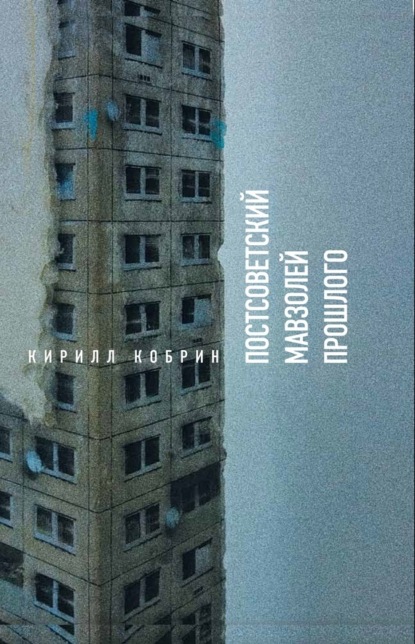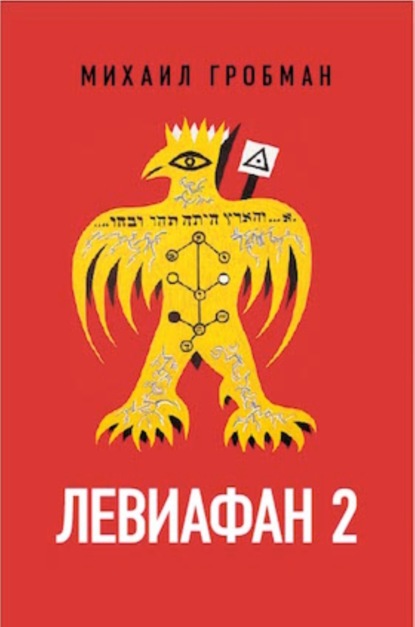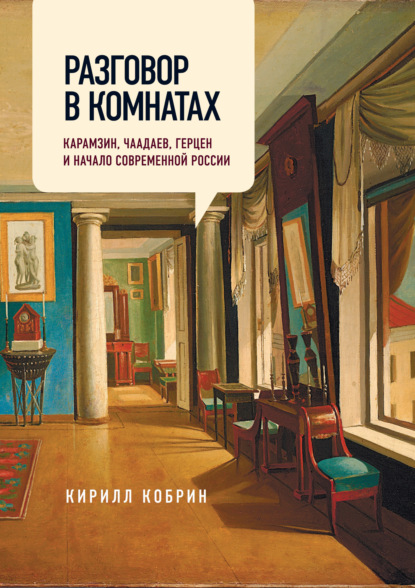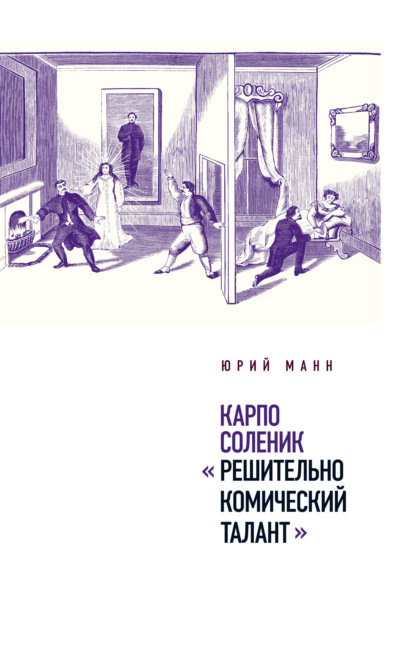Иосиф Бродский. Годы в СССР. Литературная биография
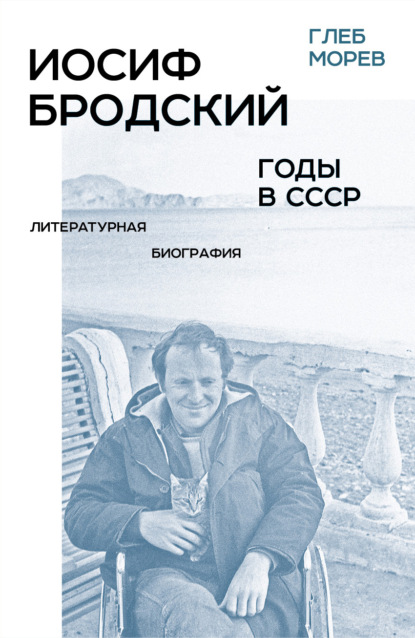
- -
- 100%
- +
Вот в чем сила Иосифа: он несет то, чего никто не знал: Т. Элиота, Джон<а> Донна, Пёрселла – этих мощных великолепных англичан! Кого спрашивается несет Евтушенко? Себя, себя и еще раз себя[138].
Существенно также, что эта ориентированность поэзии Бродского на мировую – в широком смысле – культурную традицию шла вразрез с тенденциями оттепельной советской поэзии и выглядела крайне нетривиально. Синхронные читательские реакции на эту особенность поэтики Бродского сохранены в мемуаристике и в переписке современников.
Так, Л. Г. Сергеева, вспоминая поэму «Исаак и Авраам» (1963), отмечала:
Обращение совсем молодого человека к библейскому сюжету и личная интерпретация такого сюжета были подобны чуду в Стране Советов начала шестидесятых годов. В это время почти всех поэтов занимала история разоблаченного Хрущевым Сталина и культа личности[139].
Читатель-эмигрант В. Ф. Марков 3 мая 1965 года писал Г. П. Струве:
Я в нем [Бродском] особенно ценю, что это первый на моем горизонте за столько лет поэт-некомсомолец. Хорошо, что таких еще может «российская земля рождать»[140].
Сам Струве в предисловии к первой книге Бродского удивлялся:
В стихах Бродского поражает и почти полное отсутствие обычной советской тематики – будь то с положительным или с отрицательным знаком[141].
Тогда же, в 1965 году, издатель нью-йоркского альманаха «Воздушные пути» Р. Н. Гринберг сообщал:
Осенью 1962 г. редакция узнала о молодом Бродском как о независимом поэте, пишущем стихи, не похожие ни по тону, ни по форме на массовое творчество, издающееся в СССР[142].
Мемуаристка из числа советской молодежи 1960-х свидетельствует:
[Н]ас, выросших на словаре советских поэтов, помимо нутряного восторга от поэтического чуда, совершавшегося здесь и сейчас, поражала, даже у раннего Бродского, еще и его лексика. С воодушевлением открывали мы для себя какие-то нездешние слова: «Над утлой мглой столь кратких поколений…». «Утлый» – пришло прямо из Пушкина, теперь, казалось нам, подобные слова вообще упразднены! Он произносил слова, которые стены домов и дворцов советской культуры, думаю, слышали впервые: «Богоматери предместья, святые отцы предместья, святые младенцы предместья…»[143]
Ленинградский приятель Бродского из научной среды физик М. П. Петров вспоминал:
Тогда [в начале 1960-х годов] он начал увлекаться древнегреческой мифологией и римской античностью и эффектно использовал сведения оттуда в своих стихах. Это резко отличало его от других молодых поэтов[144].
Резко «несоветские» черты поэтики Бродского и демонстративный патронаж Ахматовой приводят к середине 1960-х годов к тому, что в (эмигрантской) критике возникает, с одной стороны, шаблон об «ученичестве» Бродского у Ахматовой, а с другой – имя поэта ставится, по его же формуле, «к великим в ряд», а сам он – на основании по преимуществу внетекстуальных, биографических обстоятельств – объявляется живым продолжателем связанной с поэзией русского модернизма 1910–1920-х годов «петербургской поэтики» – «тех представлений о стихотворном искусстве, которые выработались и воспреобладали у нас в золотую пору нашего так называемого серебряного века»[145].
Иосиф Бродский – большого дарования поэт, и, как о том свидетельствует целый ряд его стихотворений, необычайно рано достигший зрелости. У него есть своя поэтика, непохожая ни на чью другую. И все-таки петербургская она; не сказать о ней этого нельзя. Знаю: он родился в сороковом году; он помнить не может. И все-таки, читая его, каждый раз думаю: нет, он помнит, он сквозь мглу смертей и рождений помнит Петербург двадцать первого года, тысяча девятьсот двадцать первого года Господня, тот Петербург, где мы Блока хоронили, где мы Гумилева не могли похоронить[146].
Именно открытые Ахматовой для молодого поэта «альтернативные» возможности осмысления себя в поэтической традиции и утверждения на литературной сцене и в целом связанная с нею актуализация «поведенческого» (биографического) аспекта в жизни поэта стоят за внешне брутальными эскападами вроде демонстративного ухода Бродского с заседания секции поэзии ЛО СП РСФСР в мае 1962 года, так впечатлившего советского писателя Николая Брауна. Этот жест следует читать не как наследующий футуристической поэтике скандала (хорошо известной тогдашней литературной молодежи по описаниям молодости Маяковского[147]), но как свободное выражение позиции человека, не нуждающегося более в санкции советских писательских институций и публично заявляющего о своей авторской независимости или – если смотреть шире – о своем «праве на биографию», являющемся в русской культурной традиции прерогативой именно Поэта[148]. Реализация этого права, согласно Ю. М. Лотману, связана с антитезой между
поведением «обычным», навязанным данному человеку обязательной для всех нормой, и поведением «необычным», нарушающим эту норму ради какой-то иной, свободно избранной нормы[149].
Выбирая амплуа «литературного скандалиста», молодой Бродский резко противопоставлял себя деиндивидуализированной советской литературной массе, используя, прежде всего, «романтический» культурный код, традиционно, со времен Пушкина, программирующий в России поведение Поэта. Воспринятое через уроки Ахматовой пушкинское – то есть исключительно сознательное – отношение к построению своего биографического текста будет, как мы увидим далее, свойственно Бродскому уже с самого начала его литературной деятельности.
Вызывающая по советским меркам независимость отличает в этот период и поведение Бродского в целом; проявления ее тщательно фиксируются – очевидно, в рамках заведенного после кратковременного ареста в январе 1962 года «дела оперативной разработки» – завербованными КГБ в окружении поэта осведомителями.
7
Справка начальника ленинградского КГБ полковника Шумилова, составленная 7 марта 1964 года на основе того, что на чекистском языке именовалось «оперативными данными» (то есть по материалам агентурных сообщений), в части, касающейся информации о Бродском после получения им предупреждения КГБ после допросов в январе 1962 года по делу Шахматова – Уманского, начинается с констатации: «Бродский поведения своего не изменил»[150]. Далее Шумилов фиксирует прежде всего контакты Бродского с иностранцами, априори подозреваемыми в связях с органами иностранной разведки.
По имеющимся у нас оперативным данным, в феврале–марте 1962 года он [Бродский] установил связь с американским стажером ЛГУ РАЛЬФОМ БЛЮМОМ, подозреваемым в принадлежности к американской разведке, и получил от него какую-то литературу. <…>
В своих стихах БРОДСКИЙ пишет о якобы имеющемся в СССР идейном произволе, рожденном диктатурой черни. Не отказался он и от намерения изменить Родине. В отобранном нами в августе 1963 года оперативным путем письме БРОДСКОГО в Польшу он писал, что его единственной мечтой является выезд за границу. Он по-прежнему завязывает связи с враждебно настроенными по отношению к СССР иностранцами.
Так, в ноябре 1963 г. в адрес Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР на имя БРОДСКОГО была прислана бандероль из США от ВИРЕКА ПИТЕРА.
ВИРЕК П. за последнее время несколько раз посетил СССР, по имеющимся в Комитете госбезопасности при СМ СССР данным он связан с американской разведкой. Во время пребывания в СССР ВИРЕК активно устанавливал связь с лицами из числа творческой молодежи для сбора клеветнической информации о жизни творческой интеллигенции в СССР[151].
Представленные Шумиловым американскими разведчиками Ральф Блюм (Ralph Blum; 1932–2016) и Питер Вирек (Peter Viereck; 1916–2006) на деле не имели никакого отношения к спецслужбам. Первый был антропологом и славистом, выпускником Гарвардского университета, изучавшим в 1961–1963 годах в Ленинградском университете историю советского кинематографа и писавшим репортажи о жизни в СССР для журнала The New Yorker[152] (впоследствии Блюм станет автором бестселлера «Книга Рун», открытого русскому читателю в 1990 году Виктором Пелевиным[153]). Питер Вирек был «первым из американских поэтов, с кем Бродский встретился и познакомился лично»[154]. Вирек, пулитцеровский лауреат 1949 года, был в СССР несколько раз – впервые в 1961 году вместе с поэтом Ричардом Уилбером. Осенью 1962 года он посетил в Москве Ахматову[155]. Тогда же состоялось его знакомство с Бродским, с которым они виделись и в дальнейшем – во время приездов Вирека в Ленинград «поздней осенью 1966-го или зимой 1966–1967 годов»[156] и в 1969 году[157].
Качество и способ подачи информации в справке полковника Шумилова позволяют сделать предварительные выводы о механизме развития «дела Бродского», завершившегося ставшим всемирно известным судебным процессом февраля – марта 1964 года по обвинению поэта в тунеядстве.
Анализ изложенных Шумиловым фактов показывает очевидную вещь – несмотря на демонстративно нестандартный для советского человека начала 1960-х годов характер, поведение Бродского не содержит в себе ничего, что позволяло бы предъявить ему обвинения в нарушении закона. Ни стихи о некоем «идейном произволе», ни встречи с иностранными гражданами, ни выраженная в частном письме мечта о выезде за границу не являлись в СССР уголовно наказуемыми действиями. Это обстоятельство было ясно и чекистам. Отсюда – искусственное подверстывание фразы из перлюстрированного письма к статье Уголовного кодекса об «измене Родине» (призванное напомнить о центральном, с точки зрения КГБ, эпизоде в «деле» Бродского – истории с несостоявшимся угоном самолета), нагнетание в справке «публицистических» оборотов в отношении как самого Бродского, так и знакомых ему иностранцев, и, главное, обвинения в принадлежности последних к иностранной разведке. Голословный характер этих обвинений – ясный и авторам справки – подтверждается хотя бы тем, что, например, «связанный с разведкой» и собирающий, по словам справки, «клеветническую информацию» о советской интеллигенции, а в реальности известный американский поэт Питер Вирек спустя два года вновь беспрепятственно получит визу для посещения СССР.
Тот факт, что ленинградские чекисты в своих рапортах московскому начальству сознательно преувеличивали степень общественной опасности Бродского, подтверждается свидетельством Н. И. Грудининой, пересказавшей в письме генпрокурору СССР Р. А. Руденко от 10 сентября 1964 года свой разговор с полковником Шумиловым. Грудинина сообщала:
<…> в деле суда имеется бумага КГБ, подписанная следователем идеологического отдела П. Волковым, где Бродский обвиняется в распространении стихов Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, в получении от американского аспиранта «какой-то» книги, в чтении пошлых эпиграмм.
По вопросу этих пунктов бумаги я специально разговаривала с председателем ленинградского КГБ т. Шумиловым В. Т., и он сообщил мне, что кроме старого спецдела Шахматова и Уманского в распоряжении КГБ ничего нет. Относительно эпиграмм и пр. сведения приходили от каких-то посторонних людей, имен которых т. Шумилов не знал и обещал попробовать узнать. Жалел, что «такой проверки» сделано не было раньше[158].
Генезис реализованной в справке о поэте риторической политики КГБ и ее последствия были описаны знакомым Иосифа Бродского, ленинградским писателем К. В. Успенским (Косцинским), осужденным за антисоветскую деятельность в 1960 году и имевшим в ходе следствия дело с теми же сотрудниками КГБ, которые позднее вели дело Бродского, в частности с полковником Шумиловым:
Истина госбезопасность не интересует. В условиях «разгула либерализма», который мы наблюдали в середине и конце 1950-х годов, ее, госбезопасность, интересовали лишь более или менее убедительно звучащие формулировки, которые можно было бы включить в обвинительное заключение, а затем и в приговор.
Этого, в общем-то, не получилось, как станет ясно каждому, кто прочтет приговор по моему делу. Позднее я узнал, что после того как этот приговор, выражаясь торжественным слогом уголовно-процессуального кодекса, был «провозглашен», начальник ленинградского КГБ Шумилов, выступая на специально созванном расширенном секретариате Ленотделения Союза писателей, вынужден был пуститься в весьма сильные преувеличения относительно моей «преступной» деятельности[159].
Аналогичной (вплоть до деталей) тактики придерживался КГБ и в деле Бродского: 14 мая 1964 года состоялась встреча ленинградских писателей («общее собрание с молодежью»[160]) с представителями областного Управления КГБ, на которой Шумилов делал доклад, касавшийся преследования Бродского и, очевидно, призванный снизить градус непредвиденного чекистами общественного волнения, вызванного этим делом[161].
Представляется, что подлинная причина, по которой дело Бродского в начале 1964 года было доведено чекистами до суда (правомерность которого и призвана подтвердить перед партийным начальством справка Шумилова, составленная по запросу курировавшего силовые структуры Отдела административных органов ЦК КПСС), лежит в бюрократической плоскости.
Согласно внутренним инструкциям КГБ по оперативному учету, «срок ведения дел оперативной разработки по окраскам „измена Родине“ (в форме бегства за границу)» – а именно такое дело (ДОР) было, очевидно, заведено на Бродского весной 1962 года после ставшей известной чекистам (и, несомненно, впечатлившей их) истории с самолетом в Самарканде – не должен был превышать двух лет[162]. Просто прекратить дело оперативного наблюдения означало для КГБ признать необоснованность его заведения. Практика прекращения необоснованно заведенных ДОР в эти годы всерьез беспокоила Москву и вызвала осенью 1964 года специальный приказ председателя КГБ СССР В. Е. Семичастного, где отмечалось:
Нередко дела агентурной разработки заводятся на основании лишь субъективных предположений оперативных сотрудников о возможной причастности отдельных советских граждан к шпионской и иной враждебной деятельности без наличия достоверных данных о проводимой ими подрывной работе. По этой причине во многих местных органах КГБ возникает и прекращается значительное количество бесперспективных дел.
Такая порочная практика отвлекает оперативные силы и средства от борьбы с действительными врагами, объективно ущемляет права отдельных советских граждан, и тем самым наносит ущерб делу обеспечения государственной безопасности[163].
Нежелание подвергнуться критике вышестоящего (московского) начальства[164], а также внутренняя уверенность ленинградских чекистов (не лишенная, заметим, веских оснований) во враждебности Бродского советскому политическому строю требовали результативной «реализации» дела в установленный инструкцией срок. Он истекал весной 1964 года.
В ноябре 1963-го публикацией в газете «Вечерний Ленинград» фельетона «Окололитературный трутень» ленинградский КГБ приступил к завершению «дела Бродского» по заранее, летом 1962 года, разработанному упомянутым Н. Грудининой в письме генпрокурору Руденко заместителем начальника 2-го отдела ленинградского КГБ полковником П. П. Волковым сценарию.
Глава III. Суд по указу
1
Подписанный тремя авторами – А. Иониным, Я. Лернером и М. Медведевым – фельетон «Окололитературный трутень» вышел в газете «Вечерний Ленинград» 29 ноября 1963 года[165]. Публикация такого рода «обличительных» материалов, якобы отражающих точку зрения «советской общественности», а на деле изготовленных по заданию и под контролем КГБ СССР и зачастую предваряющих решение суда, была обязательной частью установившегося к началу 1960-х годов ритуала осуждения чуждых и/или враждебных советской власти членов социума – как мы помним, аналогичный фельетон был опубликован в ленинградской прессе и перед судом над Уманским и Шахматовым в мае 1962 года[166]. Оба они упоминались и в фельетоне, посвященном Бродскому. В целом текст выглядел продолжением начатой весной 1962 года кампании по преследованию членов кружка Уманского, одним из которых был Бродский. Авторы не скрывали своего знакомства с материалами следствия по делу Уманского – Шахматова, доступ к которым – это не заявлялось в тексте прямо, но следовало из него со всей очевидностью – был получен ими в КГБ СССР. Именно предоставленные КГБ материалы стали смысловым центром фельетона, его «главным», по определению авторов, содержанием. При этом характерно, что если при публикации статьи о кружке Уманского весной 1962 года КГБ счел нецелесообразным обнародовать информацию об инциденте с несостоявшимся угоном самолета в Самарканде в январе 1961 года, то сейчас этот эпизод, подробно изложенный на основании показаний Шахматова и Бродского, становится основным пунктом обвинений против поэта. В полном соответствии с установками и со стилистикой цитировавшейся выше справки КГБ о Бродском эпизод этот квалифицируется в газете как «план измены Родине». Собственно «литературная» часть фельетона, сводящаяся к обвинениям Бродского в том, что он является «кустарем-одиночкой» и не желает иметь ничего общего с советскими писательскими институциями («колхозами», если продолжать взятую на вооружение авторами фельетона метафору), выглядит своего рода «приправой» к основанному на изложении допросов рассказу о «планах предательства».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Тетрадь хранится в ленинградском архиве Бродского: ОР РНБ. Ф. 1333. Оп. 1. Ед. хр. 51.
2
Популярная – выдержавшая несколько изданий – биография Бродского, опубликованная Л. В. Лосевым через десять лет после смерти поэта, в 2006 году, несмотря на содержащуюся в ней ценную информацию и ряд тонких интерпретаций текстов Бродского, написана с изначальной установкой на «агиографичность», что снижает ее научное значение.
3
Из письма Бродского В. П. Полухиной от 10 сентября 1988 года (Hoover Institution Library and Archives. Joseph Brodsky papers. Box 1. F. 7).
4
Мы имеем в виду формулу классических биографий Набокова, принадлежащих Брайану Бойду – «Vladimir Nabokov: The Russian Years» (1990) и «Vladimir Nabokov: The American Years» (1991).
5
Бродский И. Вспаханное поле // МСС. Т. 4. С. 115, 117–118.
6
Шахматов О. «Грехи молодости» сквозь призму лет и мнений // Понедельник. Вильнюс. 1997. 7–13 ноября. С. 11.
7
Бродович О. Ося // Звезда. 2019. № 1. С. 186. О значимости личности Уманского для Бродского свидетельствует тот факт, что в 1972 году он был, по сообщению Н. Я. Шарымовой, одним из тех (сравнительно немногих) людей, с кем Бродский специально встречался, чтобы попрощаться перед выездом из СССР.
8
О намерениях Уманского «перебраться за границу» пишет в ноябре 1962 года в изъятом КГБ дневнике М. Волнянская, одна из участниц его кружка (ГАРФ. Ф. Р–8131. Оп. 31. Д. 99616. Л. 42).
9
Лосев. С. 54.
10
В Самарканд Шахматов приехал из своего родного города Красноярска, где он жил после освобождения из годового заключения по статье о злостном хулиганстве (публично оскорбил милиционера, арестован в апреле 1958 года в Колтушах под Ленинградом; см.: Вайль Б. Шахматов – «подельник» Бродского // Звезда. 2010. № 1. С. 211).
11
2-й отдел Управления КГБ по Ленинградской области (в 1962 году преобразован в службу) занимался вопросами контрразведки – диверсиями, шпионажем и пресечением деятельности враждебных советской власти элементов на территории СССР.
12
«Установлено, <…> что у Шахматова с Бродским имел место разговор о захвате самолета и перелете через границу. Кто из них был инициатором этого разговора – не выяснено» (Лосев. С. 55).
13
Шахматов О. «Грехи молодости» сквозь призму лет и мнений.
14
Мейлах М. Поэзия и миф: Избранные статьи. М., 2018. 2-е изд. С. 822. А. М. Пекуровская вспоминает, что еще накануне поездки в Самарканд к Шахматову Бродский завуалированно говорил ей о предстоящем побеге (Пекуровская А. Когда случилось петь С. Д. и мне. СПб., 2001. С. 123). Незадолго до поездки в Самарканд в письме О. Бродович, впоследствии изъятом КГБ при обыске по делу Шахматова, Бродский писал, «что скоро будет в воздухе и что переписка с ней прервется на долгий срок» (ГАРФ. Ф. Р–8131. Оп. 31. Д. 99616. Л. 31). С версией о «случайности» самаркандского эпизода полемизирует в мемуарных заметках о Бродском и Игорь П. Смирнов, вспоминая, что перед отъездом в Самарканд «Иосиф был сосредоточен и печален. Впечатление было такое, что он прощался в тот раз навсегда» (Смирнов И. П. Свидетельства и догадки. СПб., 1999. С. 94).
15
НБП. Т. 1. С. 383.
16
Ср.: «Захлебнусь ли в песках, разобьюсь ли в горах / или Бог пощадит»; многочисленные лексические маркеры в тексте имплицируют тему исчезновения («не найдешь меня ты / днем при свете огня») и незаконного пересечения границы: отщепенец, радары, прожектора, динамики. См. об этом стихотворении также: Карасти Р. «Ковыляя во мгле» («Ночной полет» Иосифа Бродского) // Звезда. 2021. № 8. С. 268–280.
17
Маневич Г. Три встречи с Иосифом Бродским // Арион. 1998. № 4. С. 80. О совместном обсуждении с Бродским планов «убежать за границу» за несколько месяцев до истории с самолетом, летом 1960 года вспоминает Г. И. Гинзбург-Восков (Восков Г. Путешествие с Иосифом Бродским // Звезда. 2011. № 1. С. 116).
18
Сергеев А. О Бродском // Сергеев А. Omnibus: Роман, рассказы, воспоминания. М., 1997. С. 433.
19
Чернышов М. Москва, 1961–1967. Нью-Йорк, 1989. С. 33. Там же (с. 34, 80) – конкретные примеры попыток автора и его знакомых убежать из СССР в 1960-е годы.
20
Шахматов О. «Грехи молодости» сквозь призму лет и мнений.
21
Шахматов О. «Грехи молодости» сквозь призму лет и мнений.
22
Там же.
23
Вайль Б. Шахматов – «подельник» Бродского. С. 214.
24
Лосев. С. 55.
25
О покупке и возврате билетов говорит сам Бродский в письме в газету «Вечерний Ленинград», посланном после публикации фельетона «Окололитературный трутень» (см.: Гордин. С. 70).
26
В посвященном Бродскому фельетоне «Окололитературный трутень», авторы которого прямо ссылались на знакомство с протоколами допросов Шахматова в КГБ, приводится та же мотивировка отказа Шахматова и Бродского от идеи угона самолета – нехватка бензина (Ионин А., Лернер Я., Медведев М. Окололитературный трутень // Вечерний Ленинград. 1963. 29 ноября. С. 3).
27
Диалоги. С. 67. Ср.: Мейлах М. Поэзия и миф. С. 822.
28
Шахматов О. «Грехи молодости» сквозь призму лет и мнений.
29
Лосев. С. 53.
30
Воспоминания об этом, никак не упоминающие инцидент с рукописью, есть в их книге, посвященной поездке в СССР: Belli Looks at Life and Law in Russia by Melvin M. Belli and Danny R. Jones. Indianapolis; New York, 1963. Утверждение Бродского (см.: Мейлах М. Поэзия и миф. С. 822) о том, что Белли был в СССР в связи с процессом сбитого над Свердловском 1 мая 1960 года американского летчика Гэри Пауэрса, неверно: суд над Пауэрсом прошел 17–19 августа 1960 года.
31
Лосев. С. 54–55.
32
Вайль Б. Шахматов – «подельник» Бродского. С. 214. Друг Бродского Г. И. Гинзбург-Восков считал, что «самодоносом» Шахматов хотел добиться перевода от уголовников к политическим заключенным (Мейлах М. Поэзия и миф. С. 823); Б. Б. Вайль предполагает, что Шахматов рассчитывал получить в ответ на «раскрытие» антисоветской группы уменьшение срока заключения (Вайль Б. Шахматов – «подельник» Бродского. С. 214). Бродский и Шахматов случайно встретились тридцать лет спустя, в 1992 году, в Мюнхене; по воспоминаниям Игоря П. Смирнова: «Когда мы [после выступления Бродского] выкатились на ступеньки театра, к Бродскому подскочил худой и невысокий человек в черной кожаной куртке. „Знаешь, кто это был?“ – спросил меня Бродский после того, как его разговор с требовательным собеседником, призывавшим его к написанию некоей статьи для некоей эмигрантской русской газеты, иссяк. К моему „нет“ прибавилось: „Он меня заложил“. И на мой вопрос о том, что стукач делает в Мюнхене, был дан очень равнодушный ответ: „Ночует в какой-то церкви“» (Смирнов И. П. Свидетельства и догадки. С. 95).