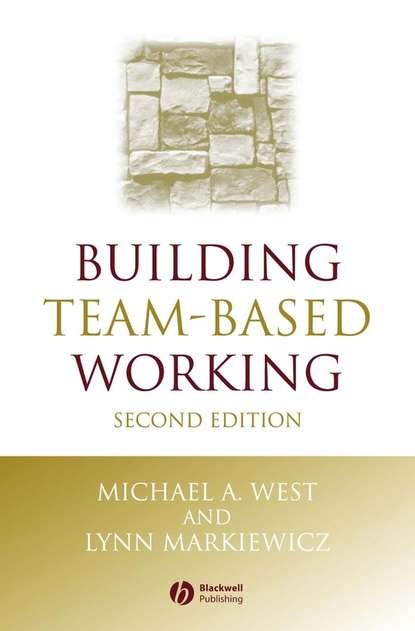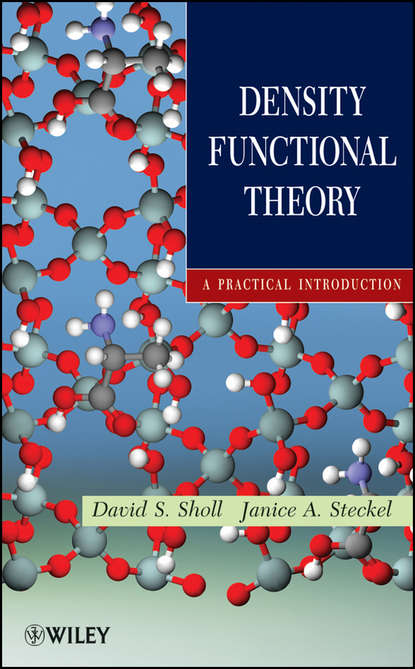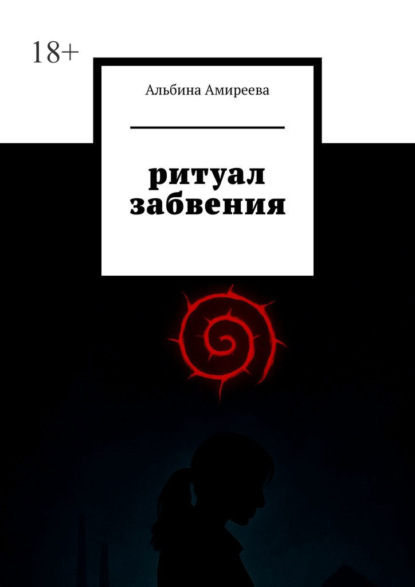Шибари. Искусство связывать и получать наслаждение
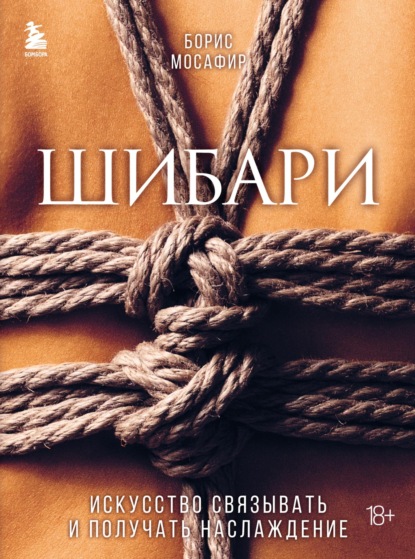
Введение в мир Шибари
Книга Бориса Мосафира «Шибари. Искусство связывать и получать наслаждение» погружает читателя в древнюю японскую практику эстетического и эротического связывания. Автор начинает с исторического экскурса, объясняя, что шибари (или кинбаку) уходит корнями в средневековую Японию, где изначально использовалось как метод обездвиживания пленников самураями. Со временем утилитарная функция трансформировалась в ритуал, сочетающий духовное, эстетическое и чувственное начало. Мосафир подчёркивает, что современное шибари — это диалог между мастером (наваси) и моделью (жуку), построенный на доверии, взаимном уважении и поиске гармонии.
Философские и культурные основы
Центральная идея шибари, по мнению автора, заключается в концепции «ваби-саби» — принятии несовершенства и мимолётности момента. Каждая связка рассматривается как уникальное произведение искусства, существующее лишь здесь и сейчас. Мосафир проводит параллели с чайной церемонией и каллиграфией, где процесс важнее результата. Он подробно анализирует символику верёвки: в японской традиции она олицетворяет связь между мирами, людьми и эмоциями. Отдельная глава посвящена роли эротизма — не как цели, а как естественной части человеческой природы, которая через ограничение свободы обнажает глубинные слои психики.
Техники и эстетика
Практическая часть книги детально описывает базовые узлы и их вариации. Автор объясняет, что даже простые связки вроде «карамуби» (шейный захват) или «цуру» (журавль) требуют понимания анатомии и психологии модели. Каждый шаг сопровождается иллюстрациями и метафорами: например, наложение верёвки сравнивается с рисованием иероглифа на теле. Особое внимание уделяется выбору материалов — традиционные джутовые верёвки ценятся за шероховатость, которая усиливает тактильные ощущения, а шёлк подчёркивает эфемерность момента.
Динамика власти и доверия
Мосафир акцентирует, что шибари — это театр, где роли мастера и модели условны. Даже в сценариях с доминированием ключевым остаётся принцип «информированного согласия». Автор разбирает случаи из своей практики: например, историю женщины, которая через практику связывания научилась отпускать контроль, или мужчины, нашедшего в подчинении способ борьбы со страхами. Подчёркивается важность «послевкусия» — обсуждения переживаний после сессии, которое помогает участникам интегрировать опыт в повседневную жизнь.
Психологические аспекты и риски
Один из самых объёмных разделов посвящён работе с подсознанием. Связывание, по мнению Мосафира, активирует архетипические страхи (потеря свободы, доверие к другому) и трансформирует их в источник катарсиса. Автор предупреждает о подводных камнях: проекции чувств на мастера, неадекватная оценка физических ограничений, игнорирование эмоциональных границ. Приводится трагикомичный пример сессии, где модель, не предупредившая о клаустрофобии, испытала паническую атаку, а мастер, увлёкшись эстетикой, вовремя не заметил изменений в её дыхании.
Шибари в современном искусстве
Заключительные главы исследуют влияние шибари на перформанс, фотографию и кинематограф. Мосафир критикует коммерциализацию практики, когда связывание превращается в банальный фетиш, лишённый духовной составляющей. На контрасте он описывает проект японского художника Хадзимэ Киморы, создающего инсталляции с верёвками, которые символизируют социальные связи в цифровую эпоху. Отдельно упоминаются этические дилеммы: можно ли считать шибари искусством, если зритель воспринимает его исключительно через призму эротики?
Путь самоисследования
Книга завершается личным манифестом автора. Мосафир признаётся, что для него шибари стало способом преодоления одиночества — каждая связка это попытка «завязать диалог с миром». Он призывает читателей не копировать техники слепо, а искать собственный стиль, где верёвки станут «продолжением пальцев, а не инструментом контроля». Философская заключительная глава перекликается с дзен-буддистскими притчами: мастер, идеально владеющий узлами, однажды развязывает все верёвки и обнаруживает, что истинная свобода — в принятии своих ограничений.