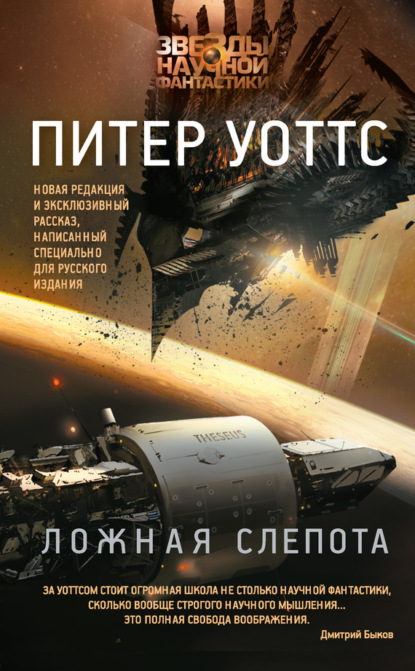- -
- 100%
- +

Глава 1: Шёлк и Скорбь
Дуньхуан дышал пылью и вечностью. Этот город, последний оплот Поднебесной на краю безбрежной пустыни Такла-Макан, был подобен камню, брошенному в песочные часы мира. Сквозь его Нефритовые врата утекали на запад караваны шёлка, нефрита и специй, а с запада вливались диковинные люди с кожей цвета меди и глазами всех оттенков неба, принося с собой стекло, благовония и чужих богов. Воздух здесь был густым от скрипа арб, ржания лошадей, гортанных выкриков на десятках языков и тонкого, едва уловимого аромата цветущих персиков, упрямо цеплявшихся за жизнь в глинобитных дворах.
Для Мэй Лин этот город пах иначе. Для неё он пах солнцем, нагревшим камень сторожевой башни, запахом конского пота и кожи от доспехов Чэня, и, самое главное, – чистым, прохладным ароматом шёлковых нитей, что струились сквозь её пальцы с самого детства.
Её мир был заключён в прямоугольной раме ткацкого стана. Массивный, вырезанный из тёмного, отполированного до блеска дерева, он достался ей от матери, а той – от её матери. Он был сердцем их маленького дома, и его ритмичный стук – клак-так, клак-так – был биением этого сердца. Мэй Лин знала его голос лучше собственного. Знала, как он отзывается на натяжение нитей основы, как ворчит, когда нить утка ложится неровно, и как поёт свою мерную песню под её умелыми руками.
Руки Мэй Лин не знали покоя. Они были её продолжением, её голосом, её душой. Пальцы, тонкие и сильные, с мозолями на подушечках от бесконечных нитей, порхали над станом, словно бабочки над цветочным лугом. Она не просто ткала – она рисовала шёлком. В её гобеленах оживали легенды: Нефритовый император взирал со своих небесных чертогов, драконы гнались за жемчужинами в облаках, а фениксы расправляли огненные крылья. Купцы из далёкой Согдианы и даже кудрявые, бородатые мужи из страны Ром, как они себя называли, платили немалые деньги за её работы. Но самое лучшее, самое драгоценное она хранила для себя.
И для Чэня.
Сейчас на её стане был натянут самый чистый, самый дорогой шёлк, какой только можно было найти в Дуньхуане. Белый, как первый снег на вершинах Тянь-Шаня, сияющий лунным светом даже в полумраке комнаты. Этот шёлк ждал своего часа больше года. Мэй Лин купила его, отдав почти всё, что заработала на продаже гобелена с изображением Богини Сиванму. Этот шёлк предназначался для его победного одеяния.
Чэнь был воином, капитаном небольшого отряда, охранявшего участок Великой Стены к северу от города. Он не был знатен, не был богат, но в его глазах отражалась вся твёрдость пустынных скал и вся глубина ночного неба. Когда он улыбался, в уголках его глаз собирались морщинки, и Мэй Лин казалось, что в целом мире нет ничего прекраснее.
Он должен был вернуться три дня назад. Их отряд ушёл в короткий рейд, выследить шайку кочевников-сюнну, что осмелели и начали грабить малые караваны у самого оазиса. «Это быстро, Лин, – говорил он ей на прощание, касаясь её щеки своей загрубевшей от рукояти меча ладонью. – Они как шакалы, стоит показать им кнут – и они разбегутся. А когда я вернусь, ты закончишь мой халат, и мы пойдём к твоим родителям просить благословения».
Он поцеловал её тогда, и его поцелуй был солёным от пота и пыли, но для неё он был слаще мёда.
Три дня прошли в тумане ожидания. Каждый стук в ворота заставлял её сердце подпрыгивать, каждый крик на улице казался голосом глашатая, объявляющего о возвращении героев. Она почти не спала, проводя часы у стана, перебирая лунно-белые нити и представляя узор, который будет их украшать: не драконов и не фениксов, а двух журавлей, летящих рядом, – символ долгой и счастливой совместной жизни.
На четвёртый день сердце перестало подпрыгивать. Оно сжалось в холодный, тяжёлый камень. А потом она услышала. Не крик глашатая, а медленный, тяжёлый топот копыт и тихий, скорбный гул толпы у ворот.
Она выбежала из дома, опрокинув корзину с веретёнами. Люди расступались перед ней, отводили глаза, на их лицах было сочувствие, смешанное со страхом. В центре толпы стоял один всадник. Не Чэнь. Это был юный Ли, самый молодой воин из его отряда. Его лицо было серым от пыли и усталости, левая рука висела на грязной тряпичной перевязи, а в правой он сжимал… меч.
Меч Чэня. Его рукоять из тёмного дерева, которую она знала наощупь, его простое, но надёжное лезвие, на котором сейчас темнели бурые пятна и зияла глубокая зазубрина у самого острия.
– Они ждали нас в ущелье, – прохрипел Ли, не в силах поднять на неё глаза. – Засада. Их было втрое больше. Мы бились… Капитан Чэнь… он велел мне уходить, прорываться к своим. Он прикрывал отход. Он… спас меня. Это всё, что я смог забрать.
Мир Мэй Лин раскололся. Звуки города утонули, цвета поблекли и смешались в единое серое пятно. Она не помнила, как взяла меч, как вернулась в дом. Она очнулась, сидя на полу посреди своей мастерской. В руке она всё ещё сжимала холодную сталь рукояти. В ушах стоял не стук её стана, а оглушительная, всепоглощающая тишина.
Горе было не океаном, в котором можно утонуть. Оно было пустыней. Бескрайней, выжженной, где не осталось ни единой слезинки, ни единой мысли, ни единого чувства, кроме иссушающей пустоты. Она не плакала. Она не кричала. Она просто сидела, пока солнце не прошло свой путь по небу и не кануло за дюны, оставив комнату в холодных синих сумерках.
Дни и ночи смешались. Родители приносили ей еду, но она не притрагивалась к ней. Подруги пытались говорить с ней, но она не слышала их. Мир живых стал для неё далёким, неразборчивым шёпотом за толстой стеной. Единственной реальностью был холод меча в её руке и пустота внутри.
А потом, на третью ночь, когда лунный свет залил мастерскую, её взгляд упал на ткацкий стан. На нём сияли девственно-чистые нити основы, предназначенные для его победного халата.
Победного.
Что-то внутри неё дрогнуло и сломалось. Сухая, выжженная пустыня её горя дала трещину, и из этой трещины хлынул обжигающий, солёный источник. Слёзы, которые она не могла пролить три дня, полились из её глаз бесконечным потоком. Она рыдала, сотрясаясь всем телом, обняв холодные, безмолвные стойки своего стана. Она плакала о нём, о себе, о нерождённых детях, о несбывшихся рассветах, которые они должны были встретить вместе.
И когда слёзы иссякли, оставив после себя лишь гулкую, ноющую боль, она поняла, что должна сделать.
Чэнь не вернётся. Его тело осталось в песках, истерзанное стервятниками и временем. У него не будет могилы, не будет достойного погребения. Но она могла дать ему последнее одеяние. Не победный халат. Погребальный саван.
Словно во сне, она поднялась. Её движения были медленными, ритуальными. Она зажгла масляную лампу, и её тусклый свет выхватил из мрака знакомые очертания комнаты. Она отложила меч и подошла к стану. Её пальцы, дрожа, коснулись шёлковых нитей. Они были прохладными и гладкими, как кожа призрака.
Она села на свою скамью. Взяла в руки челнок. Но вместо того, чтобы вложить в него обычную нить, она сделала то, чего не делала никогда. Она закрыла глаза и вызвала в памяти его образ.
Не воина. Не капитана. А просто Чэня.
Она вспомнила их первую встречу на празднике Фонарей. Он, неловкий и смущённый в парадном халате, случайно толкнул её, и её бумажный фонарик в виде карпа упал в арык. Он бросился в воду, не раздумывая, и достал его, промокший до нитки, но с такой виноватой и одновременно ослепительной улыбкой, что она влюбилась в него в тот же миг.
Она взяла белоснежную шёлковую прядь и провела ею по щеке, смачивая её слезами нового, тихого плача – плача воспоминаний. Она вложила эту нить в челнок.
Клак-так.
Челнок прошёл сквозь нити основы, оставив за собой первый, едва заметный след.
Она вспомнила, как он принёс ей из степи цветок горного эдельвейса. «Он такой же упрямый, как ты, – сказал он. – Растёт там, где ничто другое не может выжить». Она вплела в уток нить цвета слоновой кости, окрашенную отваром редких трав, и в её памяти ожил бархатистый холод лепестков на её ладони.
Клак-так.
Она вспомнила его смех – глубокий, грудной, заставлявший её смеяться в ответ, даже если шутка была совсем не смешной. Она выбрала нить, чуть тронутую золотом, сияющую, как солнечный луч.
Клак-так.
Она вспомнила тепло его руки, когда он впервые взял её ладонь в свою. Их пальцы переплелись, и это было так правильно, так естественно, словно они были созданы друг для друга. Она взяла нить, окрашенную шафраном в нежно-тёплый, телесный цвет.
Клак-так.
Она перестала замечать время. Лампа давно погасла, но её пальцы двигались безошибочно в серебристом свете луны. Мастерская наполнилась тихим, ритмичным стуком, похожим на биение огромного, умиротворённого сердца. Она не ткала узор – она ткала его жизнь. Их жизнь.
Каждый проход челнока был шагом по тропе их общей памяти. Вот нить цвета тёмной бирюзы – цвет ленты в её волосах в тот день, когда он впервые сказал, что любит её. Вот нить пепельно-серая – цвет дыма от их первого совместного очага, когда они прятались от дождя в заброшенной сторожке. Вот нить пронзительно-синяя – цвет неба в тот последний рассвет, когда она провожала его к воротам.
Она вплетала всё: шёпот признаний под звёздами, вкус лепёшек, которые она пекла для него, ощущение его губ на своих, его молчаливое понимание, когда ей было грустно, его гордость, когда он смотрел на её работы. Она отдавала ткани свою скорбь, свою нежность, свою ярость на судьбу, свою безграничную, всепоглощающую любовь. Она вкладывала в каждую нить частичку своей души, своего ци, своей жизненной силы.
Она не ела. Она не спала. Ткацкий стан стал для неё алтарём, а процесс ткачества – священным ритуалом, последним разговором с тем, кого она любила. Её тело иссохло, под глазами залегли тёмные тени, но её руки летали всё быстрее и быстрее, словно боясь не успеть, боясь, что хрупкие образы в её памяти растают прежде, чем она успеет закрепить их в шёлке.
Когда последний дюйм основы был покрыт тканью, в окно уже пробивался бледный, предрассветный свет. Руки Мэй Лин остановились. Стук оборвался, и тишина, что ворвалась в комнату, показалась ей оглушительной.
Она отрезала нить.
Полотно было готово. Она сняла его со стана, и её руки едва выдержали его вес. Шёлк был плотным, тяжёлым, словно сотканным не из нитей, а из лунного света и жидкого мрамора. На нём не было узоров – ни журавлей, ни драконов. Он был однородного, жемчужно-белого цвета, но этот цвет жил и дышал. Он переливался тысячами оттенков, которые нельзя было назвать. Прикоснувшись к нему щекой, Мэй Лин ощутила… тепло.
Не тепло ткани, согретой руками. А живое, глубокое тепло, словно под шёлком медленно и ровно билось спящее сердце.
Измождённая до предела, она рухнула на пол, завернувшись в своё творение. Саван обнял её, как когда-то обнимал он, и впервые за много дней она уснула. Она не видела, как в первых лучах восходящего солнца погребальное полотно, впитавшее в себя душу её любви, на мгновение вспыхнуло мягким, золотистым светом, а затем снова стало просто белым шёлком.
Просто шёлком. Но уже никогда – не просто тканью. Дар пробудился в скорби, и мир больше никогда не будет прежним.
Глава 2: Шёпот в ткани
Мэй Лин разбудила боль. Не душевная, всепоглощающая пустота, которая стала её спутницей, а острая, физическая боль в каждой мышце, в каждом суставе. Тело, три дня и три ночи бывшее лишь придатком к ткацкому стану, теперь мстило за пренебрежение. Голова гудела, словно внутри поселился рой разъярённых пчёл, а в горле стоял сухой, пыльный ком. Она лежала на холодном глиняном полу своей мастерской, и первое, что она осознала – это тяжесть и тепло на своих плечах.
Саван.
Он укрывал её, и от него исходила слабая, но отчётливая, живая теплота. Это было невозможно. Ткань не может греть сама по себе, если только не впитала тепло тела. Но она пролежала на ледяном полу всю ночь. Мэй Лин медленно, с усилием села. Рассветные лучи, пробиваясь сквозь щели в деревянных ставнях, рисовали на полу золотые полосы, в которых плясали мириады пылинок. В этом свете шёлк казался не просто белым. Он светился изнутри, словно в его нитях запутался последний отблеск полной луны.
Она провела по нему ладонью. Ткань была плотной, гладкой и тёплой. Словно кожа живого существа. Внезапно её охватил страх – иррациональный, первобытный. Что она создала? В порыве горя, на грани безумия, что она сделала? Она отползла от савана, глядя на него с суеверным ужасом, как крестьянин смотрит на лису-оборотня.
Дверь со скрипом отворилась. На пороге стояла её мать, неся в руках миску с горячим рисовым отваром. Увидев дочь сидящей на полу, бледную, с огромными, запавшими глазами, она ахнула и бросилась к ней.
– Ай, доченька моя! Мэй Лин! Ты жива! Мы уж думали…
Женщина обняла её, и Мэй Лин уткнулась в её плечо, пахнущее дымом очага и имбирём. Впервые за несколько дней она почувствовала что-то, кроме боли и пустоты – укол вины за то, что заставила родителей так волноваться.
– Я… я в порядке, мама, – прошептала она, но голос её был слаб и неуверен.
Взгляд матери упал на лежащий на полу шёлк. Она замолчала на полуслове, её руки замерли.
– Небеса… – выдохнула она. – Это… это ты соткала?
Мэй Лин лишь кивнула, не в силах оторвать взгляда от своего творения. Мать медленно подошла к савану и с благоговением протянула руку, но в последний момент отдёрнула её, не решаясь прикоснуться.
– Я никогда не видела такой ткани, – прошептала она. – Словно её соткали не человеческие руки, а сами лунные девы. Он… он как будто живой.
Сердце Мэй Лин пропустило удар. Она не ошиблась. И это не игра её измученного воображения.
Новости в Дуньхуане распространялись быстрее степного пожара. К полудню весь квартал знал, что безутешная невеста капитана Чэня очнулась от своего горя и соткала для него погребальный саван невиданной красоты. Родители Чэня, Мастер Фэн и госпожа Лю, пришли сами.
Мастер Фэн, отец Чэня, был кузнецом. Человек, выкованный из того же огня и железа, с которым он работал всю жизнь. Его горе было безмолвным, застывшим в суровых морщинах у рта и в тяжести плеч. Госпожа Лю, его жена, напротив, казалось, выплакала все слёзы; её лицо превратилось в иссушенную маску скорби, но в её движениях всё ещё чувствовалась былая стать и сила. Они вошли в мастерскую, и Мэй Лин, пошатываясь, поднялась им навстречу, совершая глубокий, почтительный поклон.
– Дядя Фэн, тётушка Лю, – прошептала она. – Примите моё соболезнование. Я… я сделала это для него.
Она указала на саван, аккуратно сложенный на деревянном сундуке.
Госпожа Лю подошла ближе. Её сухие, потрескавшиеся губы дрогнули. Она смотрела на шёлк, и в её выцветших глазах на мгновение вспыхнул огонёк изумления. Она протянула свою натруженную, покрытую сеткой морщин руку и коснулась ткани.
– Тёплый… – прошептала она и посмотрела на Мэй Лин с недоумением. – Почему он тёплый?
Мастер Фэн подошёл и тоже коснулся савана. Его густые брови сошлись на переносице. Он ничего не сказал, но его плечи напряглись. Он, человек, знающий всё о тепле металла, чувствовал это неестественное, живое тепло.
– Поскольку тела нашего сына нет, – произнёс он наконец, и его голос был ровным и глухим, как удар молота по холодной наковальне, – мы проведём обряд «призывания души» сегодня вечером. Этот саван… он будет на алтаре вместо него. Это великий дар, Мэй Лин. Наша семья в вечном долгу перед тобой.
Вечером их небольшой двор был полон людей. Солдаты из отряда Чэня, соседи, дальние родственники – все пришли почтить память павшего капитана. Воздух был тяжёлым от запаха ладана и дыма от ритуальных свечей. В центре двора был сооружён временный алтарь. На нём лежали немногочисленные вещи Чэня, которые были дома: его запасной шлем, потускневший от времени, и свиток с наставлениями Сунь-цзы, который он любил перечитывать. Рядом стояла поминальная табличка с его именем, выведенным твёрдой рукой Мастера Фэна. А в центре, на почётном месте, лежал сложенный вчетверо жемчужно-белый саван, излучавший в свете факелов мягкое, призрачное сияние. Рядом с ним Мастер Фэн положил сломанный меч, принесённый Ли.
Мэй Лин, облачённая в простое платье из небелёного, грубого холста – цвет траура, – стояла рядом с родителями Чэня. Она чувствовала себя посторонней, призраком на чужом празднике скорби. Её горе было слишком личным, слишком странным, чтобы делить его с кем-то. Весь её взор был прикован к савану. Она боялась его. Боялась того, что может произойти.
Ритуал начался. Мастер Фэн, как глава семьи, трижды ударил в небольшой гонг, и его гулкий, печальный звук поплыл над притихшим двором. Он подошёл к алтарю, зажёг три ароматические палочки, поклонился табличке сына и вознёс их к небу.
– О, дух нашего сына, Фэн Чэня! – воззвал он громким, но дрожащим голосом. – Мы, твои родители, твои братья по оружию и твои друзья, взываем к тебе! Твоё тело осталось в диких землях, но твой дух пусть вернётся домой! Прими наши скромные дары, найди покой и следуй по пути предков!
За ним к алтарю потянулись другие. Они кланялись, возлагали чашечки с рисом и вином, сжигали ритуальные деньги, чтобы Чэню ни в чём не было нужды в загробном мире. Горе было осязаемым. Оно висело в воздухе, оно текло по щекам солдат, которые видели смерть сотни раз, но не могли сдержать слёз по своему капитану.
Мэй Лин стояла как вкопанная. Она смотрела на саван и видела не ткань. Она видела их смех, их ссоры, их мечты, переплетённые в тугой, сияющий узел. Она чувствовала, как её жизненная сила, её ци, утекла в эти нити, и теперь она была пуста.
Наконец, ритуал подошёл к концу. Толпа начала редеть. Остались только самые близкие. И тогда госпожа Лю, которая весь обряд стояла неподвижно, как каменное изваяние, медленно шагнула к алтарю. Её лицо было непроницаемо, но её пальцы сжимались и разжимались. Она подошла к савану.
– Мой мальчик… – прошелестела она. – Мой маленький А-Чэнь…
Она протянула дрожащую руку и накрыла ладонью сияющий шёлк.
И в этот момент всё изменилось.
Глаза госпожи Лю широко распахнулись. Глухой стон сорвался с её губ. Она отдёрнула руку, словно обжёгшись, но тут же прижала её к сердцу. Слёзы, которых, казалось, уже не осталось, хлынули из её глаз. Но на её лице было не горе. На её лице было потрясение. Чудо.
– Его ручка… – прошептала она, глядя куда-то в пустоту. – Такая маленькая… пухленькая… Он снова гоняется за цыплятами во дворе… Смеётся…
Люди замерли, переглядываясь. Все решили, что бедная женщина окончательно потеряла рассудок от горя. Отец Мэй Лин сделал шаг, чтобы увести её, но Мастер Фэн остановил его жестом. В его глазах, обычно непроницаемых, как закалённая сталь, мелькнуло что-то новое.
Он подошёл к жене, положил ей руку на плечо, а затем сам, медленно и решительно, положил свою широкую, мозолистую ладонь кузнеца на саван. Он застыл. Его спина выпрямилась. На его суровом лице отразилась целая буря эмоций: недоверие, изумление, а затем – огромная, всепоглощающая отцовская гордость.
– Деревянный меч… – сказал он глухо, но все его услышали. – Я помню этот день. Я выстрогал ему первый деревянный меч. Он держал его так крепко… и смотрел на меня. В его глазах было столько огня. Он сказал: «Я буду защищать тебя, отец».
Он убрал руку и посмотрел на свою жену. И впервые за все эти дни скорби они посмотрели друг на друга не с болью, а с общим, тайным знанием. С чудом.
Во дворе повисла звенящая тишина. Все смотрели то на стариков, то на саван, не в силах понять, свидетелями чего они только что стали.
Но Мэй Лин поняла.
Ледяные тиски ужаса и понимания сдавили её сердце так, что она едва могла дышать. Это не было иллюзией. Это не было игрой воображения обезумевших от горя родителей. Это была правда. Те воспоминания, те чувства, та любовь, которые она вплетала в ткань в своём отчаянном, бессознательном ритуале… они остались там. Они застыли в шёлке, живые и тёплые. Она не просто соткала саван. Она соткала гробницу для фрагментов его души. Она заперла в ткани эхо его жизни.
Она посмотрела на свои руки. На тонкие пальцы, которые все считали такими умелыми. Ещё вчера она видела в них руки художника, ремесленника. Теперь она видела в них нечто иное. Нечто пугающее. Инструмент, способный прикоснуться к тому, к чему не должен прикасаться ни один смертный.
Обряд был окончен. Люди расходились, унося с собой шёпот и недоумённые взгляды. Госпожа Лю, успокоившаяся и просветлённая, подошла к Мэй Лин и обняла её.
– Спасибо, дитя, – прошептала она ей на ухо. – Ты не просто почтила его память. Ты… ты вернула нам его частичку.
Но для Мэй Лин это не было утешением. Это был приговор. Она стояла посреди опустевшего двора, под холодными, безразличными звёздами пустыни, и чувствовала себя самой одинокой на свете. В её руках был дар, рождённый из любви и скорби, но его природа была ей неведома, его сила – непредсказуема, а его цена – невообразима. Она заглянула за завесу мира, и теперь пути назад не было.
Глава 3: Первые Узоры
Прошла луна. Пыль, поднятая траурной процессией, давно улеглась обратно на мощёные улочки Дуньхуана, но шёпот остался. Он следовал за Мэй Лин невидимой тенью, когда она выходила на рынок за рисом или нитками. Она видела его в отведённых взглядах соседей, в том, как торговцы становились с ней подчёркнуто, почти испуганно вежливы. Она стала «той самой ткачихой». Той, что соткала живое полотно. Той, чьё горе было столь велико, что духи смилостивились над ней. Или, как шептались в тёмных углах чайных, той, что познала опасное колдовство (wu).
Саван остался в доме родителей Чэня. Госпожа Лю хранила его в кедровом сундуке, завёрнутым в простую ткань, и доставала лишь в моменты особой тоски. Для неё и Мастера Фэна он стал священной реликвией, якорем, который удерживал память об их сыне в этом мире. Они больше не плакали. Иногда Мэй Лин видела их издалека, и в их осанке появилась новая, странная умиротворённость. Они обрели утешение.
А Мэй Лин обрела страх.
Её мастерская из святилища превратилась в темницу. Ткацкий стан, её верный друг и продолжение её души, теперь смотрел на неё, как спящий дракон. Она боялась прикоснуться к нему. Боялась своих рук. Она смотрела на свои пальцы и видела не искусные инструменты ремесленника, а нечто чуждое, непостижимое. Что, если это повторится? Что, если в следующий раз, вплетая в гобелен образ летящего феникса, она случайно запрёт в нём частичку птичьей души, и тот, кто купит его, будет слышать в своей голове призрачный птичий крик? Что, если, вышивая халат для своего отца, она нечаянно вложит в него нить со своим страхом, и старик до конца своих дней будет мучиться от беспричинной тревоги?
Дар, рождённый из любви, грозил стать проклятием, отравляющим всё, к чему она прикасалась.
Неделями она не работала. Она разбирала старые мотки ниток, чинила сломанные веретёна, делала всё, чтобы не садиться за стан. Но праздность была ещё хуже. В тишине её преследовали вопросы, острые, как иглы.
Было ли это случайностью? Уникальным стечением обстоятельств, где её безмерное горе, её любовь, её жизненная сила (ци), истощённая до предела, и чистейший лунный шёлк сошлись в одной точке, прорвав завесу между мирами? Или… это было нечто большее? Таилась ли эта сила в ней всегда, спала, как семя в сухой земле, и лишь потоки её слёз заставили его прорасти? Можно ли это контролировать? Можно ли это повторить?
Последний вопрос был самым страшным. И самым настойчивым. Она поняла, что не сможет жить дальше, пока не найдёт на него ответ. Страх перед неизвестностью был сильнее страха перед самим даром. Она должна была знать.
Однажды ночью, когда весь город спал под яркими, холодными звёздами пустыни, она заперла дверь своей мастерской, зажгла одну-единственную свечу и подошла к стану. Сердце колотилось о рёбра, как пойманная в клетку птица. Она решила начать с малого. С чего-то безличного. Не с души человека, не со сложного воспоминания, а с простого, чистого ощущения.
Её мать в последнее время часто страдала от тревоги, плохо спала, беспокоясь о будущем Мэй Лин. «Спокойствие», – решила Мэй Лин. Она попробует соткать спокойствие.
Она села на свою скамью, закрыла глаза и попыталась очистить свой разум. Она дышала медленно и глубоко, как учили даосские мудрецы, чьи проповеди она иногда слышала на рыночной площади. Она вспоминала ощущение тишины у горного ручья, гладкость речного камня, медленное движение облаков в летнем небе. Она старалась не просто вспомнить, а почувствовать это спокойствие в каждой клеточке своего тела, позволить ему наполнить себя.
Затем она взяла нити. Не драгоценный шёлк, а обычный хлопок, окрашенный индиго в глубокий, мирный синий цвет. Она начала ткать. Не гобелен, а просто небольшой квадрат ткани. Клак-так, клак-так. С каждым проходом челнока она выдыхала, посылая волну умиротворения в свои руки, в нити, в сплетающееся полотно. Это было невероятно утомительно. Сосредоточение требовало огромных усилий. Через час она была вымотана так, словно целый день таскала камни.