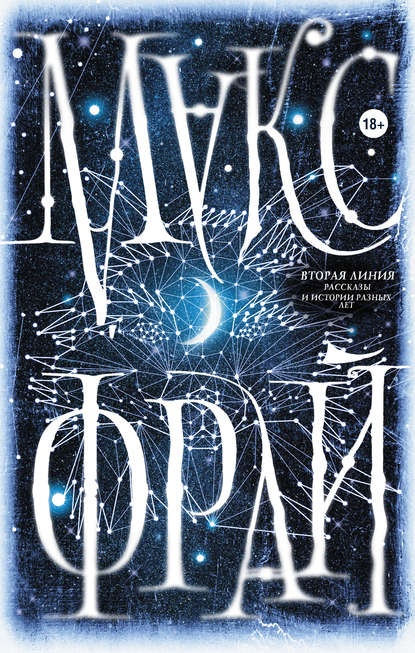- -
- 100%
- +
Она отрезала синий лоскут. На ощупь он был обычным хлопком. Никакого тепла, никакого сияния. Разочарованная, она оставила его на столе. На следующий день, когда её мать пришла прибраться в мастерской, она, жалуясь на головную боль, взяла этот лоскут, чтобы протереть пыль. Мэй Лин, затаив дыхание, наблюдала за ней. Мать провела лоскутом по столу, потом по полке, и вдруг замерла. Она прислонилась к стене, закрыла глаза и сделала глубокий вдох.
– Странно… – пробормотала она. – Голова как будто прояснилась. Наверное, просто устала.
Она бросила тряпку в ведро и продолжила уборку. Эффект был. Но он был слабым, мимолётным, как дуновение ветерка в знойный день. Неубедительным.
Мэй Лин поняла свою ошибку. Спокойствие было слишком абстрактным. Дар требовал чего-то более конкретного, чего-то, что можно ощутить, попробовать на вкус, запомнить.
Её следующий эксперимент был иным. Она пошла на рынок и долго выбирала самый совершенный персик, какой только смогла найти. Он был бархатистым, с нежным румянцем на боку, и источал такой сладкий аромат, что казалось, в нём заключено всё лето. Вернувшись в мастерскую, она провела несколько часов, изучая его. Она вдыхала его запах, пока он не отпечатался в её памяти. Она касалась его нежной кожицы, запоминая её текстуру. Затем она осторожно откусила кусочек. Сладкий, тёплый сок брызнул ей на язык. Это было совершенство.
В ту ночь она снова села за стан. На этот раз она взяла тончайшие шёлковые нити, окрашенные соком марены и лепестками сафлора в десятки оттенков розового, оранжевого и золотого. Она ткала, и перед её мысленным взором стоял не образ, а ощущение. Запах. Вкус. Клак-так. Нить персиковой сладости. Клак-так. Нить бархатистой нежности. Клак-так. Нить аромата летнего сада.
Когда она закончила, перед ней лежал небольшой платок, переливающийся всеми цветами заката. Она с трепетом поднесла его к лицу. И… ничего. Лишь слабый, почти неуловимый запах красителей. Она потерпела неудачу. Усталая и подавленная, она бросила платок в корзину с обрезками и забыла о нём.
Прошло несколько дней. Она уже решила оставить свои опасные опыты, смириться с тем, что чудо с саваном было неповторимой случайностью. Но однажды к ней зашла маленькая дочь соседа, чтобы отдать долг за молоко. Увидев красивый лоскут в корзине, она с восторгом вытащила его.
– Какая красота, сестрица Мэй Лин! Можно мне?
– Возьми, А-Бао, – устало махнула рукой Мэй Лин.
Девочка счастливо прижала платок к лицу, и вдруг её глаза изумлённо распахнулись.
– Ой! – воскликнула она. – Как будто персик съела! Так сладко!
Она снова и снова прижимала ткань к лицу, смеясь от восторга. Мэй Лин застыла, глядя на неё. Неужели?.. Она не почувствовала ничего, потому что сама была источником этого ощущения. Дар работал не на своего создателя. Он работал на других.
Это открытие было пугающим и волнующим одновременно. Она на верном пути. И она поняла, чего не хватало в её экспериментах. Личной, глубокой эмоциональной связи. Любви. Не всепоглощающей и трагической, как в случае с Чэнем, но искренней и тёплой.
И она знала, для кого проведёт свой главный, решающий опыт.
Её дед по материнской линии, старый У, был тенью того человека, которого она помнила в детстве. После смерти бабушки пять лет назад он угас. Он почти не выходил из своего маленького домика в дальнем конце города, целыми днями сидел в заросшем дворике, глядя на небо пустыми глазами. Он жил прошлым, но даже прошлое, казалось, ускользало от него, оставляя лишь серый туман сожалений.
Мэй Лин любила его всем сердцем. И она помнила истории, которые рассказывала ей бабушка. Особенно одну – про день их свадьбы. Бабушка, смеясь, описывала, каким неловким был молодой У, как он уронил чашу с вином, как пахли цветы османтуса в её волосах, и какой красивой она была в своём алом свадебном платье.
Эта история. Вот что она ему подарит.
В этот раз она готовилась как жрица к священному ритуалу. Она отобрала лучшие нити: киноварно-красные для платья, золотые для вышивки, нежно-кремовые для цветов османтуса. Она не просто вспоминала рассказ бабушки. Она пыталась увидеть его её глазами. Почувствовать волнение юной невесты, услышать звуки свадебной музыки, вдохнуть сладкий аромат цветов. Она вплетала в ткань не только историю, но и всю свою любовь к старикам, свою тоску по ушедшей бабушке и своё отчаянное желание вернуть деду хотя бы крупицу счастья.
Работа заняла три дня. Это был небольшой шейный платок с вытканным на нём простым узором – веточкой османтуса. Когда она закончила, платок казался совершенно обычным. Но она знала – он был готов.
Она нашла деда на его обычном месте, на старой бамбуковой скамье под засохшим персиковым деревом.
– Гун-гун (дедушка), – тихо позвала она.
Он медленно повернул голову. Его мутные глаза сфокусировались на ней не сразу.
– А, Мэй Лин. Это ты, дитя.
– Я принесла вам подарок, – сказала она, протягивая ему платок. – Чтобы вам было теплее. В память о По-по (бабушке).
Он взял платок своими узловатыми, дрожащими пальцами.
– Хорошая работа, – проскрипел он, оценив качество ткани. – Твои руки всё так же искусны.
Он рассеянно поднёс платок к лицу, чтобы ощутить его мягкость.
И время остановилось.
Дрожь в его руках прекратилась. Морщины на его пергаментном лице, казалось, разгладились. Пустота в его глазах исчезла, и они наполнились светом, которого Мэй Лин не видела уже много-много лет. Он смотрел не на неё и не на свой запущенный двор. Он смотрел сквозь пятьдесят лет, на самый счастливый день своей жизни.
По его щеке скатилась слеза. Потом ещё одна. Он прижал платок к лицу, вдыхая его так, словно это был сам воздух жизни. Его плечи сотрясались от беззвучных рыданий.
– Османтус… – прошептал он голосом, в котором вдруг прорезались юношеские нотки. – Я помню… Я чувствую запах османтуса в её волосах… Она идёт ко мне… в своём красном платье… Небеса, какая же она была красивая… Музыка…
Он плакал. Но это были не горькие слёзы старика, оплакивающего потери. Это были слёзы чистого, незамутнённого счастья, слёзы человека, которому на одно бесценное мгновение вернули его утраченную любовь.
Мэй Лин стояла рядом, и её собственное сердце разрывалось от смеси ликования и священного ужаса.
Дар подтвердился. Он был реален. И он был послушен её воле.
Она утешила деда. Она вернула ему радость. Но какой ценой? Она коснулась его души, изменила его настоящее, подарив ему иллюзию прошлого. Где граница между утешением и обманом? Между даром и проклятием?
В тот вечер, вернувшись в свою притихшую мастерскую, Мэй Лин зажгла свечу. Но она не подошла к ткацкому стану. Она достала чистый бамбуковый свиток, тушечницу и кисть. Дрожащей рукой она вывела первый иероглиф.
Она не знала, что делает – пишет ли она учебник, исповедь или предупреждение. Она знала лишь одно: это знание было слишком велико и слишком опасно, чтобы хранить его только в своей голове. Она должна была понять его. Описать. Упорядочить.
Так, в тусклом свете свечи, в маленьком домике на краю великой империи, была начата «Книга Узоров». Летопись семьи, которой ещё не было. И история дара, который мог как исцелить мир, так и сжечь его дотла.
Глава 4: Цена Дара
Миновал ещё один месяц. Осень окрасила редкие листья тополей у арыков в цвет старого золота, и ночи стали холоднее. В жизни Мэй Лин установилось хрупкое, шаткое равновесие. Днём она была обычной ткачихой: принимала заказы на простые ткани, торговалась на рынке за мотки шёлка, помогала матери по хозяйству. Она умышленно бралась за самую простую, механическую работу, где её руки двигались по привычке, а разум оставался ясным и свободным от эмоций, чтобы случайно не оставить в полотне и следа своей души.
Но ночами, когда Дуньхуан погружался в густую, бархатную тишину, её мастерская превращалась в алхимическую лабораторию. При тусклом свете одинокой свечи она продолжала свои тайные изыскания. «Книга Узоров» пополнялась новыми страницами. Она описывала всё с дотошностью придворного летописца: влияние цвета нити на силу эмоции (красный для страсти и гнева, синий для покоя, жёлтый для радости), разницу между шёлком тутового шелкопряда и диким шёлком (первый лучше хранил тонкие, человеческие чувства, второй – более грубые, природные ощущения, такие как страх или голод).
Она обнаружила, что воспоминания, вплетённые в ткань, со временем слабеют, как выцветают на солнце краски, если их не «подпитывать» прикосновением и вниманием. Она поняла, что может создать «пустую» ткань, в которую другой человек, обладающий сильными чувствами, мог бы, сам того не зная, «впечатать» своё состояние. Её дар был не просто способностью отдавать – он был сложным языком, грамматику которого ей только предстояло изучить.
Страх уступил место осторожному любопытству. Она видела, как расцвёл её дед. Он носил её платок на шее, и хотя больше не видел ярких видений, от ткани исходило постоянное, тихое эхо счастья, которое согревало его старые кости и прогоняло мрак из его мыслей. Она соткала для своей матери небольшой мешочек для трав, вложив в него ощущение крепкого, здорового сна. И бессонница, мучившая женщину годами, отступила. Мэй Лин начала верить, что её дар может быть благословением. Что она сможет использовать его для исцеления, для утешения, для маленьких, тихих чудес.
Она ошибалась. Чудеса редко остаются тихими.
Слухи о волшебном саване и о чудесном преображении старого У расползлись по городу, обрастая невероятными подробностями. Они текли по грязным арыкам, передавались шёпотом на шумных базарах, проникали за высокие стены домов богатых купцов и, наконец, достигли места, где собирались все слухи, все тайны и вся власть в Дуньхуане – ямэня, резиденции местного градоначальника.
Первым предвестником беды стал визит, вежливый и незаметный. К ней в мастерскую зашёл не сам чиновник, а его помощник, сухой, похожий на бамбуковый шест человек с бегающими глазками и вечной подобострастной улыбкой. Он представился писцом господина Гуана, градоначальника. Он долго рассыпался в комплиментах её мастерству, восхищался гобеленами на стенах, расспрашивал о красителях и техниках плетения. Его вопросы были невинны, но их было слишком много. Он словно не смотрел, а оценивал, каталогизировал. Мэй Лин отвечала односложно, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Люди власти никогда не приходят просто так.
Через два дня за ней прислали. Два стражника в форменных доспехах, с копьями и суровыми лицами, остановились у её ворот. Это не было приглашение, которое можно отклонить. Это был приказ.
– Градоначальник Гуан желает видеть ткачиху Мэй Лин, – пророкотал один из них, и в его голосе не было и тени вежливости.
Сердце Мэй Лин ухнуло в пропасть. Мать запричитала, отец побледнел. В глазах соседей, выглядывавших из-за заборов, она увидела смесь любопытства и злорадства. Она молча надела своё самое скромное, но чистое платье, поклонилась родителям и вышла за ворота.
Ямэнь был другим миром. Снаружи – неприступные стены, внутри – лабиринт двориков, галерей и залов, где царили строгий порядок и запах власти. Запах дорогого лака, старой бумаги, курильниц с сандалом и едва уловимый, металлический запах страха. Здесь не было места творческому беспорядку её мастерской. Каждый камень, каждый изгиб черепичной крыши говорил о незыблемой силе закона и императора.
Её провели в приёмный зал. Обстановка была изысканной, но холодной: полированный до зеркального блеска пол, тяжёлая мебель из тёмного дерева, шёлковые ширмы с изображением суровых горных пейзажей. Воздух казался густым и неподвижным.
Градоначальник Гуан оказался не таким, как она представляла. Не грубым воякой и не обрюзгшим взяточником. Это был худощавый мужчина средних лет, с холёными руками, длинными пальцами, испачканными тушью, и умными, холодными глазами, которые смотрели насквозь. Он был одет в тёмно-синий халат учёного-чиновника, и вся его фигура выражала спокойную, уверенную в себе власть.
– Госпожа Мэй Лин, – произнёс он, и его голос был гладким, как речная галька. – Прошу, садись. Не бойся. Я позвал тебя, чтобы выразить своё восхищение.
Он указал на низкую скамью. Мэй Лин села на самый краешек, не смея поднять глаз.
– Весь Дуньхуан говорит о твоём искусстве, – продолжал Гуан, медленно прохаживаясь по залу. – И о твоей дочерней почтительности. Утешить убитых горем родителей твоего покойного жениха – поступок, достойный упоминания в хрониках. Вернуть радость жизни своему престарелому деду – это пример для всех. Ты – сокровище нашего города.
Его слова были сладкими, как мёд, но Мэй Лин чувствовала в них привкус яда. Это был не разговор, а допрос. Он показывал ей, что знает всё.
– Мой господин слишком добр, – прошептала она. – Я всего лишь простая ткачиха.
– Не скромничай, – он остановился прямо перед ней и посмотрел ей в глаза. Его взгляд был острым, как игла. – Твои таланты – дар Небес. А дары Небес должны служить Поднебесной. Служить Императору.
Он сделал паузу, давая словам впитаться.
– Ты знаешь, Мэй Лин, что наше положение на границе неспокойно. Племена сюнну наглеют с каждым днём. Наши солдаты – храбрые воины, но многие из них были призваны из далёких провинций. Они тоскуют по дому, их боевой дух иногда колеблется. Верность – хрупкая вещь, её нужно постоянно укреплять.
Он подошёл к столу, взял в руки свиток.
– Говорят, – произнёс он, не глядя на неё, – что твои ткани могут нести в себе чувства. Утешение. Радость. Память. – Он медленно свернул свиток и снова посмотрел на неё. – Я хочу, чтобы ты соткала для моего гарнизона знамя. Великое знамя. На нём будет выткан Золотой Дракон, символ Императора. Но в его нитях, в его красках, должно быть нечто большее. Я хочу, чтобы ты вплела в него дух абсолютной, несокрушимой верности. Чувство долга, которое сильнее страха смерти. Чтобы каждый солдат, взглянувший на это знамя перед боем, забывал о страхе, о доме, о себе, и думал лишь об одном – умереть за Императора.
Комната поплыла перед глазами Мэй Лин. Воздух кончился. Это было именно то, чего она боялась больше всего. Её самый страшный кошмар облёкся в слова, произнесённые этим спокойным, вкрадчивым голосом. Он просил её не утешить. Не исцелить. Он просил её сломать волю сотен людей. Превратить их в бездумных марионеток, идущих на смерть. Украсть их души ещё до того, как их тела пронзят вражеские стрелы.
В её сознании вспыхнул образ савана Чэня – тёплого, полного любви и личных воспоминаний. И платка деда – маленького средоточия чистого счастья. Её дар был языком сердца. А Гуан хотел, чтобы она превратила его в кнут, в кандалы для разума.
– Мой господин… – начала она, и её собственный голос показался ей чужим. – Вы… вы переоцениваете мои скромные способности.
– О, я так не думаю, – улыбнулся Гуан, но его глаза оставались холодными.
– То, что я делаю… это не волшебство. Это просто… чувство. Я могу вложить в ткань лишь то, что пережила сама. Мою скорбь по жениху. Мою любовь к дедушке. Это личные, простые чувства. Но верность Императору… долг… это такие великие, такие огромные понятия. Я не смогу. Полотно получится мёртвым, пустым. Я лишь опозорю себя и не смогу исполнить приказ моего господина.
Она молилась всем богам, чтобы он поверил ей. Чтобы её отказ, завёрнутый в самоуничижение и показную скромность, был принят.
Но Гуан был слишком умён. Он услышал не слова, а суть. Он услышал «нет».
Его лицо на мгновение окаменело. Улыбка исчезла. Он медленно подошёл к ней, и от него повеяло ледяным холодом.
– «Не смогу»? – переспросил он очень тихо. – В землях, подвластных мне, Мэй Лин, нет такого слова для людей, к которым обращается представитель Сына Неба. Есть только «слушаюсь». Служить Империи – высший долг каждого подданного. Отказ от этого долга… это почти измена.
Угроза была произнесена. Она висела в неподвижном воздухе зала, как занесённый топор палача.
– В нашем городе, – продолжил он своим прежним ровным тоном, – мастерские иногда горят. Купцы иногда перестают покупать товар у семей с плохой репутацией. А молодые женщины, обвинённые в колдовстве и смущении умов… заканчивают свои дни очень, очень плохо.
Он снова улыбнулся, и эта улыбка была страшнее любого крика.
– Я ценю твоё искусство, Мэй Лин. И я уверен, что ты просто не до конца осознала, какую великую услугу можешь оказать. Я даю тебе три дня. Подумай. Подумай о своём будущем. О будущем твоей семьи. Найди в своём сердце верность, необходимую для этой работы. Я буду ждать твоего ответа. А теперь можешь идти.
Стражники отворили дверь. Мэй Лин, не помня себя, поднялась, поклонилась и вышла из зала. Её ноги были ватными, в ушах стучала кровь. Она прошла через холодные, безразличные дворы ямэня и вышла за ворота, на залитую солнцем улицу.
Но солнце больше не грело. Привычный шум родного города казался теперь зловещим. Каждый прохожий виделся ей шпионом, каждый дом – ловушкой. Она была свободна, но чувствовала себя в клетке.
Три дня. У неё было три дня, чтобы сделать выбор. Покориться, предать свой дар, свою душу и стать орудием в руках тирана. Или отказать – и обрушить гнев всесильного градоначальника на себя и на свою семью.
Она вернулась в мастерскую и опустилась на скамью перед своим молчаливым, равнодушным ткацким станом. Теперь он не казался ей ни другом, ни драконом. Он был её судьбой. Её даром. И её проклятием. И цена этого дара только что была названа. И ценой была её свобода. Или её жизнь.
Глава 5: Побег на Запад
Возвращение из ямэня было подобно выходу из холодной гробницы на залитую солнцем улицу. Но для Мэй Лин мир потускнел. Яркие краски шёлковых лавок, пряные запахи лепёшек и специй, гул голосов на базаре – всё, что составляло ткань её жизни, теперь казалось декорацией к трагедии. Она шла, не видя дороги, и в ушах её звучали не крики торговцев, а тихий, гладкий голос градоначальника Гуана, в котором звенела сталь. «Три дня». Три удара сердца. Три шага до края пропасти.
Она вошла в дом, и её вид заставил родителей замереть. Её лицо было белым, как неотбеленный холст, а в глазах стоял тот же ужас, что и в день, когда она узнала о смерти Чэня. Она ничего не сказала, лишь прошла в мастерскую, села на свою скамью и беззвучно заплакала – плачем бессилия и страха.
Когда она, заикаясь, рассказала обо всём, в их маленьком доме воцарилась тишина, тяжёлая и душная, как перед песчаной бурей. Её отец, мастер Хонг, человек простой и практичный, чьи руки привыкли к плотницкому инструменту, а не к придворным интригам, первым нарушил молчание.
– Ты ему отказала? – переспросил он, и в его голосе был не гнев, а чистое, животное изумление. – Мэй Лин, ты отказала градоначальнику? Ты хоть понимаешь, что ты наделала?
– Хонг, перестань! – прервала его жена, обнимая дочь за плечи.
– Не перестану! – вскипел отец. Его лицо побагровело от страха, который он пытался скрыть за гневом. – Это всего лишь знамя! Кусок ткани! Он мог бы озолотить нас! А ты… ты ставишь под удар всю семью из-за своей гордости! Он раздавит нас, как муравьёв! Сотки ему это проклятое знамя, дочка! Вложи туда всё, что он просит! Мы должны выжить!
– Нет, – твёрдо сказала Мэй Лин, поднимая на отца заплаканные, но решительные глаза. – Ты не понимаешь, отец. Он просит не просто узор. Он просит меня соткать ложь, которая будет управлять людьми. Он хочет, чтобы я взяла самое светлое, что есть во мне – мою любовь, мою память, мою душу – и превратила это в оружие. В кнут для солдат. Если я сделаю это, я перестану быть собой. Внутри меня останется только пустота. Это хуже, чем смерть.
Её мать крепче сжала её плечо.
– Она права, муж, – тихо сказала женщина. – Я видела, что с ней стало, когда она ткала саван для Чэня. Она отдала ему часть себя. Если она сделает то, что просит этот тиран, он заберёт её всю. Я лучше буду просить милостыню у ворот, чем увижу свою дочь с мёртвыми глазами.
Отец в отчаянии схватился за голову. Он был пойман в ловушку между любовью к дочери и страхом за семью. Он был хорошим человеком, но мир, в котором они жили, редко оставлял хорошим людям хороший выбор. Первый день истёк в спорах, слезах и молитвах, которые, казалось, бились о низкий потолок их дома и не могли долететь до Небес.
На второй день в воздухе повисло зловещее ожидание. Семья говорила шёпотом. Каждый стук в дверь заставлял их вздрагивать. Отец пошёл на рынок и вернулся мрачнее тучи. Двое стражников из ямэня ходили по рядам и «бесцельно» расспрашивали торговцев о семье ткачей Хонг. О их нраве, о долгах, о друзьях и врагах. Сеть затягивалась. Гуан не блефовал. Он готовился нанести удар.
Вечером, когда они сидели за скудным ужином, к которому никто не притронулся, отец поднял голову.
– Нужно бежать, – сказал он глухо.
– Бежать? Куда? – испуганно прошептала мать. – За Стену? В пески? Нас поймают раньше, чем мы пройдём десять ли. Или мы умрём от жажды.
– Не вы, – сказал отец, глядя на Мэй Лин. – Она. Одна.
Идея была безумной. Неслыханной. Чтобы молодая, незамужняя девушка в одиночку покинула дом, семью, родной город и ушла в неизвестность, в дикие земли Запада… это было равносильно смерти. Но альтернативой была смерть настоящая или жизнь, которая хуже смерти.
– Завтра на рассвете, – продолжал отец, и в его голосе появилась стальная решимость, – из города выходит большой караван купца-согдийца Заратуса. Он идёт далеко на запад, через горы, в Самарканд. Я знаю одного из его погонщиков. Если заплатить, они могут взять с собой лишнего человека. Незаметно.
План был отчаянным, почти самоубийственным. Но это был единственный план.
Третий день стал днём прощания, которое не произносилось вслух. Мать весь день готовила в дорогу сухие лепёшки и вяленое мясо, и её беззвучные слёзы падали в тесто. Отец ушёл и вернулся лишь к вечеру. Он продал плотницкие инструменты своего отца – семейную реликвию – и несколько серебряных украшений матери. Вырученных денег должно было хватить, чтобы заплатить за место в караване и прожить первое время.
А Мэй Лин провела свой последний день в мастерской. Она не могла забрать с собой своего верного друга, большой ткацкий стан. С болью в сердце она оставила его, погладив на прощание его отполированное дерево. Но она собрала то, что могла унести. Маленький, разборный ткацкий станок, который можно было уместить в дорожной сумке. Острые ножницы в кожаном чехле. Несколько челноков из отполированного костяного дерева. И самое главное – «Книгу Узоров», свой тайный дневник, который она обернула в промасленную ткань.
Затем она подошла к своим запасам шёлка. Она не могла взять много. Она выбрала лишь несколько небольших мотков самых чистых, самых сильных цветов. И, прежде чем уложить их, она села на пол, взяла по одной нити каждого цвета и, закрыв глаза, начала вплетать в них то, что могло понадобиться ей в пути. Она не ткала, она просто держала нить в руках, концентрируясь, вдыхая в неё чувство. В белоснежную нить она вложила крупицу покоя, чтобы унять страх. В алую – искру храбрости, чтобы не сломаться. В синюю – каплю выносливости, чтобы выдержать долгий путь. В золотую – эхо надежды, чтобы не впасть в отчаяние. Эти нити были её единственным оружием, её последним запасом магии в мире, который внезапно стал враждебным.
Последний ужин был молчаливым. Они сидели втроём в тусклом свете масляной лампы, и каждый взгляд, каждый жест был прощанием. Отец отдал ей тяжёлый мешочек с монетами и маленький, острый нож.
– Держи его всегда при себе. Не доверяй никому, слышишь? Никому.
Мать вложила ей в руки узелок с едой и старый, потёртый амулет из нефрита.
– Пусть духи предков хранят тебя, доченька.
Они не спали в ту ночь.
За час до рассвета, когда мрак был самым густым и холодным, отец коснулся её плеча. Пора. Мэй Лин оделась в старую, поношенную одежду своего младшего брата, который умер в детстве. Широкие штаны, грубая рубаха, потрёпанная шапка, из-под которой она спрятала свои длинные волосы. Она перетянула грудь плотной тканью. Теперь она была просто худым, невзрачным подростком, каких сотни.
Они обнялись у ворот в последний раз. Крепко, отчаянно, пытаясь запомнить тепло друг друга на всю оставшуюся жизнь. Никто не проронил ни слова. Слёзы высохли, остались только боль и решимость.
Она выскользнула на улицу. Спящий Дуньхуан был похож на город призраков. Тихие, кривые улочки, тёмные окна домов, лишь изредка – лай собаки или крик ночной птицы. Она шла быстро, прижимая к себе свой узелок, стараясь держаться в тени. Каждая тень казалась ей стражником, каждый звук – погоней.
Западные ворота, Нефритовые врата, были ещё закрыты, но площадь перед ними уже кипела жизнью. Здесь, за стенами города, формировался караван. Это был целый кочевой город. Сотни двугорбых бактрийских верблюдов, навьюченных огромными тюками с шёлком, фарфором и чаем, лежали на земле, недовольно пережёвывая жвачку. Пахло дымом костров, навозом, потом и незнакомыми пряностями. Бородатые согдийцы в высоких шапках, темнокожие выходцы из Кушанского царства, наёмники-парфяне – все они кричали на разных языках, проверяя упряжь, пересчитывая тюки. Хаос казался непроходимым.