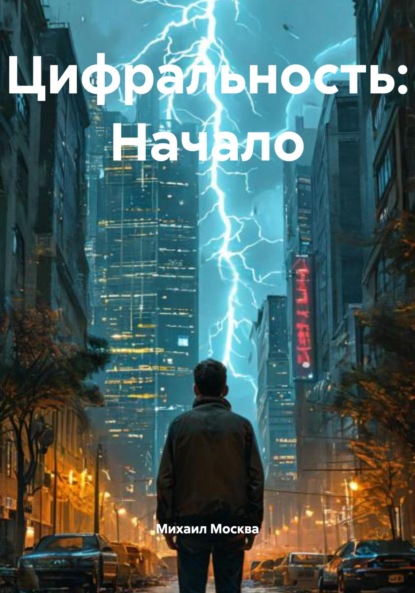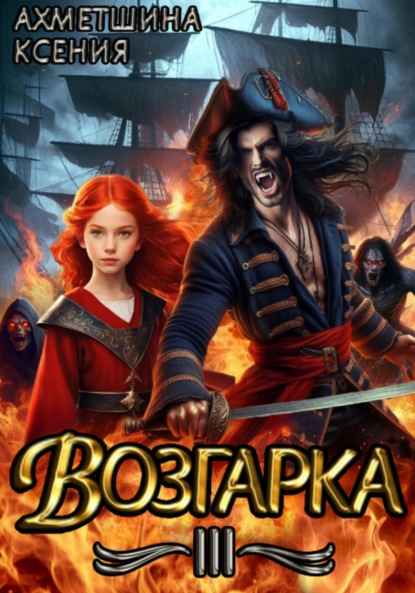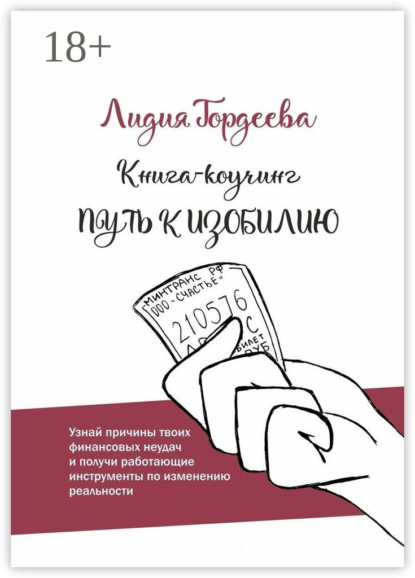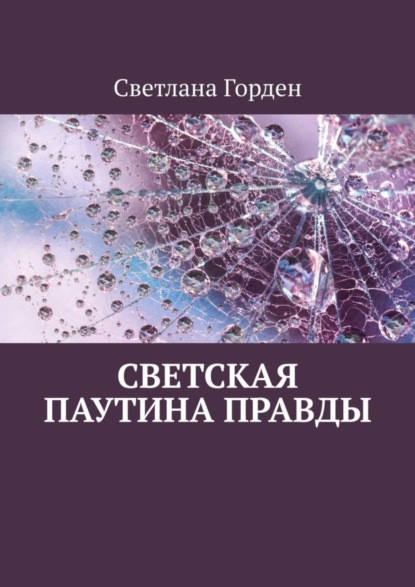- -
- 100%
- +

Цифральность
Майское утро растекалось по комнате золотистыми бликами. Михаил сидел за столом, уставившись в экран, пальцы нервно барабанили по клавиатуре.
– Опять не работает? – Екатерина поставила перед ним чашку чая и заглянула в монитор. На экране красовалась зловещая ошибка: «Segmentation fault (core dumped)».
– Всё! Заброшу эту затею, – он отшвырнул мышку. – Опять потратил месяц впустую.
Она вздохнула, обняла его сзади и положила подбородок на макушку.
– В прошлый раз ты так же психовал из-за своего бота, а через неделю он заработал.
– Но это же…
– А помнишь, как ты три месяца колупался с нейросетью для распознавания котиков? Говорил, что всё – тупик. А теперь у Семёна с работы твой скрипт полгода как в проде.
Михаил хмыкнул. Она всегда находила, что сказать. Екатерина – полная его противоположность: где он видел код и алгоритмы, она видела людей и истории. Работала учительницей в школе, и пока он бился над синтаксисом, она умела одной фразой собрать разбушевавшийся класс.
– Ладно, гений, – она потрепала его по волосам. – Час на раскачку, потом завтрак. А после – либо продолжаешь ковыряться, либо едем на озеро. Твой выбор.
Он потянулся к клавиатуре.
Михаил верил, что мир – не совсем настоящий.
Не то чтобы он всерьёз думал, будто живёт в симуляции. Но иногда, когда за окном закат окрашивал всё в слишком уж идеальные оттенки, или когда в метро вдруг попадались три человека подряд в одинаковых куртках, он ловил себя на мысли: «Это же явный баг».
Екатерина смеялась над ним.
– Опять твои теории? – спрашивала она, когда заставала его в два часа ночи за чтением статьи о квантовом сознании.
– Это не теории, – бормотал он, не отрываясь от экрана. – Вот, смотри: ученые уже могут оцифровать простейшие нейронные связи. Через десять лет, может, и сознание целиком…
– И что, загрузишь себя в компьютер и сбежишь от меня? – она щурилась, но в уголках губ пряталась улыбка.
– Нет, – он наконец отрывал взгляд от монитора. – Тогда уж тебя тоже.
Она называла это «твои цифровые фантазии», но никогда не говорила, чтобы он перестал. Иногда даже приносила ему кофе и садилась рядом, пока он объяснял, как, по последним исследованиям, человеческий мозг – это, по сути, биокомпьютер, и почему, если это так, то в теории его можно…
– …перенести на другой носитель, да, – кивала она, хотя в глазах читалось: «Опять этот бред».
Но ей нравилось, как он говорил об этом. Как загорался, жестикулировал, забывал о времени. В такие моменты он не был просто ещё одним офисным программистом – он был Михаилом, человеком, который верил, что где-то там, за границей обыденности, есть нечто большее.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.