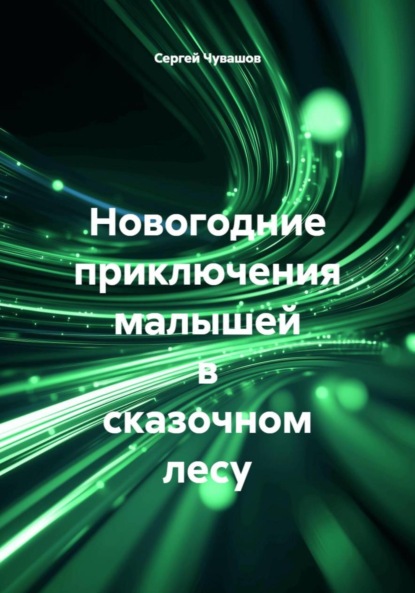Проклятая деревня. Малахитовое сердце

- -
- 100%
- +

© Лизавета Мягчило, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Глава 1
В кабинете удушающе пахло геранью, на стене тихо и размеренно шли часы. Но ему казалось, что каждый щелчок секундной стрелки вкручивался сверлом куда-то между глаз. И виной тому было раздражение – чистое, концентрированное, приправленное злобой, которой не найти выхода. Бестужев не мог позволить этим эмоциям выбраться наружу, они кровожадно бурлили в груди, раздирали на лоскуты, сжимали глотку судорожным спазмом.
За широким лакированным столом из красной вишни сидела заведующая кафедрой. Тугой высокий пучок, вызывающе яркий макияж, которым так отчаянно пытаются скрыть подкрадывающуюся старость. Без него он дал бы ей тридцать пять, с ним – все сорок восемь. И неизменный мышиного цвета костюм с юбкой на ладонь ниже колена и пиджаком с острыми неказистыми вставками на плечах. Из-под стола, лениво покачиваясь, выглядывала черная лакированная туфля на невысоком тонком каблуке с острым носом. Суворова Антонина – гроза преподавательского состава, цепкая и беспринципная, вся кафедра склонялась перед нею с тихим ропотом. А Бестужев встал ей костью поперек глотки.
Даже сейчас, когда эхо его голоса не успело рассеяться под высоким потолком кабинета, она скользнула по нему ничего не выражающим взглядом и уткнулась носом в журналы, рассеянно перелистывая страницу за страницей. Будто он уже исчез, растворился в воздухе, прекратил досаждать. Ни черта подобного. Это чувство… Его не объяснить одним словом, не сориентироваться в неловких наплывах эмоций. Его будто зашвыривало обратно в учебные будни, когда он еще был по ту сторону преподавательского стола. Уступающий, инертный, заискивающий. Выскальзывающий из конфликтов при помощи мягких шуток и улыбок. Тогда в ее глазах светилось снисходительное обожание, увидеть которое выходило у немногих.
Тогда вся его жизнь была четко распланирована, каждый год выверен, цели поставлены. Где сейчас его будущее? Что в нем светлого?
Руководительница раздраженно втянула воздух тонкими ноздрями, выдохнула ртом. И удосужилась поднять на него свои глаза, в наигранном удивлении изгибая выщипанные брови.
«Ты еще здесь?»
«А я могу уйти, не получив согласие?»
За дверью ждал Елизаров. Бестужев слышал натужное поскрипывание колес, когда тот резко останавливал движение коляски сильными руками, поворачивая ее в другую сторону. Как бы иронично это ни звучало, Вячеславу не сиделось на месте даже сейчас. В своей безумной попытке все исправить, перевернуть разукрашенную алым страницу их жизни на новую, белоснежную, пустую, он отгрыз от нервной системы Саши огромный кровавый кусок. Бестужев смирился, сдался, уступая под напором этого лютого желания, грозящего свести их в могилы.
– Александр, вы еще что-то хотели спросить?
– Я ожидаю получить ответ на свою просьбу.
Суворова скривилась. Опустились углы обведенных алым губ, сморщился острый длинный нос, она тяжело вздохнула. Журнал в ее пальцах закрылся с громким хлопком, с подоконника, испуганно чирикнув, взлетел любопытный воробей, и Саша равнодушно проследил взглядом за его полетом.
– А разве это не очевидно? Я не могу дать вам отпуск, совсем скоро начнется учебный год. Нужно скоординировать расписание, разработать учебный материал – кто, если не вы? Вам прекрасно известно, что Геннадий Георгиевич занят сбором данных для своего научного исследования, ему будет некогда.
Суровая реальность, привычно брошенная в лицо. Вот этот этап жизни, который он стремился переступить быстро, почти играючи. Переступил? Пришел азарт? Понравилось? Стало плевать. Дом, работа, дом, работа – слилось в единую серую полосу, лишенную радости или печали. Карьера, ее взлеты и возможные падения перестали интересовать, к суммам на карте Бестужев стал равнодушен. Он не мог купить того, чего так отчаянно жаждал. Весь его запал, весь задор был сожран хищными деревенскими образами. Ее образом.
– Я вам предоставил все необходимое. – Короткий кивок в сторону папок, и руководительница нехотя вернула к ним взгляд. Задумчиво пожевала щеку, близоруко сощурила густо подведенные черным глаза.
Она не найдет ошибок, не найдет к чему придраться – Бестужев забыл про сон и еду, перепроверяя, сверяя и рассчитывая. Каждый штрих, каждая идеально выведенная синими чернилами буква. Он собственными руками сжигал мост, по которому мог броситься в трусливое бегство. Ни единой причины, чтобы остаться, ни одной тропинки, чтобы отступить. Ждет ли его спасение в Козьих Кочах? Если повезет, он сумеет вернуть Катю, а Славик найдет возможность встать на ноги. Внутренний голос зябко ежился, скребся в груди и трусливо нашептывал: «Что, если смерть?» Он не боялся, Бестужев просто хронически, очень сильно устал. Ему нужно было за что-то зацепиться, вынырнуть из этого омута.
– Хорошо… – Она громко хлопнула папкой, и Саша не сдержался, досадливо поморщился, возвращая взгляд к ее тощей высокой фигуре. Острая, резкая, прямая и бесчувственная, как иголка. Суворова всегда любила дарованную ей власть и невероятно искусно заставляла склонять перед нею головы. У него не было желания и времени становиться для нее хорошим, он не хотел искать подходящий к этой женщине ключ. – Допустим. Я могу дать тебе две недели. В начале сентября ты должен будешь вернуться. Бестужев, я не узнаю тебя… Такой был яркий и выдающийся студент… Нет, мы все понимаем, у тебя было такое потрясение, такой стресс. И весь преподавательский состав сочувствовал, но ведь всему должна быть мера. Ты отказываешься от научных проектов, не пишешь ни статей, ни докладов. Ты собираешься куда-то двигаться? Чего ты хочешь?
Покоя. Он просто хотел покоя. Тишины в собственной голове, темноты под сухими воспаленными веками. И ночей без ярких снов, пропитанных запахом Смоль. Как отчаянно он желал услышать ее девичий хохот, и как неистово он этого боялся с наступлением темноты. Саша почти поверил, что скоро начнет жить, а не существовать. Об этом напоминал отчаянный скрип колес инвалидного кресла, разносящийся по длинному коридору деканата.
Промолчал. Встретил ее злой немигающий взгляд своим равнодушным.
– Мне нужен месяц. Найти обратный транспорт из места, куда я отправляюсь, будет несколько затруднительно.
Глаза Антонины расширились, в них читалось недоверие, смешанное с огромной порцией ужаса.
– Ты опять возвращаешься в ту деревню, я права? Бестужев, прекрати заниматься самокопанием, весь университет гудел о вашей истории. Не ошибаюсь, это были болотные газы? Печальная история, но девочек уже не вернуть. Что ты там ищешь?
– Мне не хватит двух недель, – повторил бесцветно, равнодушно. – Если нет возможности дать мне срочный отпуск, что ж, увольняйте. У меня есть дела, которые не терпят отлагательств.
Он просто не наберется еще раз храбрости.
Завкафедрой приподнялась с места, с тихим шелестом разлетелись под ее пальцами белоснежные листы. Расписание, план занятий. Бестужев направился к двери под возмущенные крики. Ничего, с последствиями он разберется потом. Если будет кому и с чем разбираться.
Часы на стене продолжали равнодушно тикать.
Саша не испытывал к этому месту ненависти, он его и не любил. Сил чувствовать хоть что-то просто не было, ведьмино колдовство выжимало все без остатка. Будь здесь старый Бестужев, он бы алчно поглядывал на кабинет руководительницы, небрежно смахивал бы пыль в отведенной ему каморке и требовал сменить старое деревянное окно, из которого зимой немилосердно дуло прямо в спину. Будь здесь старый Саша, он с ушами закопался бы в книги, написал одну научную статью, за ней вторую, четвертую, десятую. Он бы набрался достаточно опыта, быстро стал бы профессором и знал бы, куда метить дальше.
В тот день, когда Бестужев защитил проклятую работу по фольклору, он думал, что рассыплется кровавым хрупким крошевом. Потому что невозможно делать вид, что все идет как нужно и он в порядке, когда за каждым углом больно щемит сердце – узкие холодные ладони уже не зажмут глаза, на перемене она не сядет рядом на подоконник, беспечно покачивая ногами. Саша был зол на этот мир, на каждого, кто остался в живых, когда Катя была обречена на смерть в заточении. Он возненавидел себя за беспомощность, которая уткнула его носом в сырую землю. Со временем отрицание сменилось принятием, гнев покрылся толстой коркой бесчувствия. Но только у него остальной мир продолжал жить точно так же, будто и не существовало раньше Катерины Смоль.
Закрывающаяся дверь приглушила возмущенные крики и угрозы женщины. Он устало прислонился к ней спиной, с нажимом растирая виски.
Начало положено, трусить сейчас – глупо. Он сам на это подписался, принял решение.
Доехавший до угла Елизаров резко крутанул коляску, возвращаясь к кабинету. В его взгляде застыл вопрос, Бестужев кивнул в ответ, и губы друга изогнулись в торжествующей усмешке. Около узких скамеек, расположенных вдоль коридора, уже стояли их сумки – та самая спортивная и потрепанная, пара рюкзаков и два чемодана. В этот раз они готовились не к отдыху, они ехали выдирать с боем утраченное. Поезд отправлялся через четверть часа, у здания деканата ждало такси. На коленях Елизарова лежал мобильник, парень небрежно сунул его в карман широких джинсовых шорт под сочувствующим взглядом Саши.
– Снова ему звонил? Глупая затея, он бы не поехал.
Славик обреченно махнул рукой, щуря недовольные злые глаза:
– Трус. Будь у него яйца, в Кочах все могло бы пойти по-другому.
– Не факт. – Саша отрицательно качнул головой, закинул ремень сумки на плечо, выдвинул ручки у чемоданов. Елизаров вцепился в подлокотник коляски и неловко свесился вниз, подхватил свою сумку. Вячеслав никогда не принимал помощь. Одно слово, напоминающее о его немощи, и Слава злобно скалил зубы, сочился ядом и лютой ненавистью. – Скорее всего, он бы сдох в схватке с Полозом или, убегая, наткнулся бы на лесавку. Его бы сожрали. Слишком много «если». Если бы я не запер Щека? Если бы ты не бросил в царя нож, а попробовал поговорить? Мы можем догадываться, предполагать. А имеем то, что имеем.
Елизаров притих, нахмурился, кусая нижнюю губу. Думал ли он об этом раньше, как Бестужев? Проигрывал ли в своей голове разные картины, сюжеты, переиначивал ли мир на новый лад, мечтая, чтобы все было по-другому? Наверняка нет. Слава боялся боли, открещивался от происходящего, давил воспоминания ударом широкой ладони по лбу. Он не хотел баюкать свое горе, он хотел его уничтожить.
До такси парни добирались в напряженном молчании, каждый думал о своем, не отозвались и на приветливую улыбку дружелюбного таксиста. Бестужев молча загрузил в багажник чемоданы. Уже через сутки они окажутся в Козьих Кочах.
Не приняв помощь водителя, Елизаров подъехал к распахнутой двери машины и едва не растянулся на пыльной, потрескавшейся от жары земле. Тощие атрофированные ноги нелепо повисли в проеме между коляской и пассажирским сиденьем, пока сильные руки рывком забрасывали тело в салон автомобиля. Оказавшись внутри, Слава хрипло выдохнул, подтянулся и сел, злые желваки заиграли на скулах. Повозившись, Саша сложил за ним коляску.
Август в этом году был жестоким – жара не спадала, она душила, висела пыльным маревом над асфальтом. Ею дышал каждый кирпич многоэтажек. Чертова сковородка. Поливальные машины не справлялись, пылающий асфальт покрывался трещинами, вода почти сразу превращалась в едкий, пропахший резиной пар. Из каждого телевизора и радио убедительно просили оставаться дома до вечера, вызывать «Скорую» при тепловых ударах, быть внимательными на улицах к людям, которые почувствовали себя плохо. Рассылки от МЧС заставляли телефоны коротко пищать.
Редкие деревья во дворах многоэтажек пожухли, скрутились пыльные увядшие листья, пожелтели редкие клочки травы под ногами. Городская суета утихла, каждого второго свалила беспощадная мигрень. На улицах встречалась лишь храбрая, сумасбродная молодежь с обгоревшими носами: девушки щеголяли легкими платьями, большая часть парней – обнаженными торсами. Люди обмахивали лица ладонями, шумно дули в оттянутые вырезы одежды и тускло пересмеивались, ожидая спасительной вечерней прохлады.
За окном мелькали вывески зазывающих магазинов, арки въездов во дворы, пустые площадки детских садов. Совсем скоро они сядут в поезд, а после – в шумный, громко чихающий черным дымом из выхлопной трубы автобус.
Впереди парней ждала долгая дорога в уже знакомое место. Место, укравшее привычное течение их жизней. Красивые, но такие страшно-жестокие Козьи Кочи.
Глава 2
Все происходящее напоминало ему мрачный приквел к дешевому фильму ужасов. Заевшая пленка, которая портит качество видео серой рябью, нудным писком и миганием. Тот же водитель, неловко почесывающий голову, когда дверь не открылась с первого раза. То же тихое поскрипывание проржавевшего, давно не белого автобуса, ядреный запах бензина в салоне и хрипящий шансон из древнего радио.
Теперь они ехали вдвоем. Не было мягкой дремы, опускающей веки после долгой дороги в поезде, не было звонкого смеха и ядовито-острых реплик Елизарова, подмигивающего Гавриловой, оттопырившей средний палец. Раньше они были наполнены мыслями об отдыхе, вдохновленные необычным путешествием, тянулись ко всему новому. И разрушались, падая бескрылыми мотыльками, погибшими в яростном огне. Внутри Бестужева алым цветом расцветала лишь решительная одержимость, он перебирал возможности, просчитывал ходы и отчаянно ненавидел все происходящее. В широком проходе рядом с водителем стояла пустая коляска Славика – их вынужденная попутчица.
– Что-то ты, Саня, зачастил к старичкам, неужели так понравилась деревня? – Отвлекаясь от дороги, водитель скосил хитрый взгляд на Бестужева, отражающегося в пыльном зеркале заднего вида. Об этом пожалели все и сразу: неожиданно выругавшись, мужчина крутанул руль в сторону, сидящих парней повело, пальцы вцепились в спинки стоящих спереди кресел. Бесконтрольные ноги Елизарова подскочили, и ступни вывалились в проход, заставляя его зло стиснуть зубы, убирая их обратно. Избежать колдобины не вышло, правое колесо въехало в крупную яму, автобус подбросило. Старая машина возмущенно заскрипела, чихнув дымом из выхлопной трубы.
Нервный смешок выскочил из груди до того, как Бестужев сумел взять себя в руки. Еще бы. По просторам соскучился. Он смолчал. А мужчина залихватски взъерошил короткий ежик седеющих волос, харкнул в открытое настежь окно и продолжил:
– Или девчонку себе там нашел? Так забирай! Не думая. Бабы там работящие, дурные, все на свои плечи взвалят, такую с глуши вывози – век тебе в ноги падать будет, обувь лобызать.
– С вашими бабами врагов не надо. Сожрут вместе с обувью. – Зыркнув на водителя исподлобья, Елизаров презрительно опустил углы губ и снова вернулся к созерцанию природы за окном: городская местность давно сменилась полями, над одним из них, широко раскинув мощные крылья, кружил сокол.
– А тебе лишь бы какую, парниша, пониже пояса работает че? Небось немного городских на немощного посмотрит, а в деревне даже на лицо неплохую приглядишь, не косую какую…
Кулак, подставленный Славиком под подбородок, сжался сильнее. Саша едва ощутимо толкнул его плечом.
«Брось ты, сам же знаешь, что херню мелет».
– Игнорируй дурака, еще посреди дороги выкинет.
И Слава промолчал. Пыша злобой, он прожигал пропитанным ненавистью взглядом водительское сиденье и торчащий над ним лысеющий затылок мужчины. Тому было все равно, свои слова он грубостью не посчитал и быстро про них забыл. Постоянно заглядывая в широкое зеркало заднего вида и встречаясь взглядом со Славиком, он залихватски подмигивал, обнажая в щербатой улыбке пожелтевшие от никотина зубы.
Дорога казалась длиною в вечность. Волнение застряло комом в горле, теперь Саша возвращался не один, и это разворачивало могилу, в которой спала его надежда. Бестужев пытался удобнее устроиться на потрепанном грязном сиденье и уснуть, но перед веками плясали черти, сыпали песок в глаза, зажимали спазмами глотку и карабкались, карабкались по позвоночнику, царапая острыми когтями. Он не мог усесться, от долгого сидения замлели ноги.
Елизаров, напротив, замер напряженной статуей – выпрямленная спина, широко разведенные плечи и медленно приподнимающаяся при дыхании грудь. Спокойствие, почти умиротворенная картина. И на секунду Бестужеву стало любопытно – как Славик борется с внутренними бесами? Они грызут его так же больно? Таким же грузом давят на плечи?
Когда автобус остановился в тени у знакомого дуба, сердце сработало вхолостую – пропустило удар, а затем заколотилось где-то в глотке, выворачивая наизнанку душу. Приехали.
Выгружались быстро, нервно и дергано. Водитель только посмеивался над расторопностью молодежи. Слава, которого пришлось снести с высоких ступеней, мрачно оттопырил средний палец ему в спину, заерзал, удобнее устанавливая ноги на подставке коляски. Сумки и чемоданы припорошило пылью из-под колес отъезжающей машины, парни замерли, синхронно повернув головы в сторону узкой тропинки, огибающей озеро.
Будто и не уезжали, словно не было тех лет в городе, пропитанных отчаянием и одиночеством. Желание обернуться больно зудело под кожей, Бестужев его сдержал – Кати за спиной не будет. Ее давно там не было.
Погода была здесь мягче, солнце не лупило по лицу наотмашь, жара не душила сухим воздухом, с хрипом врывающимся в легкие. Припекало, да, но влажность и легкий прохладный ветер все меняли. Ласково покачивались на ветру тонкие ветви ивы у воды, шелестел листьями огромный дуб, бросающий на их головы и спины крупную тень. Природа берегла почитающих ее деревенских. Причиной тому климат Уральских гор или их незримые боги, но дышать здесь было легче, свободнее.
На озере поселилась пара длинношеих лебедей, они гордо скользили по водной глади у самого берега, а следом плыли трое неказистых птенцов. Серые, с непропорциональными тельцами, они покачивались на воде, смешно и быстро перебирая под водою лапами, догоняя статных родителей. Шипели, щелкали клювами у перьев друг дружки, резво опускали под воду маленькие головы. Совсем скоро они научатся летать, но каждый раз будут возвращаться под родительское крыло. Еще два года они будут жить под защитой, в любви и ревностной опеке. В безопасности.
– Третий раз приезжаешь, что, всегда так клювом щелкаешь? Не сдохло в тебе чувство прекрасного, Саня. Пошли, потом этих гусей посмотришь, покормишь, хоть к себе заберешь. Я сварился в автобусе, хочу сполоснуться.
Бестужев хмыкнул, отвел взгляд от молодого семейства и взялся за чемоданы. Оставалось пройти совсем немного. Коляска Славика бодро катила вперед, лишенный груза чемоданов, он резко, почти зло работал руками. На спуске с пригорка Елизаров так набрал скорость, что Саше пришлось бежать, беззлобно нарекая друга идиотом.
– В детстве в гонки не доиграл? Я тебя по запчастям собирать не буду, угомонись.
Тот лишь счастливо щерился, осматривая приближающуюся улицу.
– Запчастей немного осталось, справишься быстро. Мы сразу в дом Весняны?
– Нет, мы будем жить в другом месте. – Бестужева невольно передернуло, в прошлые годы он возвращался к той избе. Прожигал пропитанный засохшей кровью порог ненавидящим взглядом. А войти внутрь не набрался сил. Там, на печи, осталась Катина камера, в бане валялась смятая пижама с вывернутой наизнанку розовой майкой. Мать Смоль отказалась ехать сюда, горе сожрало годы ее жизни, казалось, за месяц она постарела на десять лет. Кроме седых волос и сетки морщин у глаз, ничто не выдавало боли. Кто-то называл ее сильной, а кто-то посчитал плохой матерью, не тоскующей по погибшему ребенку как следует. Сам Бестужев так и не нашел в себе смелости пойти на Катины похороны, закрытый пустой гроб вызывал приливы душащего отвращения. Хотелось кричать о том, что Смоль жива. Он чувствует, она тянет его за собой на дно. Хотелось вопить. Но его бы никто не услышал, ему не верили.
На третий его приезд кровь с порога пропала, покосившаяся дверь встала ровнее, отсыревшая и отошедшая от окна ставня была поправлена чьей-то заботливой рукой. Саша подумал, что приехали родственники погибшей женщины. Но деревенские говорили иное.
Отвечая на невысказанный вопрос друга, он кивнул в сторону поворота на вторую широкую улочку. Их встречали горящие любопытством глаза за занавесками распахнутых окон и лай дворовых собак, прячущихся от полуденной жары в будках.
– Я жил в доме молодых ребят, они перебрались в Жабки, родители Феди пожалели меня и впустили пожить. Хорошие люди, добрые, другие кляли меня и едва не пихали в спину, разворачивая к дороге. Боятся они нас, Слава, куда больше, чем всю свою нечисть, вместе взятую. Боятся, что мы снова что-то сотворим, а расплачиваться будет деревня.
– Уроды. – Мрачно цокнув языком, Елизаров сплюнул в сторону чужого двора. В открытом окне избы возмущенно охнуло, качнувшаяся занавеска скрыла обитателей от их взглядов. – Нужно было молча в тот дом возвращаться, еще унижаться, просить кого-то. Или там уже живут?
– Живут. – Левый уголок губ Саши изогнулся в издевательской усмешке. – Но тебе бы не понравились такие жители. Я не смог порог переступить, там змея на змее вьется. Думал, там будет Полоз. Звал, угрожал дом сжечь, а что ему этот дом? Деревенские говорят, что изба после нас стала проклята, подойти к ней нельзя. Ребятня на спор забежать попыталась, так девчонку змея укусила. Всех на уши подняла – думала, гадюка. Обошлось.
При упоминании Щека руки Славы нелепо дернулись, сбились с ритма, и колесо коляски въехало в колею от телеги, пересекающую пыльную дорогу. Его повело в сторону, и не успей Саша вцепиться в ручки – опрокинуло бы пузом в дорожную пыль. Взгляд, который он получил в благодарность, заставил игриво ощериться, подмигивая и тут же разжимая руки, поднимая их в сдающемся жесте. Не успевший послать его на фиг Елизаров зло фыркнул.
Не ожидая, что Саша свернет у одной из калиток, Елизаров проехал еще пару метров по инерции, прежде чем руки остановили движение колес, а он развернул коляску, подъезжая к нужной избе.
Маленький домик был покрашен в темно-бордовый цвет, все окна распахнуты настежь, сквозняк игриво гонял белоснежные ситцевые шторы, с краем одной из них играл отъевшийся, чересчур пузатый маленький котенок, еще трое пристроились под лавкой и наминали лапками живот матери, лениво приоткрывшей желтые глаза при скрипе калитки.
– Есть кто дома? – Неожиданно громкий крик заставил Славу матюкнуться, неловко засмеявшись. Напряжение грызло и его. Это почему-то порадовало. Бестужев мимолетно улыбнулся, скосив на друга лукаво прищуренный взгляд.
Из избы выглянула низенькая женщина сорока лет – туго сплетенная коса, румянец на загорелом лице, она дышала здоровьем и зрелой красотой. Опершись о подоконник локтями, она растянула губы в широкой улыбке, на щеках появились аккуратные узкие ямочки.
– Сашенька? Здравствуй, что-то ты к нам зачастил. Говорил же прошлый раз, что не приедешь. Я уже думала, как самой в город выбираться, гостинцы твои к концу подошли.
– Здравствуйте, Зарина Изяславовна, а я вот… – Чувствуя неловкость, он пожал плечами, улыбаясь в ответ. – Я снова с подарками, можно же пожить в домике вашего Федора? Мы на месяц.
Зарина и ее муж оказались единственными жителями деревни, способными протянуть ему руку помощи. В те дни даже Беляс смотрел на Сашу с жалостью и брезгливостью, сурово морща густые брови. Староста вески [1] вскидывал ладони вверх в сдающемся жесте, открещивался от его просьб, сочувствующим голосом предлагал довести до Жабок через болота.
Каждый деревенский смотрел на Бестужева как на побитую чумную собаку. Запирали двери, не выпускали во дворы детей, способных сболтнуть лишнего. В их глазах светилась жалость, но своя рубашка всегда была ближе к телу. Привычным укладом жизни никто рисковать не хотел.
Саша помнил тот день, помнил ветер, рвущий полы расстегнутой куртки, дождь, косыми ледяными струями заливающий глаза. И отчаяние. Оно жрало его живьем, жадно откусывало кусок за куском и давилось, насыщаясь его болью. Тогда Бестужеву казалось, что он умрет. Прямо там, посреди разъезжающейся под ногами дорожной грязи, среди грозно возвышающихся над ним изб и разрывающегося молниями неба. Залитый дождевой водой и слезами, с нищенским скулежом, выдирающимся из горла. Он был разломлен, растоптан, разрушен. Еще немного, и это все поглотило бы его без остатка.
Когда на плечи легли чужие руки, аккуратные узкие длинные пальцы сжали предплечья, повели за собой, он ослеп от дождя и горя и не мог разглядеть своего спасителя. Не понимал, кто кутает в плед, пропахший дымом, кто наливает горький чай на незнакомых травах. Слышал тихий разговор, но не разбирал слов. Просто смотрел в открытое жерло печи, где огонь трещал, скакал алыми языками по поленьям.