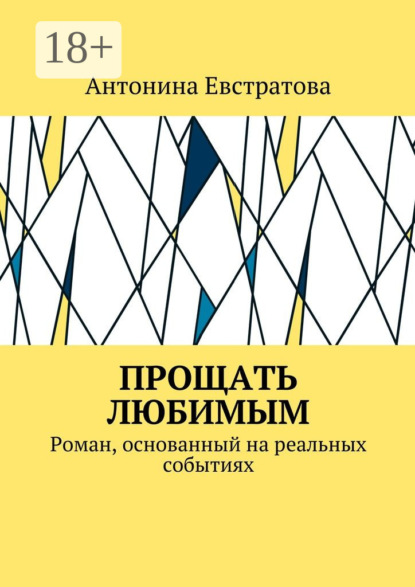- -
- 100%
- +

1.
Подлинно неизвестно, кто первым произнес слова «мой дом – моя крепость», но велика вероятность, что человек этот был англичанином.
В моем же случае это устойчивое выражение из категории абстрактной переходило в категорию буквальную – поскольку наше семейное поместье, Певерел Холл, располагается на единственном в стране острове под юрисдикцией Министерства обороны. Находиться здесь постоянно разрешено лишь немногим (около двух сотен) местным жителям и еще меньшему числу сотрудников военного ведомства, более 150 лет назад приспособившего северо-западный берег под испытательный оружейный полигон. Единственная связь с внешним миром – автомобильный мост – здесь оборудован двумя контрольно-пропускными пунктами. Для посещения извне требуется оформить приглашение, впрочем, приглашали сюда редко – скрытность, и без того национальная британская черта, у обитателей острова Фолнесс была возведена в абсолют.
Оставался, конечно, Брумвей – древнее развлечение, шесть миль пешего пути с материка: в тумане, наперегонки со смертью, между приливами и отливами, сквозь пески и грязь. «Роковой путь» ежегодно взимал плату за пользование принудительными человеческими жертвоприношениями – и популярностью у здравомыслящих людей, разумеется, не пользовался. К тому же, поднятые на острове красные флаги означали, что в конце пути вас ожидает в лучшем случае арест, в худшем – расстрел без выяснения обстоятельств. В Министерство обороны редко попадали люди с чувством юмора, способные оценить удаль осмелившихся в одиночку пересечь Брумвей без сопровождения местных знатоков погоды и рельефа.
Лучшего месторасположения для дома одной особенной шпионской семьи нельзя было бы и придумать, но когда нога первого Феррарса ступила на эту землю, речь шла разве что о сокрытии дел личных, а никак не государственных. Дело в том, что у Уильяма де Феррарса, младшего сына 5-го графа Дерби, было много доставшихся от отца поместий в Эссексе, и всего два сына – наследник и бастард. Наследник стал впоследствии известен как первый барон Феррарс из Гроуби (мужская линия прервалась в пятнадцатом веке). Бастард основал Певерел Холл.
Роберт Феррарс получил от отца фамилию (лишившуюся, правда, аристократической приставки «де») и целый остров Фолнесс, а от матери (одной из семи фрейлин королевы Маргариты Французской, влиятельной придворной аристократки) – пристойную партию в браке. От Роберта Феррарса и Эммы де Бошан, незаконнорожденной дочери 10-го графа Уорика, и берет начало наш побочный род.
Роберт Феррарс был заправским феодалом, все жители Фолнесса моего времени – потомки его вилланов, впоследствии ставших арендаторами, впоследствии выкупивших возделываемые ими земли у разоряющейся аристократии, к числу которой после Первой мировой принадлежала и наша семья. Государственная служба в 20-м веке поправила финансовое положение настолько, что дедушка Тобиас в начале нового тысячелетия вложил порядочные средства в восстановление единственной на территории острова церкви и ремонт двух пабов – непопулярного «Георга и Дракона» в более населенном Чёрчэнде и вечно забитого посетителями «Старого корабля» в уединенном Кортсэнде. Местные почитали его за это эксцентричным стариком и относились к нему, его сыну и внукам с приличествующей добрососедской симпатией.
Своим нынешним состоянием Певерел Холл был обязан всё тому же дедушке, – не боявшемуся смерти, но совершенно не выносившему отсутствия удобств. Полу-дом, полу-замок, и без того чужеродное украшение этой дикой, бесцветной пустоши, при нём никак не изменился внешне – вносить что-то своё в причудливое нагромождение башенок, дымоходов и пристроек, наросших на безупречную строгость первоначального замысла эпохи регентства, было, в общем-то, бессмысленно. Единственным выходом представлялось снести предмет усовершенствований прошлых поколений и построить всё заново, но на это у дедушки не нашлось душевных сил. Его хватило лишь на борьбу с наполнением – пугающе запущенной роскошью, облупившейся краской и постоянно ломавшимся водопроводом. Получилось даже уютно – без буржуазной вульгарности и излишней помпезности.
По завещанию отца, распределившего недвижимое имущество сообразно так и не открывшейся нам внутренней логике, моей сестре-близнецу Элоизе досталась его лондонская квартира в Вест-Энде, мой старший брат Берти назначался наследником владений по женской линии – поместья Черчиллей в Ланкашире, которым бабушка пока еще официально владела, хотя давно уже там не жила. Его сдавали внаем одному сингапурскому нуворишу, исправно запрашивавшему разрешения на переделку внутреннего убранства согласно собственным вкусам и исправно этого разрешения не получавшему.
Ну, а я получил Певерел Холл, в былые времена никогда бы не отошедший второму сыну, с приставкой «досточтимый» перед именем и без каких-либо перспектив. Это было любимое место отца – хотел ли он таким образом поделиться со мной своим секретом, тщательно оберегаемым от всего мира? Подтвердить то, на что постоянно обращали внимание окружающие – что я единственный из его детей был на него похож? Придать мне уверенности подобным прямолинейным жестом передачи семейного наследства?
Быть Феррарсом – значило быть особенным. Нашей особенностью было наше проклятие.
Об этом все знали, но вслух предпочитали не обсуждать. Феррарсы не умирали в своих домах, не говоря уже о домах престарелых – Феррарсы погибали. Сотрудникам Службы безопасности[1] в штатах BBC или The Times приходилось регулярно ломать голову над тем, как аккуратнее преподнести в разделе некрологов очередную насильственную смерть наследственного члена Палаты Лордов.
Феррарсы погибали на службе – и никак иначе. От нашего отца – в глубину веков, до первого Юджина и первой Элоизы, детей Роберта, шпионов при дворе короля Эдуарда III. Титул барона добавится к фамилии только два с половиной века спустя, еще чуть меньше столетия уйдет на то, чтобы он превратился в «графа Рэнсома», но наши предки были высокородными всегда. Да, первый Феррарс был бастардом, но ведь и Вильгельм Завоеватель вошел в историю как Незаконнорожденный.
Отвернувшись от этого пути, я приговорил себя к постоянному смирению. Свыкнуться со стыдом отказа от обязательств было сложнее, чем с ожиданием преждевременной гибели. Не потому ли я так отчаянно взялся за расследование смерти Полли – чтобы хоть в какой-то мере оправдать ответственность, возложенную на меня властью, которой я так беспечно распоряжался?
Но обо всём по порядку.
* * *
Последним в нашей семье не сгодившимся для семейного дела был младший брат моего дедушки, Досточтимый Морис У. Феррарс. Все признавали, что из дяди Мориса на самом деле вышел бы превосходный шпион, возможно, лучший из братьев, не обладай он губительным для подобного рода занятий качеством – непомерным тщеславием. Мама с отцом сошлись как раз в тот год, когда дядя Морис пытался занять место главы консервативной партии с явно выраженным стремлением поселиться в итоге в комнатах на Даунинг Стрит, 10. Благо, соратники знали его достаточно хорошо, чтобы не дать покуситься на устои государства. От него откупились постом министра окружающей среды, который ему пришлось занять под фамилией второй жены, чтобы поменьше привлекать внимания к собственным родным, продолжавшим трудиться на благо страны единственным приемлемым для Феррарсов способом.
Вы уже поняли, что в нашей семье практически все были разведчиками по наследству. На протяжении веков Феррарсы наживали капитал, делая королей и оберегая их власть, периодически теряя титулы (а иногда и головы) и получая новые (титулы, не головы). Например, графом Рэнсом под номером тринадцать в «Книге Баронетов» с 2024 года указан мой старший брат Берти – простите, Бертрам Феррарс, – официально ставший главой семьи семь лет назад.
Берти – образцовый граф. Он не пропускает ни заседаний в Палате лордов, ни совещаний в штаб-квартире Объединенного разведывательного комитета[2], и если вы думаете, что, в связи с его повышенной занятостью обязанности по выискиванию секретов на каком-нибудь недалеком востоке или близком севере принял на себя я, то вы глубоко заблуждаетесь. Этой возможностью с удовольствием воспользовалась моя сестра Элоиза, в то время как я – думаю, вы уже поняли.
Я был очередным ни на что не годным членом семьи, и если дядю Мориса еще могли оправдать политические амбиции, то мой выбор в пользу кафедры истории искусств в Колледже Корпус-Кристи Кембриджского университета вызывал у родственников лишь недоумение с оттенком разочарования (по крайней мере, у тех, кто не помнил, что самым знаменитым выпускником Корпус-Кристи был Кристофер Марлоу – поэт и шпион).
Наследственность – изобретение настолько сугубо британское, что импорту за рубеж в целом не подлежит. Безуспешные попытки привить это диковинное растение на благодатную почву разнообразных колоний так ни разу и не принесли заслуживающих внимания плодов – даже в Америке, этой стране молока и мёда, где зацвести способна любая дрянь. Только на наших островах люди возводят в особую степень гордости тот факт, что веками члены их семьи продолжают приносить пользу Короне и стране тем же способом, каким когда-то служили прежним монархам их предки. Виндзоры успели сменить Ганноверов, Тюдоров и Плантагенетов, а Феррарсы продолжали добывать секреты и оберегать свой собственный секрет полишинеля, о котором было известно каждому приближенному к королевскому двору, число которых в любые времена исчислялось дюжинами, если не дюжинами дюжин. Подобных нам осталось не так уж много – ряды резко обеднели к 45-му году, но Феррарсы, Вудхаузы и Черчилли (не родственники премьер-министра) по-прежнему не давали списать себя со счетов.
Когда я понял, что лишний на этом празднике конфиденциальности? Пожалуй, подозревал я об этом всегда. А по-настоящему всё изменилось, когда погиб наш отец.
День, когда нам сообщили о его смерти, был днём нашего с Элоизой выпускного. На вручение дипломов приехала мама (именно в качестве мамы, а не главы Службы безопасности Великобритании). День прошел в целом мирно и предсказуемо: я вяло отбивался от попыток разузнать мои дальнейшие планы на жизнь, в то время как Элоиза энергично собирала предложения о последующем трудоустройстве. Ни отца, ни Берти с нами не было, и это вовсе не насторожило меня, потому что я даже не знал, что папа вернулся в Англию, а занятость брата к тому моменту уже превосходила самые смелые представления о занятости.
Но Берти приехал к концу торжества. Он забрал нас и отвёз домой, хотя изначально обговаривалось, что мы с Элоизой переночуем в Академии, и только на следующий день закончим собирать вещи, и только следующим вечером вернёмся. Берти не зашёл внутрь и ни с кем не поздоровался. Он отвёз маму с Элоизой к черному входу в поместье. Мама знала – узнала где-то в середине того мирного, предсказуемого дня, и ничем не выдала своей осведомленности. Тогда же они, видимо, и договорились разделить нас – мама с Элоизой вошли в дом, а Берти, дождавшись, пока в машине останемся только мы одни, предложил:
– Прогуляемся.
Певерел Холл располагается на юго-восточной оконечности острова, с XV века защищаемого от наводнений постоянно подновляемой стеной. Перебравшись по приставной лестнице на берег Северного моря, мы дошли до качелей, которые дядя Морис когда-то смастерил для своего единственного племянника. Там Берти и рассказал мне о том, что отец погиб.
* * *
Тетя Гертруда как-то заявила, что брак наших родителей был случайностью, но не ошибкой. Тетя Гертруда была единственным источником информации об истоках формирования нашей семьи – её природная склонность к болтовне была прямо противоположна маминой природной осторожности.
Случайностью стало то, что на свадьбе тети Гертруды и Ирвинга Кроуфорда сестра невесты Леола Дешвуд и коллега жениха Джеррард Феррарс провели вместе ночь. Когда два месяца спустя Гертруда позвонила Леоле в Вашингтон сообщить о том, что ждет дочь, мама уже месяц как знала о собственной беременности.
Взяв в британском посольстве двухнедельный отпуск, она вернулась в Лондон, навестить сестру – и сообщить отцу будущего ребенка о том, что ребенка у них быть не может.
Ей было 22. Ему было 27.
Папа сам повез её в больницу. Папа водил кабриолет – становясь Джеррардом Феррарсом, единственным сыном одиннадцатого графа Рэнсома, он имел склонность к эксцентричности. Впоследствии кабриолет был разбит – трудно сберечь машину, если не признаешь езды медленнее, чем на третьей передаче.
Несколько часов спустя они вернулись обратно в Лондон. Тетя Гертруда не знала, было ли в дороге что-то сказано или что-то почувствовано, но цели поездки они так и не достигли. Шесть месяцев спустя родился Берти.
Но сначала – сначала была свадьба.
Они поженились через два дня после несостоявшегося аборта, не дав священнику прийти в себя от утренней службы. Вечером папа улетел в Тель-Авив, а мама уехала в Саффолк – ставить в известность о случившемся своих родителей.
Думаю, мама поняла, какую «случайность» она допустила, только впервые попав в Перевел Холл. До этого ей мало что было известно о папиных близких. Даже его друзья составляли круг, куда с фамилией Дешвуд путь был закрыт. Их миры соприкоснулись лишь однажды и не должны были соединиться вновь. Она оказалась не готова стать частью его жизни. Не готова стать матерью его детей.
Выросшая в Берлине, знавшая английский исключительно из книг, по возвращению в Британию мама обнаружила в соотечественниках раздражающую черту – фанатичное следование сословным условностям. Торжество этикета над логикой социальной эволюции заставало её врасплох. Необходимость понимать и принимать своё место доводила до отчаяния.
До папы она вряд ли хорошо отдавала себе отчет в том, сколько потолков ей предстоит пробить, чтобы добиться того, чего ей в итоге удалось добиться. Выйдя за него замуж, она продолжала упорно не замечать, что теперь её дети носят Эту Фамилию, растут в Этом Доме, воспитываются по Этим Правилам, учатся умирать за Эти Принципы. Она упорно не желала менять свою жизнь и саму себя – ни ради него, ни ради нас.
Думаю, папа убедил маму на брак, указав на то, что после его смерти ей как вдове останется его социальное пособие. Это было бы в его стиле. Папе всегда удавалось переключаться на язык собеседника, с кем бы ему ни приходилось разговаривать. Он был очень хорошим шпионом.
Думаю, папа знал, что мама никогда не станет любить его так сильно, как мог бы полюбить её он. Знал, что когда его не станет, она сможет жить с его смертью.
«Ваш отец всегда производил впечатление осознанно одинокого человека», говорила тетя Гертруда, но в этой части истории мы способны были разобраться и без её подсказок. Папа был фаталистом. Он не верил, что судьбу можно обмануть. Оказалось, что судьба, тем не менее, способна обмануть тебя.
Со мной папе всегда было легко – он предугадывал мои ответы и реакции со сверхъестественностью, объяснимой лишь нашим всеми отмечаемым сходством. С Элоизой – труднее; он разгадал в ней маму задолго до того, как Лу взяла на себя повышенные обязательства по соответствию её манере поведения. Но с Берти – с Берти у них была особая связь. Сложно убедить себя в необходимости созидать что-то, зная, что результата увидеть не доведется. Но только с рождением Берти папа понял, что важно наличие результата как такового. Не страшно не застать будущих триумфов и поражений собственных детей. Страшно не увидеть этих детей вовсе. Берти дал папе ответ на вопрос, как справляться с проклятием Феррарсов.
Берти показал папе, что смерть побеждается одной лишь жизнью.
Впрочем, равносильно и обратное.
* * *
Джеррард Феррарс вышел на улицу в 17 часов 13 минут.
Наверное, так это записано в официальном протоколе расследования. Джеррард Феррарс вышел на улицу в 17 часов 13 минут, и в 17:14 был уже мертв.
Служебная машина ждала за углом кондитерской. До неё оставалось меньше десяти шагов – позже я сосчитал.
Водитель видел, как отец упал. Когда он оказался рядом, тот был уже мертв. Это была мгновенная, аккуратная, достойная смерть. Показательное убийство – хотя бы потому, что рядом с папиным автомобилем был припаркован автомобиль полицейский. В Лондоне вообще в те дни располагалась чуть ли не вся королевская рать. Папа умер накануне подписания договора о независимости Шотландии.
Так пришел его срок. Это нормально. Это то, с чем смиряешься. С чем приходится считаться. Приучаешь себя не замечать этого, пока навык не закрепляется в подсознании.
Непрекращающееся сосуществование рука об руку со смертью.
Та кондитерская, кстати, закрылась через полгода. Убийство на самом пороге – не лучшая реклама для подобного заведения. Потом туда въехала цветочная лавка, а когда закрылась и она – магазин антиквариата. Я был там год назад. Купил маме на Рождество георгианский кофейник, но представил, как объясняю, где его взял, и не смог собрать слова даже у себя голове. В итоге подарил годовую подписку на Netflix. Решил, что так будет лучше. Так точно было проще. И так считал не я один.
Мы никогда об этом не вспоминали. Не говорили об отце – ни в день его гибели, ни в день его рождения. Не потому, что не любили его. Просто так и не научились с этим жить.
Разумеется, то, что случилось, сильно повлияло на мое решение остановиться. Шпион должен быть удачлив. Да, нужно быть подготовленным – только без везения ты все равно лишь качественный, но бракованный товар. Ошибка системы. Я чувствовал это в себе.
Я притягивал неудачу. Я был заражён ей, как неизлечимой инфекцией. В моей ситуации оставалось только спрятать её как можно глубже и убежать. И я бежал.
Чтобы в конечном счёте возвратиться обратно.
К могиле Полли, где всё должно было начаться заново.
2.
Её звали Мэриэнн Морланд, но в день, когда я прибыл в Академию, все «наши» (многочисленные кузены, кузины и родственники более дальние, но не менее близкие) называли её только Полли и никак иначе. Мой первый учебный год был её пятым и последним – она заканчивала один класс с моим братом. В те дни в Академии и шагу невозможно было ступить, чтобы тебе не сообщили, как Полли Морланд когда-то уже сделала это лучше, чем сделал сейчас ты.
Если бы уже тогда я был честным с самим собой, или хотя бы обладал достаточной смелостью, чтобы запустить бунтарскую фазу своего отрочества в положенный срок, я бы вообще избежал обязательного пребывания в Академии, и, заранее списанный со счетов, в 13 лет отправился бы в Итон, куда с переменным успехом, но поступили все без исключения друзья моего детства. Итон представлялся мне раем на земле, местом «зимы детства», достойным которого были лишь те счастливые отпрыски британского общества, кому дозволено было владеть свободой выбора.
Но для весны зрелости – моей и подобных мне – существовала Академия. Учебное заведение с менее продолжительной историей – всего каких-то три с половиной столетия, – зато с ярко выраженной степенью засекреченности. Моей самой первой в жизни легендой стал «переход на домашнее обучение». Никаких официальных документов – табелей об успеваемости, дипломов с итоговыми оценками, – где могли быть указаны наши имена, не существовало вовсе. Соглашение о неразглашении подписывалось пожизненно всеми членами семьи, предоставлявшими ребенка в безвозмездное пользование государству.
Впрочем, Полли относилась к иной, более узкой категории студентов. Полли была сиротой.
Родители отказались от неё сразу же после рождения, и память об отце или о матери, которая могла бы принадлежать ей, навсегда была стёрта из всех баз данных. У её новой личности совпадали первые буквы имени и фамилии – так проще запомнить. И проще забыть.
Под именем Мэриэнн Морланд она поступила в Академию на полный пансион. Ясли, детский сад, начальная школа. В последние пять лет обучения присоединились другие, – дети самых известных в самом узком кругу семей Британии.
Полли Морланд должна была стать шпионкой, хотела она того или нет. Королевская семья вложила деньги в её воспитание и обучение, и единственным способом ответить на такую любезность, было добровольное – в кавычках – вступление в ряды специальных служб. Так было всегда, сколько существовала Академия. И если три с половиной сотни лет назад это казалось наилучшим выходом из ситуации для любого брошенного ребенка, то в 21-м веке подобная практика настолько закостенела в своей формальности, что мало у кого вызывала сочувствие.
Впрочем, Полли считала, что на каждого из нас возложена разновидность долга – и не собиралась отказываться от своего. Долг она возвела в категорию мечты, а мечтой её было попасть в отряд Б.Н.Т. – что-то вроде службы специального назначения в составе Службы безопасности Соединенного Королевства. Между собой их называли Бенетами – не в последнюю очередь потому, что агентами Б.Н.Т. обычно становились девушки. Считалось, что они выпускаются из Академии более подготовленными, чем юноши – что не должно никого удивлять. Молодые люди к 18 годам редко представляют собой что-то вразумительное. Впрочем, я продолжал оставаться малоинтересным случаем и в 25 лет. Даже мои отношения со смертью складывались не в мою пользу. Ей все время удавалось обставить меня, когда я меньше всего этого ожидал. Я никогда не был достаточно подготовлен к нашим встречам.
Полли была другой. Поэтому ли она умерла?
* * *
Таким я запомню тот вечер.
Лидия Ларкин на краешке кухонного стола – единственная, кто одет достаточно строго. Всего лишь гостья чужого праздника, она вся – в черном, от кончиков выкрашенных волос до воротничка новой блузки, от бахромы на краях очень узких джинсов до лака ногтей на пальцах ног.
Её обнаженная ступня лежит на плече у Перри. Патрик Дешвуд, сын маминого старшего брата, усевшись между ножек стола прямо на пол, ест холодные каштаны из пластикового контейнера со скругленными краями.
Рядом с ним Линдон Дешвуд тасует колоду карт. На братьях – свитера одинаковой крупной вязки: тёмно-зеленый в золотую крапинку против золотого в тёмно-зеленую.
Саския Черчилль, наша кузина по линии отца, на правах хозяйки дома заваривает чай. Питер Блейк – его мать арабка, но француженка, так что мы зовём его Пьером, – в зимнем пальто поверх пижамы, выходит курить каждые пятнадцать минут. Скоро они с Саскией уедут работать в Прагу – шпионскую столицу мира XXI века.
Элоиза спит. Джиджи, та самая дочь тети Гертруды, родившаяся через месяц после нашего Берти, приедет только завтра – когда уедет Джонатан. Но пока он здесь – нарезает и раскладывает по тарелкам пирог с вишнями.
Берти отвечает за музыку – конечно, музыку выбирает Берти, поэтому играет что-то барочное, отчаянно грустное, совершенно не передающее рождественскую атмосферу – хотя каким еще может быть Рождество в год смерти отца? Как говорила Элоиза, если настоящая религия такая – не уверена, что мне когда-нибудь удастся с ней поладить.
Мы, Феррарсы, всегда были странными – самыми странными в этой всеобъемлющей семье, семье из разных фамилий и разных имён, разных вкусов и предпочтений, разных выборов и судеб. Семье, принимавшей чужаков – подобно Лидии, подобно Полли, – словно из пустоты обретенных детей. Мы привыкли быть вместе – но наше «вместе» никогда не имело границ.
Да, таким я запомню тот вечер – пирогом с вишнями, сигаретами Пьера, чаем Саскии, свитером Перри на продрогших плечах Лидии, пасьянсами Линдона, настольными играми, осколками сменяющих друг друга свечей, самой печальной музыкой, какая только существует во всем мире.
А еще – поздним приездом Полли. Берти притянет её в объятие, подтолкнет устроиться между нами.
В полчетвертого я вызовусь проводить её до комнаты.
– Лу тут, за стенкой, – сообщу я шепотом, придержав её за запястье, когда она споткнется, не заметив ступеньки. – Прости. У Черчиллей такая глупая планировка. Будь осторожна завтра.
Полли ответит «спасибо» – не то за предупреждение, не то за помощь с чемоданом. Я ставлю его у дальнего края кровати. Пальцем указываю на ванную комнату. Помогаю открыть форточку.
Я боюсь – и она это чувствует. Она знает, как распознавать в других страх, и, конечно, знает, как в других страх вызывать.
Возможно, она пока еще не разобралась, что ей делать с собственным страхом.
– Ты по-прежнему не передумал? – спрашивает она, и вопрос, который кажется некорректным при солнечном свете – некорректным в сметающей всё на своём пути толпе моих близких – некорректным в любой другой день года – становится единственно верным здесь и сейчас. Мы едва видим лица друг друга в отблеске тусклой коридорной лампочки. Мы едва слышим собственные слова. Она садится на кровать. Её сердце начинает биться ровнее, когда я сажусь рядом.