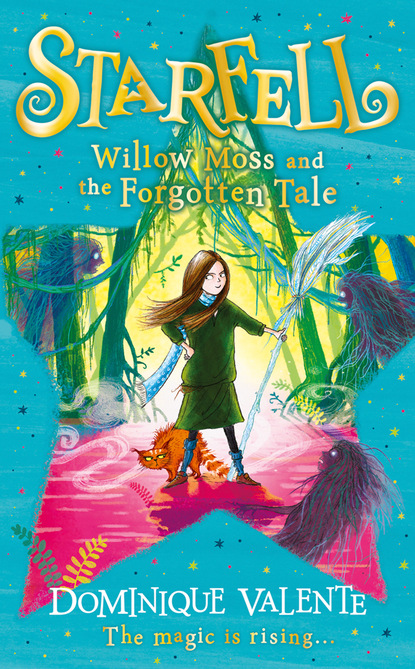- -
- 100%
- +

Переводчик Павел Соколов
© Нацумэ Сосэки, 2025
© Павел Соколов, перевод, 2025
ISBN 978-5-0068-6566-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие от переводчика
«Придорожная трава» (1915) – последний законченный роман Нацумэ Сосэки (1867—1916), великого мастера, стоявшего у истоков современной японской литературы. Это второй роман в финальной трилогии классика. Она включает: «Сердце» («Кокоро» в новом переводе) – «Придорожная трава» – «Свет и тьма» (не закончен).
Во всех трех книгах Нацумэ Сосэки обращается к клиническому исследованию внутреннего мира «маленького человека», затерянного в водовороте стремительно модернизирующейся Японии начала XX века.
В центре романа – Кэндзо, интеллигент, поглощённый научной работой, преподаванием и собственными эгоистическими желаниями. Его жизнь, подчинённая жёсткому ритму труда и долга, внешне упорядочена, но внутренне разорвана. Неожиданная встреча на улице с Симадой – мужчиной, в чьей семье он воспитывался в детстве, – становится тем спусковым крючком, который выводит на поверхность давно похороненные воспоминания, чувство вины, обиды и экзистенциальной тревоги. Симада, «мужчина без шляпы», становится навязчивым напоминанием о прошлом, которое Кэндзо отчаянно пытается отрицать, но которое неумолимо властно над ним. Нацумэ Сосэки сам в детстве некоторое время воспитывался в приемной семье, поэтому многие исследователи видят в главном герое черты самого автора.
Мастер создаёт тонкую и многогранную структуру, где настоящее постоянно прошивается вспышками памяти. Детские сцены, выписанные с поразительной яркостью и одновременно с лёгкой дымкой отчуждения, раскрывают истоки характера Кэндзо: его отчуждённость, неспособность к искренней близости, скрытую надменность и глубоко укоренённое одиночество. И, наконец, нарциссизм.
Приёмные родители, Симада и Оцунэ, предстают не как одномерные злодеи, а как сложные, во многом несчастные люди, чья «доброта» была отравлена собственничеством, расчётом и эмоциональным вампиризмом. Их любовь к приёмному сыну была сделкой, в которой ребёнок чувствовал себя вещью, а не личностью, что и породило в нём устойчивое отвращение ко всяким попыткам эмоционального сближения.
Этот личный конфликт проецируется на все сферы жизни Кэндзо. Его брак – это поле молчаливой войны, где невысказанные упрёки и взаимное непонимание создают непроницаемую стену между супругами. Его отношения с родственниками – сестрой, страдающей астмой и поглощённой бытом, и братом, мелким чиновником, исчерпавшим все жизненные силы, – полны жалости, раздражения и чувства долга, который тяготит больше, чем согревает. Вся эта галерея персонажей, включая делового посредника Ёсиду и легкомысленного Хиду, рисует картину мира, где человеческие связи хрупки, эгоистичны и неизбежно несут в себе разочарование.
Название романа – «Придорожная трава» (в ином варианте можно перевести как «Сорняки») – является ключевой метафорой. Жизнь, по Сосэки, подобна траве у дороги: она безымянна, нецельна, её постоянно топчут ноги прохожих – обстоятельств, долга, случайных встреч. Кэндзо осознаёт себя именно такой «придорожной травой»: его индивидуальность размыта, его «я» соткано из обрывков чужой воли, старых обид и навязанных ролей. Он – продукт своего прошлого, которое он не в силах ни принять, ни отвергнуть окончательно.
Стиль романа – это образец психологического реализма Сосэки. Повествование течёт медленно, почти статично, углубляясь в мельчайшие детали мыслей и ощущений героя. Автор мастерски использует прямую речь, стирая границы между голосами персонажей и внутренним монологом Кэндзо, что позволяет читателю в полной мере ощутить трагедию его сознания. Ирония, столь яркая в ранних произведениях Сосэки, здесь сменяется горьким, усталым самоанализом.
«Придорожная трава» – это роман не о событиях, а о состоянии души. Это глубокое размышление о памяти как о проклятии, о долге как о ловушке, о невозможности искупления и о мучительном поиске собственного «я» в мире, где личность оказывается заложником истории, семьи и собственных, не до конца понятых, травм. Это бескомпромиссное и пронзительное произведение, которое по праву считается одной из вершин не только творчества Нацумэ Сосэки, но и всей японской литературы XX века.
Павел СоколовI
Сколько же лет прошло с тех пор, как Кэндзо, уехав из Токио, вернулся из далёких краёв и обосновался на задворках Комагомэ? Среди всей новизны ощущений от прикосновения к земле родного края он чувствовал и некую тоску.
От него всё ещё исходил запах далёкой страны, которую он недавно покинул. Он ненавидел этот запах. Даже думал, что должен как можно скорее стряхнуть его с себя. И при этом он не замечал скрывавшейся в этом запахе его собственной гордости и удовлетворения.
Свойственной людям в таком состоянии духа неусидчивой походкой он по два раза в день, словно по расписанию, ходил по дороге от Сэндаги до Оивакэ.
Однажды моросил мелкий дождь. В тот раз он, не надев ни пальто, ни дождевика, а лишь взяв зонт, как обычно, в положенный час отправился пешком в сторону Хонго. И тогда, чуть дальше дома извозчика, неожиданно столкнулся с одним человеком. Тот, видимо, поднялся по дороге у задних ворот святилища Нэдзу и шёл навстречу, с севера, и, когда Кэндзо рассеянно взглянул вперёд, тот уже попал в его поле зрения метров за двадцать. И невольно Кэндзо отвел глаза.
Он сделал вид, что не узнал его, и попытался пройти мимо. Но ему нужно было ещё разок хорошенько рассмотреть лицо этого мужчины. И когда между ними осталось каких-то четыре метра, то снова направил взгляд в его сторону. Данный субъект уже пристально вглядывался в его фигуру.
На улице было тихо. Между ними лишь непрерывно падали тонкие нити дождя, так что никаких трудностей с тем, чтобы разглядеть лица друг друга, не было. Кэндзо тут же отвел глаза и снова, глядя прямо перед собой, зашагал дальше. Однако его визави так и остался стоять на краю дороги, не проявляя ни малейшего желания сдвинуться с места, и провожал его взглядом, пока тот проходил мимо. Кэндзо лишь заметил, как лицо того мужчины поворачивалось, следуя за его шагами.
Сколько же лет они не виделись? Их пути разошлись, когда Кэндзо было лет двадцать, не больше. С тех пор минуло пятнадцать-шестнадцать лет, и за всё это время они ни разу не встречались.
Его положение и обстоятельства жизни с тех пор сильно изменились. Если сравнить его нынешний облик – с чёрной бородой и в котелке – с его прежним обликом, с бритой головой, то даже у него самого могло возникнуть чувство, будто прошла целая вечность. Однако, как ни крути, тот субъект почти не изменился. Он в душе удивился: как же так, тому мужчине, по всем подсчётам, должно было быть шестьдесят пять – шестьдесят шесть, отчего же его волосы до сих пор были чёрными, как прежде? И даже такая характерная черта, как привычка выходить на улицу без шляпы, которую тот сохранил и по сей день, стала для Кэндзо причиной возникновения странного чувства.
Разумеется, он вовсе не желал пересекаться с этим человеком. И если уж встречаться, то он хотел, чтобы тот был одет хоть немного лучше его самого. Однако тот, кого он увидел сейчас воочию, никак, с чьей бы то ни было точки зрения, не мог считаться состоятельным. Оставить вопрос ношения шляпы на его усмотрение – это одно, но если судить по его хаори или кимоно, то его можно было принять разве что за пожилого горожанина из семьи, ведущей образ жизни не выше среднего класса. Он заметил даже, что раскрытый западный зонт того мужчины был, по-видимому, из тяжёлого муарового шёлка.
В тот день, даже вернувшись домой, он никак не мог забыть о мужчине, встреченном по дороге. Его преследовал взгляд того человека, который временами останавливался на краю дороги и пристально провожал его. Однако жене он ничего не сказал. У него была привычка в плохом настроении не рассказывать супруге о том, о чём очень хотелось бы поведать. Жена же была той, кто в ответ на молчание мужа, кроме как по необходимости, никогда не заговаривала первая.
II
На следующий день Кэндзо снова прошёл тем же путём в то же время. И на следующий день тоже прошёл. Однако мужчина без шляпы больше ниоткуда не появлялся. Он, как автомат, словно выполняя долг, ходил туда и обратно по своей обычной дороге.
После пяти дней такого затишья, утром шестого дня мужчина без шляпы внезапно снова возник из-за холма у святилища Нэдзу и словно подстерёг Кэндзо. Это произошло почти на том же месте, что и в прошлый раз, и время было почти то же самое.
В тот момент Кэндзо, сознавая, что тот приближается к нему, попытался, как обычно, идти, как автомат. Однако поведение мужчины было совершенно противоположным. Собрав всё внимание, способное взволновать кого угодно, в своих глазах, он пристально смотрел на него. В его мутных глазах ясно читалось желание приблизиться к нему при первой же возможности. В груди Кэндзо, безжалостно прошедшего мимо, возникло странное предчувствие.
«Вряд ли на этом всё и кончится».
Но и в тот день, вернувшись домой, он так и не рассказал жене о мужчине без шляпы.
Они с супругой поженились семь-восемь лет назад, и к тому времени его связи с тем мужчиной уже давно прекратились, к тому же, поскольку местом женитьбы был не его родной Токио, у жены не было возможности знать его лично. Однако, что касается слухов, то, возможно, та уже слышала о нём либо от самого Кэндзо, либо от его родственников. Во всяком случае, для супруга это не было проблемой.
Однако в связи с этим происшествием в его памяти всплыл один случай, имевший место уже после женитьбы. Лет пять-шесть назад, когда он ещё жил в провинции, однажды на его рабочем столе неожиданно оказалось толстое письмо, написанное женской рукой. Тогда он с удивлённым лицом принялся читать это послание. Но сколько ни читал – не мог дочитать до конца. Оно было исписано мелким почерком без промежутков на двадцати с лишним листах японской бумаги, и, пробежав глазами примерно пятую часть, он в конце концов передал его жене.
Тогда ему пришлось объяснять ей, какова была личность женщины, написавшей ему такое длинное письмо. А затем, в связи с этой женщиной, возникла необходимость упомянуть и того самого мужчину без шляпы. Кэндзо помнил себя в прошлом, принужденного к этому действию. Однако, будучи человеком, чьё настроение легко портилось, он забыл, насколько подробно тогда объяснил всё жене. Возможно, супруга, будучи женщиной, ещё хорошо помнила это, но сейчас у него не было ни малейшего желания снова расспрашивать её об этом. Он страшно не любил, когда эта женщина, написавшая длинное письмо, и этот мужчина без шляпы возникали в его мыслях вместе. Поскольку всё это вызывало из глубины памяти его несчастливое прошлое.
Благо, его нынешнее состояние не оставляло ему досуга для беспокойства о таких вещах. Возвращаясь домой и переодеваясь, он тут же удалялся в свой кабинет. Ему постоянно казалось, что на циновках этой тесной комнаты площадью в шесть татами горой навалено то, что ему предстоит сделать. Однако, по правде говоря, куда сильнее, чем самой работой, им владел стимул, что её необходимо делать. Естественно, он не мог не нервничать.
Когда Кэндзо распаковал в этой комнате ящики с книгами, привезёнными издалека, он устроился, скрестив ноги, среди гор иностранных томов и провёл так неделю, другую. И, беря в руки всё, что попадалось, подряд читал по две-три страницы. Из-за этого наведение порядка в кабинете, коему следовало бы уделить первостепенное внимание, нисколько не продвигалось. В конце концов, один друг, не в силах более видеть такое положение вещей, пришёл и, не обращая внимания ни на порядок, ни на количество, быстро расставил все имевшиеся книги на полках. Многие, знавшие его, считали, что у него нервное истощение. Он же сам верил, что такова его природа.
III
Кэндзо и впрямь был завален работой изо дня в день. Даже вернувшись домой, у него почти не было времени, которым мог бы распоряжаться по своему усмотрению. К тому же он хотел читать то, что хотел читать, писать о том, о чём хотел писать, и размышлять над проблемами, над которыми хотел размышлять. Потому его разум почти не ведал досуга. Он постоянно сидел, прилипнув к письменному столу.
Однажды друг предложил своему вечно занятому приятелю заняться уроками пения ёкёку, но тот наотрез отказался, а про себя удивлялся, откуда у других бывает столько свободного времени. И он совершенно не замечал, что его отношение ко времени весьма схоже с отношением скряги.
Естественным образом ему приходилось избегать общения. И избегать людей. Чем сложнее становилось его взаимодействие с печатными знаками, тем более одиноким должен был становиться он как личность. Порой Кэндзо смутно ощущал это одиночество. Однако, с другой стороны, был уверен, что в глубине души в нём теплится необычный огонёк. Потому, ступая по жизненному пути в направлении унылой пустоши, он считал, что так и должно быть. И никогда не думал, что идёт навстречу иссушению тёплой человеческой крови.
Родственники считали его чудаком. Однако для него это не было такой уж большой мукой.
– У нас разное образование, ничего не поделаешь.
В глубине души у него всегда был такой ответ.
– Всё же это похвальба.
Такова была неизменная трактовка жены.
К несчастью, Кэндзо не мог подняться над такими суждениями своей супруги. Каждый раз, слыша это, он делал недовольное лицо. Иногда от всей души злился на жену, что та его не понимала. Иногда кричал на неё. А иногда и вовсе обрывал её на полуслове. Тогда его вспышки гнева звучали для жены как слова того, кто лишь напускает на себя важность. Супруга лишь заменяла четыре иероглифа, означавших «петь себе дифирамбы», на четыре иероглифа, означавших «разводить демагогию».
У него были лишь одна единокровная сестра и один брат. Не имея других родственников, кроме этих двух семей, он, к несчастью, не поддерживал с ними близких отношений. Такое странное положение вещей, как отдаление от собственных сестры и брата, и для него самого не было слишком приятным. Однако собственное дело было для него важнее, чем общение с родственниками. К тому же воспоминание о том, что после возвращения в Токио он виделся с ними уже три или четыре раза, служило ему некоторым оправданием. Если бы мужчина без шляпы не преградил ему дорогу, Кэндзо, как обычно, по два раза в день, с регулярностью часового механизма, ходил бы по улицам Сэндаги и в ближайшее время ни за что не отправился бы в том направлении. А если бы за это время выдалось свободное воскресенье, то лишь развалился бы на циновках, раскинув измождённые усталостью конечности, и предался бы полуденному покою.
Однако когда настало следующее воскресенье, он вдруг вспомнил о мужчине, с которым дважды встретился на дороге. И внезапно, словно озарённый мыслью, отправился к дому сестры. Тот находился в переулке рядом с улицей Цуноморидзака в Ёцуя, в месте, лежавшем в сотне метров от главной улицы. Её муж приходился Кэндзо двоюродным братом, так что и сестра тоже была двоюродной. Однако по возрасту его родственники отличались друг от друга не более чем на год, и, с точки зрения Кэндзо, оба были старше его чуть ли не на целое поколение. Поскольку ранее её супруг служил в районном управлении Ёцуя, даже сейчас, после ухода оттуда, сестра, говоря, что не хочет покидать ставшее привычным место, несмотря на неудобство расположения для его нынешней работы, всё ещё жила в старом, обветшалом доме.
IV
У сестры была астма. Она постоянно тяжело дышала, круглый год. И тем не менее, будучи от рождения крайне вспыльчивой, не могла сидеть спокойно, если только ей не было совсем плохо. Вечно она без устали кружила по тесному дому, придумывая себе какие-нибудь дела. Её неусидчивая, суетливая манера казалась Кэндзо весьма достойной сожаления.
К тому же сестра была весьма велеречивой женщиной. И в её манере говорить не было ни капли достоинства. Сидя с ней лицом к лицу, Кэндзо неизменно хмурился и умолкал.
«И это моя сестра, вот как».
После общения с ней в груди Кэндзо всегда возникали такие сетования.
В тот день Кэндзо, как обычно, застал эту сестру в фартуке, возившейся в шкафу.
– Ну надо же, нежданно-негаданно пожаловал. Садись, пожалуйста.
Сестра предложила Кэндзо подушку для сидения и вышла в коридор умыть руки.
Кэндзо в её отсутствие оглядел комнату. В раме над перегородкой висел потемневший от времени висячий свиток, который он помнил ещё с детства. Он вспомнил, как хозяин этого дома, когда ему было лет пятнадцать-шестнадцать, рассказывал, что имя Цуцуи Кэн, стоящее в подписи, принадлежит каллиграфу-самураю, и что тот был большим мастером. В те времена он называл того хозяина «братец» и постоянно ходил к нему в гости. И, несмотря на разницу в возрасте, как между дядей и племянником, они, бывало, боролись в гостевой комнате, и сестра на них сердилась, или забирались на крышу, срывали инжир и ели, а кожуру бросали в соседний двор, из-за чего потом приходилось разбираться с последствиями. Бывало, Кэндзо сильно обижался, когда хозяин, пообещав купить ему компас в футляре, обманывал мальца и ничего не покупал. А однажды, поссорившись с сестрой, он решил ни за что не прощать её, даже если та придёт с извинениями, но, сколько ни ждал, та не шла извиняться, и ему пришлось, волоча ноги, отправиться самому, и, не зная, куда девать руки с ногами, молча стоял у входа, пока ему не сказали «заходи» – весьма комичная ситуация…
Глядя на старый свиток, Кэндзо направил прожектор своей памяти на себя в детстве. И ему стало неловко от того, что теперь он не мог питать особой симпатии к этой супружеской чете, столь помогшей ему в своё время.
– Как ваше здоровье в последнее время? Приступы не слишком сильные?
Он смотрел на сидевшую перед ним сестру и задал этот вопрос.
– Спасибо, слава Богу, погода хорошая, так что я пока как-то справляюсь с делами по дому, но… Всё же годы берут своё. Уж никак не могу работать так, как в старые времена. Когда Кэн-тян приходил ко мне в гости, я, бывало, подобрав подол, мыла даже заднюю часть котла, а сейчас, хоть убей, нет у меня такой энергии. Но, слава Богу, я вот так вот справляюсь, каждый день пью молоко…
Кэндзо не забывал ежемесячно выдавать сестре, хоть и небольшие, но деньги на карманные расходы.
– Кажетесь немного похудевшей.
– Да нет, это у меня от природы, ничего не поделаешь. Я ведь никогда не была полной. Всё же у меня слишком вспыльчивый характер. Из-за этого и растолстеть не могу.
Сестра закатала свои тонкие, без единого намёка на мускулы, руки и показала их Кэндзо. Тёмные, полукруглые, усталые тени лежали под её большими, глубоко посаженными глазами на дряблой, утомлённой коже. Кэндзо молча смотрел на её шершавые ладони.
– Но Кэн-тян стал таким солидным, вот это прекрасно. Когда ты уезжал за границу, я думала, уж не доведётся ли нам встретиться вновь в этой жизни, и вот ты вернулся цел и невредим. Если бы твой отец и мать были живы, как бы они обрадовались.
Глаза сестры наполнились слезами. В детстве Кэндзо она постоянно говорила:
– Когда-нибудь у сестры будут деньги, и я куплю тебе, Кэн-тян, всё, что захочешь.
А в другие моменты говорила:
– В такой глуши этот ребёнок никогда ничего не добьётся.
Кэндзо, вспоминая прежние слова сестры и её манеру говорить, горько усмехнулся про себя.
V
Даже пробуждая в памяти эти старые воспоминания, Кэндзо всё острее замечал, как сильно постарела его сестра, которую он не видел так долго.
– Кстати, сколько вам лет, сестра?
– Я уже старуха. Пятьдесят один, вот как, братец.
Сестра усмехнулась, обнажив редкие жёлтые зубы. Честно говоря, цифра пятьдесят один показалась Кэндзо неожиданной.
– Выходит, разница с моими годами – больше чем целое поколение. А я-то думал, что от силы лет десять-одиннадцать.
– Что ты, что ты, какое там поколение. Целых шестнадцать лет разницы между нами, Кэн-тян. Мой муж – год Овцы, третий год Дракона, а я – в год Змеи. Кэн-тян, ты, кажется, в год Свиньи?
– Не знаю, как там что, но мне в любом случае тридцать шесть.
– Проверь, посчитай, обязательно окажется год Свиньи.
Кэндзо даже не знал, как вообще высчитывают свой знак по году рождения. Разговор о возрасте на этом и закончился.
– А его сегодня нет дома? – спросил он о Хида.
– Со вчерашнего дня на дежурстве. Если бы только в свои, то в месяц выходило бы всего три-четыре раза, но ведь ещё и другие просят подменить. Да и если лишнюю ночь подработать, всё равно сколько-то да получишь, вот и берёшься за чужую работу. В последнее время получается, что ночует он там и приходит сюда почти поровну. А может, даже там чаще.
Кэндзо молча посмотрел на стол Хида, стоявший у сёдзи. Рядом с аккуратно и чинно стоящими письменным набором, папкой для бумаг и свитками для писем были поставлены две-три конторские книги с красными кожаными корешками, обращёнными в его сторону. Под ними лежали и маленькие счёты, начищенные до блеска.
По слухам, у Хида в последнее время была какая-то странная связь с женщиной, и поговаривали, будто он содержал её совсем рядом со своим местом работы. Кэндзо думал, что, возможно, именно поэтому тот не возвращался домой, ссылаясь на дежурства.
– А как Хида в последнее время? Сильно постарел, наверное, и стал серьёзнее, чем раньше?
– Да что ты, всё такой же. Он ведь человек, рождённый только для собственных утех, ничего не поделаешь. То представления, то театр, то борьба сумо – только бы деньги были, так он целый год напролёт бегает по ним. Но странное дело, то ли от возраста, то ли ещё почему, но, по сравнению с прежними временами, вроде бы стал немного добрее. Раньше, как Кэн-тян знаешь, совсем с ним было трудно, уж очень он был крут. И пинал, и колотил, и за волосы таскал по всей комнате…
– Но зато и сестра не из тех, кто отступает.
– Да что ты, я разве хоть раз руку на него поднимала? Никогда такого не было.
Кэндзо, вспомнив вспыльчивую сестру в прошлом, невольно развеселился. Их потасовки отнюдь не ограничивались тем, что она, как сейчас признавалась, лишь оказывала сопротивление. В частности, в словах сестра была куда искуснее Хида, раз эдак в десять раз. И всё же ему стало как-то жаль эту неуступчивую женщину, которую муж дурачил, и которая, раз он не возвращался домой, твёрдо верила, что её супруг обязательно ночует на работе.
– Давно не виделись, может, я вас чем-нибудь угощу? – сказал он, глядя на лицо сестры.
– Спасибо. Ты как раз вовремя про суши заговорил, ничего, что не диковинка, но поешь, пожалуйста.
Сестра была из тех женщин, которые, едва завидев гостя, не взирая на время, непременно должны его чем-нибудь накормить. Кэндзо, ничего не поделаешь, уселся поудобнее и решил наконец приступить к разговору, ради которого и явился.
VI
В последнее время Кэндзо, возможно, оттого, что слишком напрягал голову, чувствовал себя неважно. Временами, как ему казалось, он вспоминал о необходимости двигаться, но в груди и в животе становилось только тяжелее. Он старался быть осторожным и, помимо трёхразового питания, по возможности ничего не брать в рот. Но даже это не могло противостоять настойчивости сестры.
– Но ведь суши-норимаки ведь не повредят здоровью. Сестра специально для Кэн-тяна заказала, чтобы угостить, так уж пожалуйста, съешь. Не хочешь?
Кэндзо, ничего не поделаешь, набил рот безвкусными норимаки и принялся жевать, работая ртом, пересохшим от табака.
Сестра была так разговорчива, что он всё не мог сказать того, что хотел. Хотя он пришёл с вопросом, который хотел давно задать, этот полностью пассивный диалог начинал его понемногу раздражать. Однако сестра, похоже, совершенно этого не замечала.
Любя не только угощать, но и одаривать других, она принялась упрашивать Кэндзо взять старую потемневшую картину с изображением Дармы, которую он похвалил в прошлый раз.
– Такая старая вещь, а держать её дома всё равно незачем, так что забирай с собой. Да и Хида она уж точно не нужна, какой-то грязный Дарма.
Кэндзо не сказал ни что возьмёт, ни что не возьмёт, а лишь горько усмехнулся. Тогда сестра вдруг понизила голос, словно собираясь поведать какую-то тайну.
– Честно говоря, Кэн-тян, я всё собиралась рассказать тебе, когда ты вернёшься, и вот молчала до сегодняшнего дня. Кэн-тян, наверное, только приехал и занят, да и если бы сестра пришла к тебе, раз у тебя есть жена, о таком было бы немного трудно говорить… Да и хоть бы письмо написала, но ты же знаешь, я неграмотна…