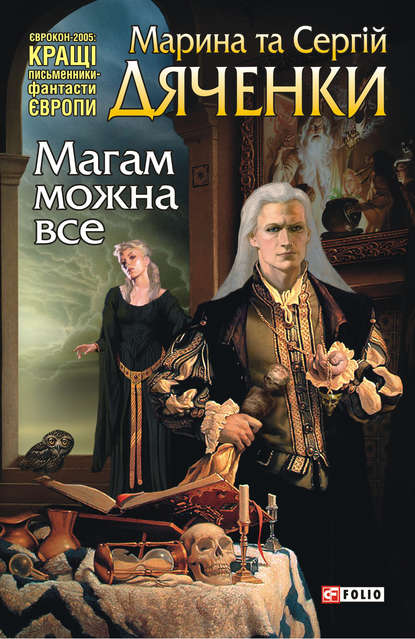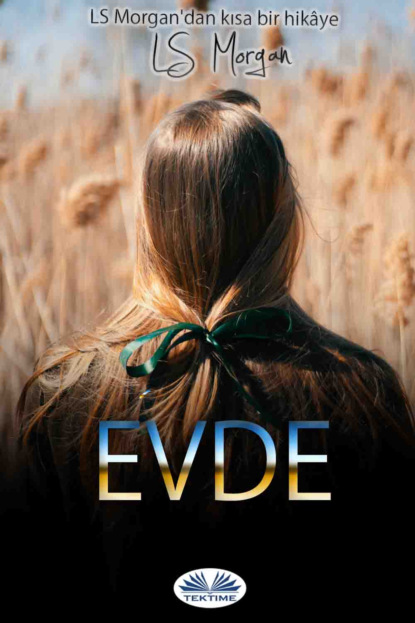Дела давно минувших дней

- -
- 100%
- +
Да где ж он выучился так искусно читать? – восхищается боярин – Ай да Юрий, сын Богданов роду Отрепьевых!
"Господине мой! Не лиши хлеба мудрого нищего, не вознеси до облак глупого богатого. Ибо нищий мудрый – что золото в навозном сосуде, а богатый разодетый да глупый – что шелковая наволочка соломой набитая. Господине мой! Не смотри на наружность мою, но посмотри каков я внутри. Я, господине, хоть одеянием и скуден, но разумом обилен; юн возраст имею, а стар смысл во мне. Мыслию бы парил как орел в воздухе."
И, прекрасно понимая, что понравился, смело чуть изменив текст, Юшко торжественно заканчивает: "Господи! Дай же боярину (князю) нашему силу Самсона, храбрость Александра, разум Иосифа, мудрость Соломона, искусность Давида и умножь, господи, всех людей под пятою его. Богу нашему слава, и ныне и во веки."
Зардевшись, Юшко низко поклонился.
Молодец … ай, молодец … порадовал – Фёдор Никитич снимает с пальца золотой массивный перстень с яхонтом и дарит Юрию.
С той поры стал Юшко часто бывать в верхних господских палатах. Фёдор Никитич явно отличал его. Вечерами Юрий читал боярину, а иногда даже беседы с ним удостаивался. И вот однажды, уж время за полночь, Фёдор Никитич вдруг прервал чтение и заговорил таинственно-страшно: "Слушай же отрок державный… Явился мне ночью той старец Паисий и поведал… О, дела чудные, Божьим Промыслом сотворённые!"
Юшко обомлел, дыханье прервалось, в его широко распахнутые глаза властными лучами вторгся роковой взор боярина.
– Слушай же и внимай. Вот что поведал Паисий: "16 годов назад, помолившись в ночи, уж сон одолевать меня стал … Вдруг Ангел в неземном сиянии пред очами явился. – Восстань от сна Паисий, должно тебе сотворить великое, порадеть делу государеву, Руси Святой и угодить Господу. О, Ангел Божий – ответствовал я грешный в великом трепете – всегда готов служить Господу. И тут же оказались мы в горнице. В люльке лежал младенец, рядом крепко матерь его спала. Бери младенца, Паисий – Ангел велел. И тут же я, с младенцем на руках, увидел себя у другой колыбели в палатах царских. Бережно Ангел царевича вынул, а в царскую колыбель опустил дитя принесённое. И вновь очутились мы в горнице и положил Ангел царевича в люльку к матери. Зачем сотворили сие, Ангел Божий? – осмелился вопросить я. – Надобно так для Грядущего, для сохранения семени царского. Пройдёт 9 лет и должно убиту быть царевичу Дмитрию будущим царём – Иродом! Но убит будет не Дмитрий царевич, а Юрий, сын Богданов, родом Отрепьев. И когда придёт время, Паисий, сообщишь об этом боярину, тому, к кому Судьба приведёт царевича Дмитрия. А боярин тот царём его сделает."
Да вот он я, Юшко, где ж убит… я… вот он я… Юшко – шепчет, побелевшими губами, отрок, не в силах оторвать глаз от страшной, неземной силы очей боярина.
Крепко к сердцу прижал Фёдор Никитич обомлевшего Юшку, непонятная дрожь охватила обоих, задыхающийся шёпот боярина чуден и страшен: "Димитрий… царевич ты… Дмитрий… царя сын… Ивана Васильича… слышишь?" – Фёдор Никитич, словно сына, гладит, ласкает Юшку. – "Жив…жив… … войско соберём великое… вся Русь за тебя встанет… Царём будешь… Бояре служить тебе будут… Что прикажешь царь-государь Дмитрий Иваныч… чем пожалуешь слуг своих верных?… Вот ведь как… вот ведь как оно будет…"
А – а – ах!! – стон-вопль тишину взрезал. Замер боярин, Юшку добычею стиснул. А ночь нынче лунная, звёздная… ти – ха – я … … Юродивый Кирюша плачет … бедный, бедный, Кирюша… отчего вскричал эдак страшно?
– Лев летит … Вон! Вон! … над Кремлём кружит… окаянный. Горе! Горе!… на сотни лет Руси го-о-ре-е … … А -а – ах!!
Страшный сон томит царя Бориса – распахнулось окно… могильным холодом потянуло… красный Лев из тьмы тихо влетел, на грудь сел, глазами человечьими глядит… вскрикнул царь Борис и … проснулся.
А за утренней трапезой царевич Фёдор сказал: "Сон мне сей ночью привиделся страшный – Лев крылатый меня терзал так, что кровь текла."
Молился ль пред сном ты, Фёдор? – спросил отец, с тревогой глядя на сына.
– Всегда молюсь, батюшка.
Святой водой окропить дворец. А в церквах пусть читают о здравии Царя, Царицы и чад наших Фёдора и Ксении – распорядился Царь Борис Фёдорович.
И стали по всей Руси во всех домах на трапезах и вечерях, за чашами читать особенную молитву, составленную искусными книжниками о душевном спасении и телесном здравии "слуги божия, царя, всевышним избранного и превознесённого самодержца всей Восточной страны и Северной; о царице и детях их; о благоденствии и тишине отечества и церкви под скипетром единого Христианского венценосца в мире, чтобы все иные властители пред ним уклонялись и рабски служили ему, величая имя его от моря до моря и до конца вселенныя, чтобы россияне всегда с умилением славили Бога за такого монарха, коего ум есть пучина мудрости, а сердце исполнено любви и долготерпения; чтобы все земли трепетали меча нашего, а земля русская непрестанно высилась и расширялась; чтобы юные цветущие ветви Борисова дому возросли благословением небесным и непрестанно осеняли оную до скончания веков!"
– Юшко-то наш каков, а?
– Юшку не знаю … на усадьбе известен всем Юрий Богданович.
– Вот и я ж про то. Взлетел парень, орлом в небесах парит. Слышь-ко, самому боярину Фёдору Никитичу полюбился. Да вроде как и не слуга, а друг любезный – и на охоте-то рядом скачет, и в шахматы сидят играют, а ежели Юрий Богданович выиграет, дак Фёдор Никитич не изволит гневаться. Молодец! – скажет, да по плечу хлопнет. И вечерами-т они вместе – книжки читают да беседы ведут… Наряден да пригляден ныне Юрий Богданович – за господским столом трапезничает.
– Да уж… очень привечает Фёдор Никитич Отрепьева Юрия
А вечерами, наедине, боярин Юшку царевичем Дмитрием Ивановичем величает. Счас то уж привык к сему Юрий, а как впервой случилось – взволновался… сказать ничё не может, лишь глазами хлопает. Вот и сейчас – усадил Фёдор Никитич Юрия в боярское кресло и кланяется ему низко.
– Дмитрий царевич, как царём на Руси станешь, не обойди меня своею милостью.
Сердце оборвалось у Юшки… чудно, страшно ему. А боярин вдруг на колени пал.
– Ежели в опале буду, ежели где цепями окован буду… призовёшь ли к себе, Дмитрий Иванович, когда на престол Отчий сядешь?
Юшко покраснел, кивает, глазами хлопает.
Клянись, что из любой опалы, из тяжких уз вызволишь – властно, роковым взором в очи глядит боярин.
Клянусь – хрипло, не своим голосом произносит Юшко, сглатывает и торопливо добавляет – за тебя боярин, Фёдор Никитич, в огонь, в воду… жизни не пожалею… прикажи только…
Боярин пружиной вскакивает с колен. Хорошо и досадно. Он меряет шагами горницу. Юшко глаз не сводит с красного бархата, расшитых жемчугом, домашних ступней боярина.
Что предан так – хорошо… но… какой же это Царь…?
– Жди здесь. Фёдор Никитич вдруг исчезает.
Юрий растерян. В массивном серебряном шандале тухнет одна из свеч. Что происходит… что? … голова закружилась, поплыло всё… далёкая быль явственно посетила.
1587 год. Июль.
Ох, жарко… солнце печёт… сил нет… … Ох, дышать нечем – Варвара, жена Богдана Отрепьева, опускается на широкую скамью. И в саду прохлады нет. Жарынь.
– Кваску принеси, Малаша.
Юная прислужница поспешает к дому.
– Маманя, тя от солнышка разморило?
Варвара кивает, чуть улыбаясь… голова кружится, всё поплыло… … … . А сынок-то твой – царём будет! Ах-ха-ха! – пред ней чернавка, глаза-уголья жарче солнца жгут. Ах-ха-ха! – глумится, хохочет чернавка – год царём будет… ха-ха.. го-од! – на Юшку пальцем тычет.
– Вот квасок, холодненький… Ой!… курица чёрная… откуда б ей взяться?
– Гони её, Малаша, гони…
Курица квохчет, топчется, волчком вертится, в руки не даётся… вдруг исчезает в кустах. Уж вечером Юшко, выпив кружку молока, хмурясь, спрашивает: "А царём-то я когда буду?"
Как? – Варвара растерянно-изумлена – ты тоже видел?
– Видел матушка. Она чёрной курицей обернулась.
Ох … – Варвара крестит сына – Ох…, морок то, забудь. Она гладит вихрастую головку, прижимает его к себе, целует: " Какой царь… милёнок мой, бородавочка моя ненаглядная."
О – ох… застонал Юрий, головой замотал… о – ох… здесь она… бесовка-чернавка… смех-то как явственно слышен … … Неужто Судьба Царём быть? …
Чуть запыхавшись, Фёдор Никитич явился.
– Гляди-ко сюда Дмитрий Иванович.
Из маленького серебряного сундучка боярин достаёт большой золотой крест, усыпанный жемчугами, рубинами, изумрудами, самоцветами.
– Это, царевич, крестильный твой крест. Паисий-монах передал. Наденешь, когда время придёт.
1600 год. 26 ноября. Ночь.
Шумно – пьяно в парадных палатах Романовых. Незаметно, обходным путём, прячась в тени деревьев от яркой луны, быстро покидает усадьбу Глеб Иванович Бартенев. Вот и Кремль. Прошмыгнул в приоткрытые тяжёлые ворота… странно… стража-то где?… повезло… У дворца тихо и также нет никого. А это что …? Блаженный Кирюша кидает охапки сухих листьев на царское крыльцо.
– Зачем листья кидаешь?
– Лис гоняю… танцы пляшут.
– Нет здесь никого, спать иди.
– Да я ж их всех разогнал… вот и нету.
Кирюша блаженно улыбается и тут же, торопясь, блестя глазами, доверительно сказывает: "Лисы-т чёрные, на задние лапы поднялись и под музыку полонез польский пляшут. Луна ярко светит – Кирюше всё видать … У-у-у … бестыжие … иного места нет, как на царском крыльце мерзости выделывать. Я их листьями-то и разогнал всех, а ты иди Глебушко, Семён-от не спит».
Вскоре Семён Михайлович Годунов, возглавляющий сыскное ведомство, внимательно слушает Бартенева.
– Лихо затевают Романовы. Народу на усадьбе полно – всё мужики крепкие, молодые. С сёл ихних да деревень приходят с подводами, а назад не идут – вроде как дел у них там нету. А я, как казначей, намедни большую сумму выдал для дальних новгородских сёл. А там кузнецы-оружейники, вот ведь что! А сейчас гости к ним понаехали, уж не знаю, что празднуют – Шуйские, Мстиславские, Сицкие, Карповы, Черкасские, Колычевы – всё родня да друзья. У меня-то укромное местечко есть, стою слухаю, да в щёлочку поглядываю. Уж пьяные все. Вдруг Фёдор Никитич бахвалиться стал – у меня, говорит, такое зелье есть, такое зелье! Бориско с трона кубарем скатится! … и хохочет…, а Иван Каша его за рукав тянет, остановить хочет, а Фёдор-то брата отпихнул – тот аж упал, а сам плясать пошёл… ну, а я вот сюда побежал.
Вскоре из Кремля выехало стрелецкое войско. Усадьбу Романовых разорили. Хозяев, гостей, слуг, холопов, пришлых крестьян повязали. Началось следствие.
Ох, тяжко… бесы проклятые… измолотили всего… подлые… в стрельцов вырядились… а я признал… сразу признал… и … аки воин Христов сразился с воинством адским. Боярин Фёдор пытается осенить себя крестным знаменьем – не может. У – у, подлые… руки связали… чтоб защиты от них крестной не было… Он громко читает "Отче наш", мутным взором осматривая тёмные бревенчатые стены и низкий потолок холодного узилища. Где ж это я?… Ох – ох… – он заметался на жёстком полу. Всё болит, мочи нет… проснуться б скорей… экая пакость намерещилась спьяну.
Эй, Прошка! Квасу неси! – хрипло требует Фёдор Никитич. Вскоре послышались шаги, голоса, заскрежетал ключ в замке, отворилась низкая дверь.
Чур! Чур! Бесы проклятые! – завопил в ужасе Фёдор.
– Не бесы мы, стрельцы государевы. Пойдёшь с нами боярин, к патриарху тя требуют.
Хмель, дурь, сон мигом выветрились.
Развяжите меня – просит Фёдор Никитич.
– А драться не будешь?
Боярин отрицательно мотает головой, пытаясь собраться с мыслями.
– Случилось-то что?
– Там узнаешь.
И вот, Фёдор Никитич, в разодранном роскошном кафтане, с большим чёрным синяком под глазом, хмуро идёт в сопровождении стрельцов.
Уж рассвело. Небо в тучах свинцовых. Скверно моросит пакостный осенний дождь. Братья Романовы – Фёдор, Александр, Михаил, Василий, Иван – выезжают из тюремных ворот на простой крестьянской телеге. Их сопровождает конная стрелецкая охрана. Братья хмуро молчат. Случилось страшное. Уж не на плаху ль везут… ?
На дворе патриарха народу много. Высшее духовенство и вся знать: думцы, Годуновы, Сабуровы, Вельяминовы, Морозовы, Хворостинины, Шереметевы, Воротынские, Салтыковы, Басмановы, Беклемишевы, Гагины, Татищевы, Сукины. Все злобно кричат, оскорбляют, ругаются.
Ишь… что псы с цепей рвутся… растерзали бы, кабы не стража стрелецкая… ей бо…
И царь Борис здесь. Он бледен, задумчив. Да… от Романовых измены не ждал… надеялся опорой будут – умны, деловиты, образованы… Тяжко… Вспомнился Никита Романович, как, умирая, просил: "Сынов моих не обижай, поддерживай. Богом молю, Борис." Не изменил обещанию. Фёдор – глава Малой Думы, многих более родовитых и опытных обошёл. Александр и Михаил боярство получили. Иван и Василий тоже удостоились бы мест высоких… А богатств сколь у них! Живи. Служи. Радей государству да государю… Э – эх…
Вдруг шум стих. Михаил Глебович Салтыков вывалил из мешка коренья на стол.
Боярин Фёдор Никитич – строго спрашивает патриарх Иов – зачем коренья ведовские в доме держал?
Не было у меня никаких кореньев, подкинули их – затравленно отвечает Фёдор.
А зелье из чего собирался делать, чтоб Царя отравить? – тихим голосом вопрошает Семён Михайлович Годунов, закипая гневом.
Помилуй Бог, никого мы не собирались травить, тем паче, благодетеля нашего, царя Бориса Фёдоровича – горячо уверяют Александр и Михаил Романовы.
Ой ли? – Семён Михайлович кивает кому-то и вперёд выходит Глеб Иванович Бартенев.
– Расскажи всем, чем хвалился на пиру боярин Фёдор Никитич Романов.
Фёдор похолодел, сердце оборвалось.
Этой ночью на пиру в палатах своих боярин Фёдор Никитич Романов говорил, что у него такое зелье есть, что Бориско с трона кубарем скатится – громко сказал Глеб Иванович Бартенев, дерзко глядя на братьев Романовых.
Иван Каша за голову схватился.
Врёт! Врёт он всё! Клевещет! Наговаривает! Не верьте клеветнику! Он… Он, казначей наш, проворовался…
Довольно – царь Борис поднял руку. – Будет дознание. Всё выясним. Уведите подозреваемых.
Тяжкие времена пришли. Зависть проклятая во тьму ввергла… Э -эх… замахнулись на Высшее… пропадём теперь, сгинем все… Сердца костлявой рукой Тоска сжимает, о скорой смерти вещает. Несколько месяцев длилось следствие по делу Романовых. Людей их жестоко пытали. Все молчали и клялись, что ничего не знают. И это было истинно, ибо тайные планы господ им не были ведомы. Самих Романовых не пытали, но их часто приводили к пыткам. Слава Богу, Юшки средь истязуемых не было. Всякий раз, спускаясь в пыточную, Фёдор Никитич боялся встретиться с горе-царевичем. Он был уверен – Юшко выдаст. С его изворотливым умом, себялюбием, умением хорошо выражаться, стремлением к красивой жизни – да он наплетёт и так всё вывернет, так повернёт всё к своей пользе, что Фёдор на плахе голову сложит, братья в тюрьме сгинут, а сам Юшко-прохвост вымолит себе монастырь на вечное покаяние, да сбежит оттуда, шельмец, в первый же год сбежит!, и в новые каверзы встрянет. Ибо плут, лицемер, хитрец и лжец, да и скоморох – всё изобразить может. В нём самом не знаешь – где правда, где ложь. Себя до пыток не допустит… чёртово семя… Тьфу!
1601 год, июнь.
Дождь. Бесконечный слёзный дождь. Тоска. В убогой крестьянской телеге, прикрывшись мокрой рогожей, Фёдор Никитич Романов едет в дальний Антониев-Сийский монастырь.
Нищий… всё отняли… всё… … Лучше б голову на плахе срубили… … Дальше как жить… зачем?… … В убогой келье монахом молиться… за царя Бориса… за Его Великое Царство… … Борис!… как же я тебя ненавижу… Да чтоб дождь этот проклятый Царство твоё затопил! Чтоб был голод и голодом чернь взбунтовалась! Чтобы ты вместе с сыном убит был… … О, Боже!
И подслушала Фёдора нечисть бесовская – затопило дождями Царство Борисово.
Ох, ты серость лютая, страшная… льются злой судьбой дожди вечные. Налетите ветры желанные, разгоните тучищи чёрные… … Ты явися нам солнце жаркое, просуши нашу Землю-кормилицу. Не губи народ грешный, Господи, не карай ты нас лютым голодом. Стонет, плачет Русь – хлеба нетути… меркнет свет в очах умирающих. По Земле родной мертвяки лежат – воронью, да зверью лесному пожива!
(Сноска: 19 февраля 1600 года в Перу было невиданной силы извержение вулкана Уайнапутина. В России с мая этого года пошли дожди, которые не прекращались 3 месяца. Урожай смыло. Малый ледниковый период длился 3 года, в июле выпадал снег. Был страшный голод, из 10 млн. населения России погибло 3 млн).
Отощавшими тенями, босые, ободранные, к стольному граду Москве людишки стекаются. Царь Борис, милостивец, хлеб, деньги даёт, да и на строительствах заработать можно.
Уж к вечеру, уставшие, измученные, добрались до Москвы Пётр Колобов да Григорий Козловский. Повезло – к вечерней раздачи поспели.
Ох, дух сытный… аж голову кружит с голодухи… не упасть бы…
Православные! – вдруг завопил дедок скоморошьего вида -Голод Бог попустил по грехам нашим! Царём Ирода выбрали!
– Как так, Ирода … ?
– Почто баешь тако?
Старикашка посохом стукнул, пыль клубком взвилась.
– А по то! По приказу царя Бориса царевича Дмитрия убили!
Толпа ахнула.
– Да только промахнулся царь Борис, убит был поповский сын, а царевича бояре спрятали. Жив Димитрий! На Москве скоро будет!
– Брешешь ты, сучий хвост! Не слухайте его, люди добрые! Да я сам видал, как царевич Дмитрий на нож напоролся! Помер он, давно помер. Вот вам крест, сам мальцом с ним играл. – Пётр Колобов сквозь толпу энергично протискивается к деду. – Неча народ зря мутить!
А старикашка исчез, словно его и не было.
Ах ты ж, сучий хвост, нечисть поганая – растерялся Петро.
Пойдём отсюда – Григорий за руку тянет.
– Да что ж он на Царя-т наговаривает.
Не ори, дурень. Пойдём от греха. Получили хлебушко и айда… Вон мордатые подале стоят – Григорий на ухо шепчет – одеты справно, видать слуги боярские.
– Ну?
– Дед-то средь них крутится.
От тварь подлая! – Петро аж руками всплеснул – им таперича брешет!
– Да ихний он, понимаешь… Чёрный верзила-т на тебя, ох, злобно зыркает. Тикать надо, по темноте где схоронимся.
– Да плевать я хотел, чё он там зыркает. Неча на Царя наговаривать. Я правду сказал и ты, Гришь, это знаешь.
– Пойдём отсюда, Петро, беду чую.
– Не… ты как хошь, а я здесь заночую, устал шибко.
– Ну, как знаешь. Григорий растворился во тьме.
Утром Петра Колобова нашли придушенным. Разбираться не стали, в общую яму скинули.
1601 год. Осень.
А где же Юрий, сын Богданов, роду Отрепьевых? Пропал, исчез Юрий. В Спасо-Евфимиевом монастыре в граде Суздале появился юный монах Григорий. Из галичского Железноборского монастыря пришёл. Где он постригся, когда – неизвестно. Скромен, услужлив, не многословен монах Григорий, в послушаниях зело усерден. По душе то братии. На службы ранее всех приходит – тихо, умилительно-слёзно молится, крестным знаменьем не спеша осеняется и кланяется, кланяется…
Слава тебе Господи, слава тебе… сподобил мя, грешнаго, избечь заключения темничного… Ох, … люто пытают там… стра-ах… … Сидорко-то с Антипкой под пыткою померли… … А мне-то с монахами, в храме… так хорошо… так хорошо… – слёзы текут и текут по щекам – упокой Господи души горемычных Сидора, Антипа… прости им прегрешения… даруй Царствие Небесное… а кто ноне муки примает – облегчи страдания, утеши их… Гос-по-ди… … А пенье-то в храме чудное, а роспись благолепная… синева небесная, райская… И не ясно – на земле, иль на Небе ты…
А стрельцы-т государевы как в Палату нагрянули, Юшко сразу в дверь малую, что в поварню вела, шмыгнул, а там, бегом на двор, да к калитке дальней, быстро-быстро, ноги сами понеслись. Вот уж боярская усадьба позади, а он бежит – сердце стучит, воздуха не хватает… Наконец Семейки Евфимьева дом – заколотил в ворота. Сестра Матрёна выбежала, не прибранная, растрёпанная. (сноска: Матрёна – жена дьяка Семейки Евфимьева.) Перепугалась, разохалась. А он: "скорей… одежонку убогенькую дай… потом всё узнаешь… бежать из Москвы надо… не болтай…" Скинул справу боярскую, натянул нищету убогую, рожу сажей смазал и был таков. Кто ж в этаком виде узнает?
Монастырская тихая жизнь по душе пришлась новопостриженному Григорию. Хорошо здесь, покойно. А слаще молитвы и нет ничего. Со святыми, Богородицей, Господом душою общаться – куда ж лучше? А библиотека в монастыре знатная. Всем сердцем прилепился к святой мудрости Григорий. Вот только счас прочёл "Слово о Законе и Благодати" митрополита Илариона.
Да как написано-т предивно… где слова этакие нашёл?…, смыслы великие? Ветхий завет – Закон, Новый завет – Благодать. Закон лишь иудеям, а Благодать – всем. Веруешь, значит в Истине – Благодати пребываешь. И не важно какого ты роду племени.
А как же дивна хвала твоя князю Владимиру, отче Иларионе! "Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами, великое и дивное сотворившего, нашего учителя и наставника, великого князя земли нашей Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава, которые во времена своего владычества мужеством и храбростью прослыли в странах многих и ныне победами и силою поминаются и прославляются. Ибо не в худой и неведомой земле владычество ваше, но в Русской, о которой знают и слышат во всех четырёх концах земли." "Радуйся, апостол во владыках, … … учитель наш и наставник благоверия! Ты правдою был облечен, силою препоясан, истиною обут, умом венчан и милостью, как гривной и утварью златой красуешься. О честная главо, ты был нагим одеяние, ты был алчущим кормитель, ты был вдовам помощник, ты был странникам покоище, ты был обижаемым заступник, убогим обогащение… … За эти и иные благие дела приемля на небесах воздаяние, … помолись за землю свою и людей, над которыми благоверно владычествовал, да сохранит их Господь Бог от всякой рати и пленения, от глада, и всякой скорби и печали."
Ах, сколь дивна сия похвала! И звучат в душе Григория словеса давно сотканные, узорочье чудное, благолепное. (сноска: Слово "О законе и благодати" – одно из самых ранних и выдающихся произведений древнерусской литературы, написано между 1037 – 1050 гг. Автор Слова – Иларион, первый митрополит из русских, поставленный на Киевскую митрополию из священников в 1051 году.)
Уж ночь давно. Узким серпиком месяц светится. Тишина. Монах Григорий пером скрипит. Душой и сердцем хвалу святителю Петру слагает. Радостно, хорошо ему. Слова самоцветами чудными, колокольными звонами Славу возносят:
Радуйся, святый Пётр, радуйся, яко матерь твоя Евпраксия, во сне благодатную предызбранность твою видела.
Радуйся, святитель Пётр, преуспевший в иконописании и сотворивший чудотворную икону "Петровскую".
Радуйся святитель Пётр, по слову Божией Матери, возведённый на престол русской митрополии.
Радуйся добрый воитель Христов, мечом молитвы демонские полки устрашающий. Ты, святый Отче, зря сквозь века, грядущую славу Москвы ясно видел и освобождение от ига татарского предсказал. Радуйся, святый Пётр, радуйся!
(Сноска: Пётр митрополит ( с 1308 – 1325 гг.) Киевский и всея Руси. В 1325 году перенёс свою резиденцию из Киева в Москву и предсказал, что Москва станет центром единой Руси. Умер 21 декабря 1326 года, похоронен в Успенском соборе. В 1339 году был причислен к лику святых. День его памяти 21 декабря по старому стилю, 4 января по новому стилю. )
Свеча горит, вдохновенно Григорий творит. Перо гусиное искусным орнаментом буквы выводит. Всё. Закончил хвалу Григорий. Перечитал. Доволен. Переписал начисто.
Всю Русь облетит хвала сия – тщеславная мысль мелькнула. Вот чем заниматься достойно, вот для чего Господь уберёг от темницы, от мирской суеты, от греховного притязания на престол царский… Это при живых-то Царе и наследнике! Господи! Грех-то какой! Ай – яй, грех какой!! … Писать буду не только хвалы святым… а может… Господь сподобит богословские труды создать, А? Как Василий Великий или Григорий Богослов, А? А я-т тоже Григорий! Ха-ха! Да вся жизнь впереди! Как Иларион в веках славен буду! Ох, Григорий, Григорий… Лёг на лежанку. И заснул. Крепко – крепко.
Стук в дверь разбудил. Вскочил – светло! Беда! Заутреню пропустил!
– А я думаю, здоров ли ты, чадо? На службе нет, на трапезе нет.
На пороге дед Пахомий стоит, румяный, плечистый, седобородый. Зашёл – келья словно меньше и светлее стала.
Проспал я, деда, проспал! – чуть не плачет Григорий.
– С кем не бывает… по молодости-то, ой, сладко спится. Пахомий из-за пазухи достаёт ломоть чёрного хлеба и луковицу с солёным огурцом.
– На вот, с трапезы прихватил, голодно ноне, а ты, гляжу, совсем отощал.
– Спаси Бог, отче Пахомий, ты мне, что дед родной. Григорий поглощает угощение.
– А дед-то есть у тебя?
– А как же. В Чудовом монастыре спасается – Елизарий Замятня.
Замятня?! Елизарий?! – Пафнутий аж просиял весь.
– Деда мово знаешь?