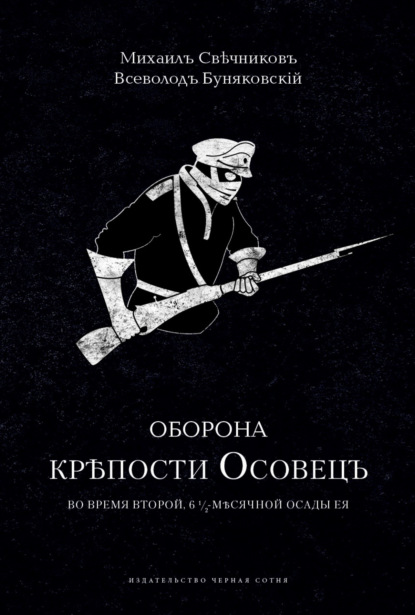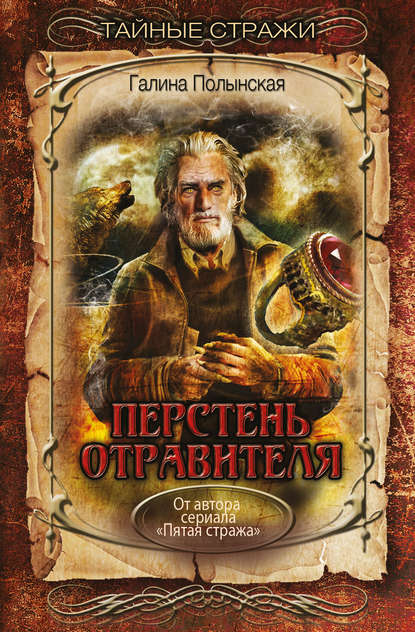Дальнобой по принуждению

- -
- 100%
- +

Часть 1: ПУТЬ ТУДА – ОТ ЧУЖИХ К БЛИЗКИМ
Глава 1. Калуга – Старт и незнакомец
Мама завязывала мне на шее тот самый синий шарфик, будто я собиралась в первый класс, а не в добровольное изгнание на другой конец страны.
– Ты только не болтай головой в дороге, – шептала она, поправляя прядь моих волос. – Он тоже нервничает. Будь мудрее.
«Будь мудрее». Легко сказать, когда ты остаешься дома с Wi-Fi и холодильником.
А я вот сижу в кабине огромной фуры, пахнущей бензином и чужим потом, и пытаюсь понять, куда приткнуть ноги, чтобы не задеть рычаги с непонятными назначениями. Мой чемодан, засунутый в спальник, выглядел здесь инородным телом, ярким пятном в этом царстве функционального серого цвета.
«Папа Сергей» – я уже лет в семь решила, что называть его «папой» как-то нелепо для человека-призрака, который появляется раз в два месяца, пахнет дорогой и спит первые сутки – копошился с бумагами на панели. Его руки, огромные и неуклюжие в этом маленьком пространстве, казалось, не знали, куда себя деть.
– Ну что, поехали? – его голос прозвучал хрипло, будто он давно не пользовался им по назначению.
Я просто кивнула, уткнувшись в телефон. На экране была открыта камера.
Я выбрала самый язвительный фильтр, добавляющий мне синяки под глазами и мертвенный оттенок кожи.
Тайный ролик для канала «Дальнобой по принуждению». День первый.
«Всем привет, вы не поверите, где я сейчас нахожусь, – прошептала я в микрофон, пока он заводил мотор. – Это не квест-комната. Это мои следующие десять дней. Знакомьтесь: мой личный ад на колесах. И мой надзиратель».
Я незаметно навела камеру на него. Он сосредоточенно смотрел на дорогу, его профиль казался высеченным из камня.
«Как вы знаете, мой папа – человек-загадка. Работает кошельком с ногами. Приезжает, оставляет деньги, молча ест и спит. А теперь у нас тур «Познай своего родителя“, спонсированный маминым отчаянием. Цель: доехать до Владивостока и не убить друг друга по дороге. Ставлю на то, что не доедем. Ваши ставки в комментах!»
Я выложила ролик и сунула телефон в карман. Совесть, конечно, кольнула, но лишь на секунду. Он же никогда этого не увидит. Он не в том мире живет.
Первые полчаса мы ехали в оглушительной тишине. Он пытался включить радио – полилась какая-то поминальная музыка, – но я тут же воткнула наушники.
Он вздохнул и выключил.
– В школе как? – выдавил он наконец, не глядя на меня.
– Нормально.
– А мама как?
– Нормально.
– А… кот?
У нас нет кота. Я посмотрела на него, чтобы сказать об этом, и увидела, как он покраснел. Ему было неловко. Мне стало вдруг смешно. И как-то… не по себе.
– У нас, наверное, собака скоро будет, раз кот не завелся, – не удержалась я от сарказма.
Он промолчал. Просто сглотнул. И в этой его молчаливом глотке было столько беспомощности, что моя злость вдруг схлопнулась, оставив после себя чувство странной неловкости.
Мы проезжали мимо знакомых мне мест, но из этой высокой кабины они выглядели чужими. Я достала телефон, чтобы сделать селфи с грустным лицом на фоне уходящей Калуги, но потом просто опустила его.
За окном поплыли поля, однообразные и скучные. А в кабине повисло молчание, густое, как кисель. Мы были двумя островами в одном море асфальта. И между нами – не просто несколько сантиметров потрепанного сиденья, а целая пропасть из пропущенных лет, несказанных слов и десяти лет дороги, которая привела нас
к этому нелепому старту.
Я уткнулась лбом в прохладное стекло, наблюдая, как Калуга окончательно растворяется в дорожной пыли. Мамино лицо на перроне было уже просто белым пятнышком. Я достала телефон, чтобы написать ей «все ок», но вместо этого просто бесцельно листала ленту. Яркие картинки из чужой жизни казались сейчас таким обманом.
Новый ролик. Все тот же Day 1.
«Обновление по обстановке: пробег – сто километров, слов – три. Если так пойдет и дальше, к вечеру я разучусь говорить. А вы знали, что дальнобойщики проходят специальные курсы по молчанию? Видимо, мой папа был отличником».
Я снова украдкой сняла его. Он не видел, уставившись в дорогу. В его затылке,
в том, как он чуть наклонил голову, читалась какая-то сосредоточенная грусть, но я тут же прогнала эту мысль. Что я, психолог что ли? Просто устал, наверное.
Желудок предательски заурчал. Я ничего не ела с утра от нервов.
– Есть что-нибудь? – спросила я, разрывая молчание, как пергамент.
Он буквально вздрогнул, словно забыл, что я здесь.
– А? Да… Держи.
Одной рукой он потянулся за небольшой сумкой на пассажирской полке и достал оттуда яблоко. Идеальное, блестящее, как из рекламы.
Я взяла. Оно было холодным. Я ждала чего угодно – пакета с печеньем, батончика, но не идеального яблока. Он словно готовился к моему приходу.
– Спасибо, – пробормотала я.
– Не за что.
Я откусила. Хруст разнесся по кабине, звук был оглушительно громким в этой тишине.
– Хочешь? – от неловкости я протянула яблоко ему.
Он посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло что-то удивленное, почти растерянное.
– Я потом, – покачал головой он. И добавил, глядя на дорогу: – Ты в детстве их обожала. Особенно зеленые. Могла за раз два умять.
Я чуть не поперхнулась. Он помнил. Какую-то ерунду про яблоки, которую я сама забыла. В моей голове что-то перещелкнулось. Этот человек, этот «надзиратель», помнил мои детские пищевые пристрастия. От этого стало как-то не по себе. Не больно. Странно.
Я доела яблоко и скомкала огрызок в салфетке. Молчание снова сгустилось, но оно было уже не таким враждебным. Оно было… задумчивым.
Он первым снова нарушил тишину.
– Если хочешь… Можешь музыку свою включить через Bluetooth.
Это было похоже на белый флаг. На попытку заговорить на моем языке.
– Серьезно? – удивилась я.
– Ну да. Только, может, не очень громко? Чтобы дорогу слышать.
Я подключила телефон. Первой же песней в плейлисте был какой-то зарубежный рэп с матерными битами. Я быстренько перелистнула. Потом еще. Искала что-то менее агрессивное. В итоге включила просто ритмичный инди-поп.
Музыка заполнила пространство. Он не поморщился, только слегка постучал пальцами по рулю в такт. Это был прогресс.
– А куда груз везем? – спросила я, чувствуя, что обязана поддержать этот хрупкий диалог.
– Во Владивосток. Запчасти какие-то. А оттуда заберем морепродукты, рыбу.
На обратную дорогу.
«Морепродукты. Владивосток». Эти слова звучали так же нереально, как «полет на Марс», а для него это была просто работа.
Я посмотрела на его руки, лежащие на руле. Крупные, с потертыми костяшками, с засохшей царапиной. Руки, которые десять лет крутили этот руль, чтобы у меня были эти дурацкие яблоки, новый телефон и будущее, о котором он, похоже,
все-таки думал.
Внезапно мне стало стыдно за свой утренний ролик. Стыдно до тошноты.
Я достала телефон и открыла свой канал. Ролик «Мой папа-инкогнито» уже собрал десятки лайков и комментариев: «Жги, Сонь!», «Обзаведусь попкорном», «Ржака, кошелек с ногами».
Я нажала на три точки и выбрала «Удалить».
Он ничего не заметил. Он просто вел свою фуру на Восток, в очередной раз.
Но впервые – не один. А я сидела рядом и смотрела на его профиль, пытаясь разгадать загадку человека, который был мне чужим, но почему-то помнил,
что я любила зеленые яблоки. И этот простой факт казался сейчас важнее всех подписчиков в мире.
Удаление ролика стало маленьким личным землетрясением. Я словно стерла не просто видео, а ту защитную стену, которую выстраивала все эти годы. Теперь
в башне, откуда я стреляла в него сарказмом, зияла брешь. И было одновременно страшно и… легче.
Музыка играла, а я смотрела на его руки. Я всегда думала, что работа дальнобойщика – это просто сидеть и крутить баранку. Но сейчас я заметила, как его пальцы постоянно в движении: легкое касание рычага указателя поворота, подстройка зеркал, едва заметное подрагивание на кочках. Эти руки не просто вели машину – они чувствовали ее, как живое существо. Десять лет. Тысячи километров. Один.
– Тебе не скучно? – снова сорвалось у меня. На этот раз без вызова.
Просто из любопытства.
Он на секунду отвел взгляд от дороги, удивленно взглянул на меня.
– Привык, – пожал он плечами. Потом подумал и добавил: – Иногда аудиокниги слушаю. Или… ну, думаю.
– О чем? – мне вдруг страшно захотелось знать.
Он снова замолчал, и я уже решила, что перешла какую-то невидимую черту.
Но он ответил:
– Да обо всем. Как груз довезти без приключений. Как дома там… у вас.
Как отремонтировать балкон к лету. Обычное.
«Обычное». Для него «обычное» – это думать о нашем балконе, находясь за тысячу километров. Эта мысль обожгла меня. Я всегда представляла его в дороге пустым, как спящий режим на телефоне. А он там… жил. Думал о нас.
– А о чем ты думаешь? – неожиданно спросил он, и я от неожиданности вздрогнула.
«О том, какой ты чужой. О том, как поднять просмотры. О том, что я, кажется, совершила огромную ошибку, начав этот дурацкий канал». Но вслух я сказала:
– О том, что… неожиданно просторно тут у тебя.
Он хмыкнул. Это был почти что смех.
– Это да. Мой второй дом. Иногда кажется, что я тут провожу больше времени, чем в настоящем.
В его голосе не было жалости. Простая констатация факта.
От этого стало еще горше.
Мы проезжали мимо придорожного кафе. Там стояло еще несколько фур, блестя на солнце, как огромные железные жуки.
– Можно остановиться? Я в туалет, – попросила я.
Он кивнул и плавно свернул на запыленную парковку. Когда он заглушил двигатель, наступила оглушительная тишина, которую раньше заполнял гул мотора.
Пока я шла к убогой кабинке с изображением загадочной дамы в кринолине,
я видела, как он подошел к другой фуре и поздоровался с таким же, как он, мужиком в рабочей спецовке. Они о чем-то коротко поговорили, перекинулись парой фраз. И в его осанке, в расслабленных плечах, я увидела того человека, которым он был здесь, в своей стихии. Уверенного, своего. Не того неловкого гостя, который приезжал к нам домой.
Когда я вернулась, он стоял у нашей фуры и пил воду из пластиковой бутылки.
– Все в порядке? – спросил он.
– Да, – кивнула я. – А мы надолго тут?
– Нет, минут пятнадцать. Отдохнуть немного, размяться. Водителям нельзя долго без перерыва. Правила.
Он сказал это с такой серьезностью, будто читал лекцию по технике безопасности. Мне снова стало смешно, но на этот раз – тепло.
Мы залезли обратно в кабину. Перед тем как тронуться, он полез в свой бардачок и достал оттуда две шоколадки.
– Держи, – протянул он одну мне. – Для энергии.
Я взяла. «Сникерс». Мой любимый. Или он был моим любимым в пять лет? Я уже и сама не помнила.
– Спасибо, – сказала я, разворачивая обертку.
Он кивнул, завел двигатель, и гул снова заполнил пространство, но на этот раз он не казался таким враждебным. Он был просто фоном. Фоном для нашего молчаливого перемирия.
Я откусила шоколад и смотрела, как за окном проплывают поля. Я не снимала больше роликов. Я даже не доставала телефон. Я просто ехала. А рядом, в сантиметрах от меня, ехал мой отец. Чужой человек, который помнил про мои яблоки и шоколадки. И, возможно, про балкон.
И этот клочок общего прошлого, хрупкий, как шоколадная обертка, вдруг стал для меня важнее всего остального. Поездка только началась, но я уже понимала – что-то пошло не по плану. Или, наоборот, наконец-то пошло по-настоящему.
Шоколад растаял во рту, оставив сладкое послевкусие и чувство легкой вины.
Я скомкала обертку и задумалась, куда ее деть. В салоне царила почти стерильная чистота, выкидывать мусор куда попало казалось кощунством.
Он заметил мои метания и молча протянул руку. Я отдала ему смятый бумажку.
Он аккуратно положил его в маленький пакетик, висевший на ручке КПП. Весь его быт здесь был продуман до мелочей. Выверен годами одиночества.
Мы снова ехали молча, но теперь тишина была другой. Не враждебной, а… задумчивой. Я ловила себя на том, что не просто смотрю в окно, а пытаюсь увидеть дорогу его глазами. Бесконечную ленту асфальта, однообразные поля, редкие придорожные столбы. Что он думал, глядя на это год за годом?
– А тебя не заносит зимой? – снова спросила я, сама удивляясь своему внезапному интересу.
– Бывает, – он снова слегка вздрогнул, будто привык, что вопросы – это лишь формальность. – Черная полоса, гололед… Главное – не тормозить резко и не крутить руль. Плавно… Как на льду катаешься, помнишь?
Я не помнила. Я не помнила, чтобы он вообще когда-либо меня катал, но кивнула.
– В общем, страшно только первые разы, – заключил он. – Потом привыкаешь. Ко всему привыкаешь.
В этих словах было столько горькой правды, что мне стало не по себе. Он привык
к одиночеству. К опасности. К тому, что его дом – это шесть квадратных метров кабины.
Я заметила, что он каждый раз перед обгоном фургонов или встречных машин слегка напрягается. Его пальцы крепче сжимали руль, взгляд становился острее. Это была не просто езда. Это была постоянная концентрация. Мой папа-«кошелек» на самом деле был пилотом огромного, неуклюжего звездолета, везущего свой груз через бесконечность.
– Хочешь, я тебе про фуры расскажу? – неожиданно предложил он. – А то тебе, наверное, скучно.
В его голосе прозвучала та же неуверенная нота, что и у меня, когда я пыталась заговорить. Он тоже старался. Изо всех сил.
– Давай, – ответила я, откладывая телефон.
И он понеслось. О мостах, о тоннаже, о том, как «спальник» устроен, и почему важно иметь с собой запасную лампочку. Он говорил немного сумбурно, сбивчиво, но с искоркой в глазах, которую я видела впервые. Он рассказывал о своем мире, и этот мир оказался сложным, полным своих правил и опасностей.
– …а однажды под Красноярском, – увлекся он, – медведь вышел на трассу. Ночью. Стоит, смотрит. А я как раз…
Он вдруг замолк, смущенно хмыкнул.
– Да что я тебе про медведей… Тебе, наверное, неинтересно.
– Интересно! – вырвалось у меня искренне, потому что это был он. Настоящий. Не тот молчаливый мужчина на кухне, а человек с историями. Пусть и про медведей.
Он снова начал рассказывать, и я слушала, глядя на его руки, которые жестикулировали, показывая размеры зверя. Эти руки водили фуру, разворачивали ее на узких улочках, чинили в полевых условиях. Они были сильными. И они приносили мне «Сникерсы» и яблоки.
Солнце начало клониться к горизонту, заливая кабину теплым оранжевым светом. Я достала телефон. Не для съемки, а просто чтобы проверить время. И увидела сообщение от мамы: «Как вы? Не ругаетесь?»
Я посмотрела на отца. Он, закончив рассказ, снова сосредоточился на дороге, но на его лице застыло какое-то новое, более спокойное выражение.
Я ответила маме: «Пока едем. Все ок».
Это была не совсем правда. Все было не «ок». Все было… по-другому. Всего за один день образ отца-«кошелька» дал трещину. А сквозь нее проглядывало что-то настоящее, живое и очень уставшее.
Первый день подходил к концу. Мы еще не были близки. Мы все еще были чужими. Но гигантская фура, несущая нас через всю страну, везла теперь не просто дочь и отца. Она везла два одиноких острова, которые совершили первый, робкий шаг навстречу друг другу. И этот шаг оказался куда страшнее и важнее, чем все мои язвительные ролики.
Глава 2. Москва – Стена непонимания
Первая ночь в придорожной гостинице прошла в гробовой тишине. Мы заняли два номера, и это было самым разумным решением за последние сутки. Утром, за завтраком в пустом зале с липкими столиками, он осторожно спросил:
– Ну как, поспала?
– Нормально, – буркнула я, разглядывая подозрительный омлет.
Больше мы не говорили ни слова.
Теперь мы объезжали Москву по кольцевой. Казалось, гигантский мегаполис, этот символ суеты и жизни, должен был как-то встряхнуть нашу унылую атмосферу, но нет. Стоя в пробке, мы молча смотрели на вереницу машин. Я – в свое окно, он – в свое. Вчерашнее хрупкое перемирие рассыпалось в прах, как истлевшая резина.
И именно в этот момент он решил снова заговорить.
– Сонь… – начал он, и по тону я сразу поняла – будет неприятно. – Мама говорила, что у тебя в четверти вышла четверка по алгебре.
Внутри у меня все съежилось. Вот он, тот самый родительский «дженга» – неверное движение, и вся хрупкая конструкция общения рухнет.
– Тройка, – уточнила я, намеренно огрубляя голос. – Почти двойка.
Еле вытянули.
Он промолчал секунду, переваривая. Я видела, как сжались его пальцы на руле.
– Как так? Ты же в прошлом году… математику хорошо щелкала.
– В прошлом году я в пятом классе была! – огрызнулась я. – Сейчас все сложнее, и учительница дура.
– Не учительница дура, а ты… – он искал слова, и они были такими ужасно знакомыми, такими шаблонными, что меня затрясло. – Надо стараться. Сидеть, решать, а не в телефоне целыми днями торчать.
Это было последней каплей. Та самая фраза, которую я ненавидела больше всего на свете.
– А что мне еще делать? – голос мой дрожал от ярости. – Телефон у меня всегда со мной. В отличие от кого-то!
В кабине повисла тяжелая, густая тишина. Он побледнел. Я сказала это.
Я выстрелила в него самым больным, самым низким патроном, который у меня был.
– Я работаю, – тихо, но очень твердо произнес он. – Чтобы у тебя все было. Чтобы ты ни в чем не нуждалась.
– Да мне твои деньги не нужны! – выкрикнула я, и голос сорвался на визг. – Мне нужен… Мне нужно… чтобы ты просто был! Хотя бы иногда! Чтобы пришел в школу, когда меня вызывают из-за этой дурацкой алгебры! А не чтобы мама одна краснела!
Слезы подступили к горлу, жгучие и предательские. Я отвернулась к окну, чтобы он их не видел. Я ненавидела себя за эти слезы. Ненавидела его за то, что он их вызвал.
– Ты должна понимать… – снова начал он, и это «должна» добило меня окончательно.
– Я НИЧЕГО тебе не должна! – прошипела я, глотая слезы. – Это ТЫ мне должен! Должен был быть рядом! А ты просто скидываешь деньги, как будто это плата за то, что тебя нет!
Он больше ничего не сказал. Просто сжал челюсти. Его лицо стало каменным.
Мы проехали еще минут двадцать в абсолютной тишине, пока я давилась комом
в горле и смахивала предательские капли с щек. Когда он свернул на заправку
и ушел оплачивать топливо, я, все еще трясясь от злости, с яростью вытащила телефон.
Новый ролик для канала «Дальнобой по принуждению». День второй.
Я включила камеру. Мое лицо было красным, заплаканным, волосы растрепаны.
– Всем привет, – прохрипела я, пытаясь говорить шепотом, но сквозь зубы. – Наш диалог с «кошельком» продолжается. Только что получила ценный урок жизни. Оказывается, чтобы получать пятерки, не нужен отец рядом. Нужно просто «стараться». А его зарплата, видите ли, с неба падает, прямо в карман.
И за нее я должна быть бесконечно благодарна.
Я перевела камеру на его пустое место, на чашку с недопитым кофе.
– Он думает, что я должна быть благодарна за его отсутствие? Что эти деньги
как-то заменят то, что он не пришел ни на один мой день рождения, когда я была маленькой? Пятерки с неба не падают, как его зарплата! Они даются, когда тебе помогают. Когда есть поддержка, а у меня ее НЕТ!
Голос снова сломался. Я выругалась про себя и закончила запись. Выложила. Почти сразу посыпались комментарии. «Держись, Сонь!», «Родители не меняются», «Как я тебя понимаю…».
Но привычного чувства удовлетворения не было. Была только пустота и горький осадок на душе. Я выиграла этот раунд. Я больно уколола его, но почему же тогда мне было так паршиво?
Он вернулся в кабину. От него пахло бензином и холодным воздухом. Он молча протянул мне шоколадный батончик и бутылку воды. Тот самый «Сникерс». Этот простой, дурацкий жест ранил меня больнее, чем любые слова.
Я взяла батончик, но не стала его разворачивать. Просто сжала в руке, чувствуя, как шоколад тает от тепла ладони. Он завел двигатель, и мы снова выехали на трассу. Стена между нами выросла снова – еще выше, еще толще, чем в первый день. Она была сложена из моих обид и его молчаливого упрека. Мы снова стали чужими. Но теперь я знала, что под его каменной маской что-то есть.
И, возможно, под моей злостью – тоже.
Мы ехали дальше, и Москва оставалась позади – огромный, равнодушный свидетель нашего сражения, в котором не могло быть победителей.
Мы миновали вывески с названиями подмосковных городов.
Казалось, даже пейзаж за окном помрачнел вместе с нашим настроением.
Я развернула батончик и отломила кусок. Он был безвкусным, как картон.
Яд моих собственных слов отравлял все вокруг.
Он не пытался больше говорить. Просто смотрел на дорогу, но я видела, как напряжена его шея, как часто он стал поправлять зеркало заднего вида, просто, чтобы занять руки. Я причинила ему боль. И часть меня – та, что выложила тот мерзкий ролик, ликовала. Но другая, большая часть, сжималась в комок стыда.
Тайный пост в черновиках. Не для публикации.
«А что, если он прав? Что если я просто ищу оправдание своим тройкам? Легко же винить во всем его отсутствие. А если бы он был рядом… уверена ли я, что стала бы отличницей?»
Я писала это не для подписчиков. Я пыталась разобраться в самой себе. И это было в тысячу раз сложнее, чем просто злиться на него.
Внезапно он резко свернул на дорогу-дублер, съехал на грунтовку и заглушил двигатель. Мы оказались на пустыре на окраине какого-то городка.
Вид был унылый: ржавые гаражи, покосившийся забор.
– Что такое? – спросила я, испуганная его внезапным маневром.
– Подожди, – коротко бросил он и вышел из кабины.
Я видела, как он отошел на несколько метров, достал пачку сигарет и закурил, повернувшись ко мне спиной. Его плечи были подняты к ушам. Он не просто нервничал. Он был взбешен. И, похоже, давал себе время остыть, чтобы не наговорить лишнего. Впервые я увидела его не как раздражительного родителя, а как взрослого человека, который пытается справиться с гневом.
И в этом было что-то… уважительное.
Он вернулся через пять минут. Пахло дымом и холодом.
– Прости, – сказал он, садясь на место. Не «извини», а именно «прости». – Не надо было лезть с советами. Я… я не в курсе, как у вас там сейчас в школе.
Это было самое неожиданное, что он мог сказать. Я приготовилась к ответной атаке, к упрекам, а получила… капитуляцию?
– Да я… тоже погорячилась, – пробормотала я, глядя на свои колени.
Он глубоко вздохнул.
– Я не знаю, как по-другому, Соня. – Он говорил тихо, глядя на руль. – Для моего отца хорошие оценки – это было все, потому что без них – ПТУ и завод. А я хотел для тебя… чего-то большего. И мне казалось, что лучшее, что я могу сделать – это обеспечить тебе тыл. Деньгами, чтобы ты училась, а не думала, где их взять.
Он не оправдывался. Он объяснял. И кусочки пазла в моей голове начали складываться в другую картинку. Не оправдание, а понимание.
– Мне не нужны заводы и ПТУ, пап, – тихо сказала я. Впервые за долгие годы назвав его так. – Сейчас другое время.
– Я вижу, – он кивнул. – Я просто… боюсь что-то упустить. И уже, наверное, упустил.
В этих словах было столько горького осознания, что у меня снова запершило
в горле. Мы сидели в гробовой тишине, но теперь она была не враждебной,
а общей. Тяжелой, но общей.
– Ладно, – он выдохнул и завел мотор. – Давай дальше поедем. Обещать не буду, что не буду лезть. Но… буду стараться поменьше.
– Я тоже, – прошептала я.
Мы снова выехали на трассу. Я взяла телефон, зашла в свой канал и удалила тот гневный ролик. Потом открыла черновик, который писала себе, и добавила в него еще одну строчку:
«Может быть, он не прав, но он пытается. Так же, как и я. И, кажется, это все, что имеет значение прямо сейчас».
Стена не рухнула, но в ней появилась первая, едва заметная трещина. И сквозь нее пробивался свет.
Мы ехали еще час, и молчание наше было уже не колючим, а задумчивым, будто мы оба переваривали сказанное. Я смотрела на его затылок и думала о том, какую огромную силу воли ему нужно было иметь, чтобы не накричать в ответ, а выйти и остыть. Мой собственный гнев, такой яркий и взрывной, казался теперь детской истерикой по сравнению с его взрослой, тяжелой сдержанностью.