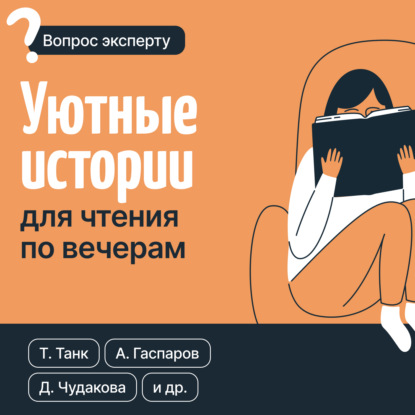Мой нож – мои правила

- -
- 100%
- +

Пролог. Два мира – один ад
Кончилась смена. От запаха дешевого масла, что впитался в кожу и волосы, не сбежать. Он въелся намертво. Как клеймо. Смываю с рук жирную копоть, вода ледяная, но это даже кстати. Остужает тупую, знакомую злость, что копится за день. Со мной так всегда – сначала злюсь, потом отключаюсь. Проще ничего не чувствовать. Достаю телефон. Экран весь в паутинке, но работает. Запускаю сохраненное видео. Снова и снова.
Там – он. Мишленовский шеф. Его кухня – сияющий храм, а не наша закопченная конура. Его движения – это идеальный танец. Ни одного лишнего. Ни одной дрожи. Нож в его руке – это продолжение мысли. Он режет не овощи, он создает искусство.
А я? Я просто выживаю. Моя мечта – смотреть на это видео. Она где-то там, за толстенным бронированным стеклом. До нее – как до луны. Не то что рукой – в телескоп не достать. Иногда кажется, что я вот-вот сорвусь, швырну этот гребаный телефон о стену и навсегда забуду эту дурацкую сказку.
А где-то прямо сейчас она. Люба. Дочь того самого ресторатора, чьи фото в глянцевых журналах.
Вот она, наверное, скользит по паркету своей огромной, пустой квартиры.
Ворочает носом гордым перед зеркалом, примеряя очередное платье. Шелковое, наверное. Безделушка за стоимость моей годовой стипендии. Прислали из бутика. С курьером. Вместо того, чтобы привезти самому. Вместо того, чтобы просто спросить: «Как ты?»
И знаешь, в чем прикол? Разницы – никакой.
Мы оба в своих банках. За стеклом. Только моя склеена из говна и палок, а ее – литая, золотая, с бриллиантами по краям.
Но суть-то одна. Мы оба в одиночестве. Я – потому что меня никто не хотел. Она – потому что те, кто должен был хотеть, просто откупаются.
Я злюсь и молчу. Она носит маску королевы и молчит. И оба мы смотрим в свои экраны, пытаясь разглядеть в них хоть каплю того самого, настоящего, что должно быть у всех. Какой-то теплоты. Какого-то дома.
Два мира. Ад – он, оказывается, бывает разный, но от этого не легче.
Глава 1. Моя кухня. Мои войны
Проснулся от духоты. Восемь мужиков в одной комнате – это вам не курорт. Воздух спертый, пахнет потом, носками и вчерашней доширачкой.
Райское благоухание.
Я уже привык, даже как-то родно. Потянулся, кости хрустнули. Первая мысль, как всегда – где сегодня подработаю. Вторая – надо бы носки постирать.
Третья отшибает все остальные: выдержу ли сегодня?
Общага – мой форт-пост. Моя крепость. Здесь свои правила. Здесь я не сирота Волков, я просто Антон. Тот, кто может и постебануть, и последнюю рубашку отдать. Ну, если попросят, а просить тут не любят. Мы все тут немножко волки-одиночки, со своими ранами и фантомными болями.
– Волков, вставай, а то опозоришь нас на кухне, – донесся с верхней полки хриплый голос Степана. Он у нас старший, лет двадцать пять, уже почти выпустился. Днем учится на сварщика, ночью – сторожем подрабатывает.
Спит урывками.
– Да не опозорю, – буркнул я, сползая с кровати. Пол холодный, линолеум потрескался. – Я ж гений, меня не понять вашим смертным разумам.
– Гений-недоделанный, – фыркнул кто-то из угла.
Я послал его куда подальше, но беззлобно. Так, по-своему. Здесь все так. Это наш язык – матерный, колючий, но честный. Никаких тебе «дорогих» и «милых».
Максимум – «эй, ты, одумайся».
Умывальник в конце коридора. Очередь. Вода, как всегда, то ледяная, то чуть теплая. Бриться – мучение, но надо. На кухне – чистота. Первое и главное правило. Впилось в подкорку еще в детдоме. «Чистота – не для гостьи, чистота – для твоего же выживания, Волков». Так тетя Люда, наша повариха, говаривала. Я тогда еще маленький был, но запомнил. Она мне ножик свой первый доверила – старенький, затупленный, но свой. Я его чуть ли не под подушкой потом хранил. Казалось, он меня защищает.
В столовой общаги – каша. Манная. Комками. Я ее есть не стал. Выпил чай, терпкий, как отрава. Ждет меня сегодня настоящая еда. Вернее, битва за нее.
Училище. Дорога знакомая, каждый шаг. Мимо завода, через грязный пустырь, где пацаны футбол гоняют, мимо ларек с шаурмой, от которой пахнеттак божественно, что слюнки текут. Я бы мог там есть каждый день, но денег жалко. Лучше отложу. На свой ресторан. Смешно? Да. Но если не верить в эту хрень, то можно с ума сойти с голодухи.
Вот и он, мой «Хогвартс». Техникум кулинарного мастерства. Вывеска облезлая.
Из окон несет то жареной картошкой, то пригоревшим молоком.
Для меня это – запах дома, того, который я сам себе выбрал.
Раздевалка. Гвалт. Переодеваюсь в форму. Хлопок, белый, уже не первый год, но чистый. Для меня это как доспехи. Надел – и ты уже не просто Антон, ты – повар. Пусть пока только ученик.
И вот она – моя святыня. Моя война. Учебная кухня.
Десять плит. Десять моек. Десять разделочных досок. И запах… Запах свежего укропа, лука, мяса. Запах возможностей. Я делаю глубокий вдох. Здесь я король. Здесь я все могу.
Сегодня – основы. Суп. Казалось бы, что проще? Свари воду, кинь овощей. Ан нет. Основа основ. Бульон.
Наш препод, Иван Васильевич, ходит между рядами. Мужик под шестьдесят, лицо как хороший бифштекс – обветренное, потрескавшееся, но с добрыми глазами.
Но добрыми – только до первой ошибки. Он старой закалки. Прошел все кухни Союза. Для него повар – это не тот, кто рецепт выучил. Это тот, кто чувствует.
– Волков! – раздается его голос за моей спиной. – Опять ты как кот наплакал соли положил! По рецепту надо три грамма на литр! Где твои три грамма?
Я не оборачиваюсь. Помешиваю свой бульон. Он прозрачный, золотистый, на поверхности – едва заметные глазки жира.
– Иван Васильевич, я же чувствую, – говорю я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. – Здесь и трех много будет. Морковка сладкая, сельдерей дает свою соль.
Вот сейчас попробую…
– Я тебе дал рецепт! – он подходит ближе. – В рецепте написано – три грамма! Ты кто такой, чтобы рецепт менять? Ты же даже родителей своих не уберег, а туда же – умничать!
Тишина. На кухне слышно, как муха пролетит. Все замерли. Ножи застыли в воздухе. Удар ниже пояса. Самый грязный прием. Он всегда так, когда аргументы заканчиваются. Бьет по больному. По самому главному.
У меня внутри все сжимается в комок. Горячая волна подкатывает к горлу. Хочется развернуться и вмазать ему. В его умное, налитое кровью лицо. Сказать, что его рецепты – дерьмо собачье. Что он сам – старый хрыч, который боится, что его обойдут.
Но я не срываюсь. Я закусываю губу до крови. Вкус железа во рту. Детдом научил – доверяй только инстинктам. И терпи. Всегда терпи, если противник сильнее.
Дождись своего часа.
Я медленно выдыхаю. Поворачиваюсь к нему. Смотрю прямо в глаза.
– Вам ложку принести, Иван Васильевич? – голос у меня ровный, стальной. – Попробуйте. Если невкусно – я весь суп сам съем. Без хлеба.
Он смотрит на меня. Глаза колют. Он ненавидит мое спокойствие. Ненавидит, что я не лежу у него на коврике у двери, не виляю хвостом.
– Ложку! – командует он.
Приносят. Он зачерпывает мой бульон, дует, пробует. Долго молчит.
Лицо не меняется. Потом плюет в раковину.
– Пересолено! – рявкает он. – Выплеснуть! И сделать заново! По рецепту!
Врун. Ведь не пересолено. Я знаю. Он знает. Все вокруг знают, но он не может сдаться. Не может признать, что у какого-то сироты из детдома может быть нюх лучше, чем у него с его сорокалетним стажем.
– Хорошо, Иван Васильевич, – говорю я тихо. – Сделаю. По рецепту.
Я подхожу к своей кастрюле. Беру ее. Иду к мойке. Выливаю свой золотистый, прозрачный, идеальный бульон в раковину. Он уходит в слив с тихим шепотом.
Как будто плачет.
Стою, смотрю на пустую кастрюлю. Руки сами сжимаются в кулаки. Я проиграл этот раунд, но не войну.
Сзади слышу шепот. Одногруппники.
– Сирота же, с детдомовским характером…– Ну и зачем уперся? Надо было просто посолить, как все… – Да он всегда такой, выпендрежник…
Слово «сирота» режет ухо. Оно всегда резало. Как будто я не человек, а какой-то диагноз. «Сирота Волков». Без рода, без племени. Чужой.
Я резко оборачиваюсь. Глаза, наверное, горят. Все сразу отворачиваются, делают вид, что очень заняты.
– Что? – шиплю я. – Есть что сказать? В лицо скажите.
Молчат. Трусы.
Я возвращаюсь к плите. Включаю воду. Набираю новую кастрюлю. Буду варить по рецепту. Безвкусное, пересоленное варево. Как у всех.
Но я знаю, что я прав. Я чувствую это кожей. Нюхом. Языком. Я не по рецептам работаю. Я по нюху, потому что рецепты могут потеряться, а нюх – никогда.
Он всегда со мной. Он мой. Как мой нож, который я бережно достаю из чехла. Старый, верный, острый.
Я провожу пальцем по лезвию. Идет идеальная линия.
Он мой. И мои правила. Когда-нибудь они все это поймут.
Вода в кастрюле закипела. Я бросил в нее новый набор овощей – стандартный набор, вымеренный до грамма. Морковка, лук, корень петрушки. Без души.
Без какой-либо своей задумки. Просто – по рецепту. Руки делали свое дело автоматически, а голова была где-то далеко.
«Сирота». Это слово гудело в висках, как навязчивый мотив. Оно всегда выскакивало, как черт из табакерки, в самый неподходящий момент. В столовой, когда кто-то делился, что мама пирожков надавала. В раздевалке, когда все болтали о поездках с родителями на море. Даже здесь, на кухне, где, казалось бы, все мы равны перед лицом жарящегося стейка.
Я не помнил родителей. Только обрывки, как вспышки света в темноте.
Запах папиного одеколона – резкий, табачный. И мамины руки – теплые, в муке. Она тоже готовила. Мы жили в маленькой квартирке, но на кухне у нас всегда пахло чем-то вкусным. Потом этот запах сменился на больничный, резкий и чужой. Потом – на запах детдома: казенной каши, хлорки и чужих тел.
Детдом научил меня главному – не ждать. Не ждать, что тебя накормят.
Не ждать, что тебя пожалеют. Не ждать, что придет кто-то и все исправит. Если ты хочешь есть – умей урвать. Если хочешь, чтобы тебя оставили в покое – умей дать сдачи. Если хочешь тепла – ну… тепла там было не особо.
Я научился обходиться без него. Заменил его жаром плиты.
Иван Васильевич прошелся мимо, бросил взгляд на мою кастрюлю.
Удовлетворенно хмыкнул. Мол, вот теперь все как у людей. Меня от этого
хмыкания передернуло. «Как у людей». А я разве не человек? Или люди – это только те, у кого есть мама с папой, кто справляется соль по учебнику?
Рядом возился Санёк, парень с нашего курса. Румяный, добродушный, из обычной семьи. Он на меня косился.
– Антон, да ладно тебе, – прошептал он, пока препод отошел. – Не кипятись. Всегда ты один против всех лезешь.
– Я не против всех, – проворчал я, с силой резая морковку. Она разлеталась на идеальные, ровные кружочки. – Я за правильный вкус. Он свой протухлый бульон за правильный выдает.
– Ну, может, и так, – Санёк вздохнул. – Но начальник он. С начальником не спорят.
– Начальник, – я фыркнул. – На кухне начальник – тот, кто вкусно готовит, а не тот, у кого бумажка с печатью.
Санёк покачал головой, отошел. Он меня не понимал. И слава богу. Значит, его жизнь была нормальной. Ему не надо было доказывать каждую секунду, что ты имеешь право на свое мнение. Свое место под солнцем. Свой кусок мяса.
Я долил воды, бросил соли. Ровно три грамма. Бульон получился мутноватый, безжизненный. Я пробовать не стал. И так знал, что он – ничего. Пустой. Как и все, что делается без души.
Звонок на перерыв оказался спасением. Я выскочил во двор, закурил. Сигарета горько вкусно щипала легкие. Успокаивала нервы. От группы я держался особняком. Они кучковались у входа, болтали о чем-то своем – о тусовках, о девчонках, о новых телефонах. Я стоял поодаль, слушал обрывки фраз.
– А мы с мамой в театр сходили, она говорит, надо культурно развиваться…– А мне папа новую тачку купил, на прошлых выходных катались…
Я затягивался глубже. Мне было не до них. Мои мысли были там, на кухне, у раковины, в которую утек мой идеальный бульон. Это была не просто еда. Это была часть меня. Моего понимания мира. И ее выплеснули, как помои.
Ко мне подошел только Санёк. Протянул шоколадку.
– На, подкрепись. Вид у тебя голодный.
Я кивнул, взял. Не потому, что был вежливым. А потому, что правда был голоден. Денег на нормальный обед не было.
– Спасибо, – буркнул я.
– Не за что. Слушай, а ты прав, наверное, – негромко сказал Санёк. —
С бульоном. Я свой попробовал – как травой пропах. А твой пахнул… ну, как из детства. Настоящий.
Я посмотрел на него с удивлением. Не ожидал.
– Да? – сказал я глупо.
– Ага. Но Иван Васильевич – он старый пердун. Ему главное – чтобы по уставу.
Ты уж не кипятись. Ты талантливый.
Талантливый. Это слово я слышал от тети Люды в детдоме. И от еще пары людей. Оно всегда казалось мне каким-то чужим, не про меня. Талант – это что-то божественное, данное свыше. А у меня не дар свыше. У меня – упрямство. Желание выжить. И нюх. Просто нюх.
– Таланты тут ни при чем, – отмахнулся я. – Просто надо головой думать и языком.
– Ну, тебе легко говорить, – Санёк вздохнул. – У тебя, видно, это в крови.
В крови. Интересно, что у меня было в крови? Гены какого-то забытого повара? Или просто гены выживальщика? Человека, который из любой дряни может сделать съедобную штуку.
Звонок с перерыва. Пора было возвращаться на каторгу. Я затушил окурок, побросал бычок в урну. Санёк потопал за остальными. Я задержался на секунду, глядя на унылый фасад училища. Моя тюрьма. Моя крепость. Мой единственный шанс.
На вторую половину пары Иван Васильевич был спокоен. Довольный собой.
Он добился своего – все варили бездушную бурду по рецепту. Мир был в гармонии. А я притих. Сделал вид, что смирился. Резал овощи для салата. Тонко, мелко, идеально. Довел до автоматизма. Руки сами знали, что делать, а голова была занята другим.
Я думал о том, что я не сирота. Нет. У меня есть семья. Это – нож в моей руке.
Это – плита, что шипит и пышет жаром. Это – запахи, что кружатся под потолком. Они меня не предадут. Не обидят. Не назовут лишним.
И однажды я заставлю всех это понять. Я стану лучшим. Не ради званий, не ради денег. Ради того, чтобы больше никто и никогда не посмел вылить мой бульон в раковину, чтобы мое слово на кухне стало законом.
Чтобы это прозвучало громко и четко, без всяких сомнений: «Мой нож. Мои правила».
Последний звонок прозвенел, как освобождение. Я скинул форму, сунул нож в чехол. Он был моим самым ценным имуществом. Куплен на первые же подработки. Не идеальный, но – мой.
На выходе Иван Васильевич остановил меня взглядом.
– Волков. Задержишься. Помоешь плиты.
Это было наказание. Последнее унижение, чтобы я знал свое место.
Я молча кивнул. Все остальные ушли, торопясь по своим делам. Я остался один в пустой, пропахшей едой и усталостью кухне.
Включил воду. Взял тряпку. И принялся тереть раковину. Ярость, которую я копил весь день, выплеснулась в эти движения. Я тер так, будто хотел стереть сам верхний слой нержавейки. Стереть все насмешки. Все унизительные взгляды.
Все эти «сироты».
Потом я отключил воду. Повис на руках над мойкой, запыхавшийся.
В тишине было слышно мое собственное дыхание.
Тихо. Пусто. Один.
Я выпрямился, вытер руки о брюки. Достал из кармана тот самый, спасенный с утра, кусок шоколада от Санька. Разломил его. Положил в рот. Он был сладкий. Горьковато-сладкий.
Я посмотрел на чистую, блестящую плиту. На свои отражение в ней – искаженное, уставшее.
– Ничего, – сказал я сам себе тихо, но четко. – Ничего. Еще не вечер.
Еще не конец.
Я погасил свет и вышел, захлопнув за собой дверь. Впереди была ночь. Подработка в той самой забегаловке, пахнущей дешевым маслом. Но это была моя война и мой выбор.
И никто, черт возьми, не мог этого у меня отнять.
Вечерняя смена в "Блинчике" – это ад с запахом перегоревшего масла и вечно недовольными клиентами, но это деньги. Небольшие, но наличные. И главное – тут меня никто не трогает. Не учит жить. Не тычет в нос моим прошлым.
Я влетел в заведение, едва успев переодеться в засаленную футболку с каким-то идиотским слоганом. Мой второй дом. Или вторая тюрьма – как посмотреть.
– Волков, ты опять! – крикнул из-за гриля Борис, хозяин и главный тиран этого места. – Шевелись, народ голодный, а ты копаешься как рак!
Борис – мужик под пятьдесят, с лицом, на котором вечно написано, что он всех ненавидит, но ко мне он относился… терпимо, потому что я работал быстро, не ныл и не воровал из кассы. В его мире это было высшей похвалой.
– Уже шевелюсь, – буркнул я, на ходу завязывая фартук. – Гриль чистил хоть раз за сегодня?
– Не умничай! На котлеты встал, да поживее!
Я встал к раскаленной плите. Две сковороды, противень в духовке. Нужно было одновременно жарить котлеты, лук для них и следить, чтобы не подгорели блинчики. Танец с саблями, но я его знал наизусть.
Руки сами делали свое дело. Переворачивал, солил, помешивал. Мозг отключился. Остались только рефлексы. Запах жареного мяса и лука забивал все остальные
Запахи, даже запах моей усталости.
Здесь, у плиты, я был нужен. Здесь мое слово было законом. Пусть законом для котлет, но все же.
– Две с двойным сыром и один вегетарианский! – донеслось из зала.
Вегетарианский. В этом слове была вся ненависть мира. Кто придумал вегетарианские блинчики в забегаловке? Это же издевательство над здравым смыслом.
– Получишь свои опилки, негодяй, – пробормотал я, швыряя на сковородку натертый кабачок.
Работа затянула. Суета, крики, звон посуды, бесконечные заказы. Это был хаос, но упорядоченный. Предсказуемый. В нем было проще, чем в тишине собственных мыслей.
В редкую минуту затишья я прислонился к стене, вытирая лоб. Руки дрожали от усталости. Смотреть на еду уже не хотелось. Хотелось просто лечь и умереть.
– Эй, повар!
Я поднял голову. К окошку подошла парочка подростков. Модные, навороченные. Смотрели на меня свысока.
– У вас тут муха в компоте плавает, – заявил парень, тыча пальцем в стакан.
Я вздохнул. Не первый раз.
– Не муха, – сказал я устало. – Изюм.
– Что? – он наклонился ближе. – Это муха! Я что, слепой?
– Вам заменить или деньги вернуть? – спросил я безразличным тоном. Спорить не было сил.
– Вернуть! И вообще, я пожалуюсь! Где ваш санэпидемстантор?
«Санэпидемстантор». Я еле сдержал улыбку. Ну да. Жалуйся.
– Борис! – крикнул я не оборачиваясь. – Разборки!
Из-за угла появился хозяин, красный от злости.
– Опять что?
– Муха в компоте, – сказал я. – Требуют санэпидемстантора.
Борис посмотрел на парня, потом на стакан. Взял его, залпом выпил, хрустнув на прощание чем-то темным.
– Нету мухи, – мрачно провозгласил он. – Идите отсюда.
Парень побледнел, отступил на шаг и, бормоча что-то, потянул девушку к выходу.
Борис повернулся ко мне.
– Видал? Надо быстрее реагировать. Нечего с ними цацкаться.
– Я не цацкался, – я пожал плечами. – Это был изюм.
– А пофиг! Главное – уверенность. Запомни, Волков: в нашей работе главное – не правда. Главное – чтобы последнее слово осталось за тобой. Всегда.
Он ушел, оставив меня с этой простой и гениальной философией, чтобы последнее слово осталось за тобой. Да. Этому меня в училище не учили.
Смена подходила к концу. Ноги гудели, спина ныла. Я мыл посуду в раковине, смотря как жир и остатки еды сливаются в отверстие. Как мои силы. Как мои мечты.
Зашел Борис, положил на стол несколько купюр.
– За сегодня. Неплохо так подработал.
Я кивнул, сунул деньги в карман. Не считал. Он никогда не обманывал.
– Спасибо.
– Смотри, завтра не опоздай. Утром поставка будет, разгружать надо.
– А я что, грузчик теперь?
– Ты кто скажу, тот и есть, – усмехнулся он. – А теперь вали отсюда. Надоел.
Я вышел на улицу. Ночь была холодной, звездной. Воздух обжигал легкие после раскаленной кухни. Я закурил, вдыхая глубоко. Усталость была приятной, тяжелой, заработанной.
Дорога до общаги казалась бесконечной. Я шагал, уставившись под ноги. В голове крутились обрывки дня. Унизительный бульон. Насмешки. Гриль. Муха в компоте. Деньги в кармане.
В кармане зазвонил телефон. Я вздрогнул. Мало кто мне звонил. Обычно только Санёк по поводу учебы.
Незнакомый номер. Я снял трубку.
– Алло?
– Антон Волков? – женский голос, официальный, холодный.
– Да.
– Вам звонит секретарь ресторана «Палермо». Господин Соколов просил передать, что вы приглашены на стажировку. Завтра в десять утра. Не опаздывайте.
Трубка отключилась.
Я замер посреди темной улицы. Сигарета выпала из рук.
Ресторан «Палермо». Тот самый. Тот, что смотрел на меня с глянцевых фото. Тот, где шеф-повар был богом.
Меня. Пригласили. На стажировку.
Я медленно поднял руку, ущипнул себя за запястье. Больно. Значит, не сплю.
Из груди вырвался странный звук – не то смех, не то рыдание. Я закрыл лицо руками. Потом распрямился, глядя на ночное небо.
– Видал, Иван Васильевич? – прошептал я в пустоту. – А ты говорил – выплеснуть.
Я сунул руки в карманы и пошел быстрее. Усталость как рукой сняло. Вместо нее внутри пело что-то острое, яркое, жгучее.
Завтра. Всего лишь завтра.
Я почти бежал до общаги. Ноги сами несли, сердце колотилось где-то в горле.
«Палермо». Стажировка. Эти слова звенели в голове навязчивым, счастливым мотивом. Я даже не заметил, как влетел в знакомый подъезд, пахнущий сыростью и старым линолеумом.
В комнате было тихо – кто-то уже спал, кто-то смотрел в телефон. Степан с верхней полки бросил на меня одинокий взгляд.
– Чего это ты расплылся как сыр в масле? Выиграл что ли что?
– Лучше, – выдохнул я, скидывая куртку. – Меня… в «Палермо» взяли.
На стажировку.
Тишина стала громкой. Даже парень с наушниками оторвался от экрана.
– В какой «Палермо»? – недоверчиво спросил Степан. – Тот, что в центре?
С мишленовскими звездами?
– Тот самый, – кивнул я, и глупая улыбка сама расползлась по лицу. Сдерживать не было сил.
Сверху послышался свист.
– Ну ты даешь, Волков! – Степан сполз с кровати, хлопнул меня по плечу. – Это ж тебе не в нашей помойке котлеты жарить! Там, слышал, даже мойку посуды пройти – уже удача.
– Я не на мойку, – огрызнулся я, но без злости. – Стажером на кухню.
Вокруг зашептались. Слышалось что-то вроде «повезло сироте» и «наверняка по блату». Но сейчас это отскакивало, как горох от стенки. Плевать. Пусть завидуют.
– Ладно, празднуй, – Степан снова полез на свою полку. – Только смотри, не зазвездись, а то назад в нашу помойку возьмем не всякого.
Я фыркнул, но мысленно с ним согласился. Звездить было некогда и не для чего. Это был шанс. Единственный. И я знал – облажаться нельзя. Никак.
Разделся, пошел умываться. В зеркале на меня смотрел уставший парень с лихорадочным блеском в глазах. Я брызнул в него холодной водой.
– Соберись, Волков, – прошипел я своему отражению. – Там тебя никто ждать не будет.
Лег в кровать, но сон не шел. Под подушкой лежал мой нож в чехле. Я достал его, провел пальцами по шершавой рукоятке. Старый, верный друг.
– Завтра, брат, покажем им, – прошептал я. – Покажем, на что мы способны.
Он лежал тяжелый и настоящий в моей руке. Мой нож. Мои правила.
И завтра это поймут все.