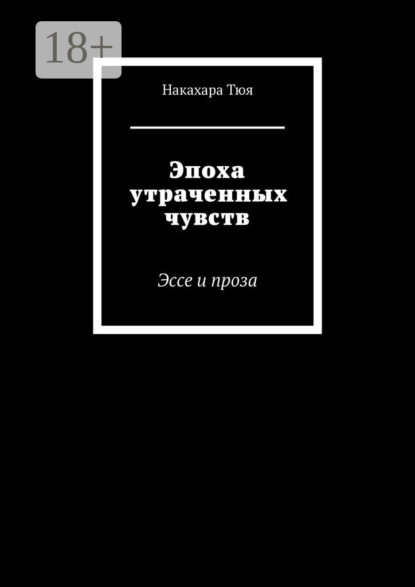- -
- 100%
- +
– Ха-ха, папа, ну ты даёшь! Целлулоид и эбонит – это же разные вещи!
И пробормотать в ответ:
– Да? Ну ладно…
Пока нос недовольно морщится.
V. Вместо эпилога
В конечном счёте всё упирается в чувствительность каждого. Можно сказать: «Чувствительность у каждого своя» – и формально будет правда. Но в реальном мире, где «каждая чувствительность эволюционирует» (или, если угодно, представляет собой подвижный график), всё куда сложнее.
А поскольку «подвижные графики» по определению не поддаются чёткому описанию, человечество, от Адама до наших потомков, в итоге делится просто: на единомышленников и чужаков. Последний же критерий – чисто эмоциональный (не путать с настроением!).
Что же до великих мыслителей – не есть ли они всего лишь жертвы малокровия?
Июнь 1930 г.Писатель и одиночество
Интеллигент бледен. А те, кто успокаивается, едва расплатившись в конце месяца, – полны сил. Вероятно, мир утратил связь с идеей. Люди, которым бы только крыша над головой да хлеб насущный, – даже в кризис – кажутся не столько удручёнными, сколько, пожалуй, бодрее прежнего. И если уж кризис, то им и подавно некогда раскисать – оттого они, само собой, становятся решительнее, чем в годы процветания.
Но интеллигент… интеллигент бледен. Он из тех, кто изначально нуждается в идее, кто не считает «хлебом единым» сытый живот. И чем громче мир кричит: «Кризис! Не до сантиментов!» – тем невыносимее в нём жить интеллигенту. Ведь те самые «прагматики», и без того чуждые высоких материй, теперь и вовсе перестают видеть в них даже забаву.
Нынче идея – ненужный хлам. Взгляните хотя бы на самих интеллигентов: те, кто корпит над мыслью или творчеством, куда бледнее, чем, скажем, лингвисты, бойко торгующие переводами. Когда «прагматики», довольствующиеся малым, становятся ещё напористее от кризиса – а их настроение задаёт тон обществу, – здравый смысл торжествует пуще прежнего. Вот и выходит, что по меркам этого здравого смысла – вроде: «Кто не бодрится, тот не в порядке» – нынешние интеллигенты-творцы «не в порядке» куда больше, чем те же переводчики. Чем больше интеллигент остаётся самим собой, тем нелепее выглядит он в глазах света.
Но теперь и этого мало: сами интеллигенты начинают мерить свою жизнь «прагматичным» мерилом – их «бодряческим» мировоззрением, где главное – «быть как все».
Неужто это не усугубляет смятение? Неужели не плодит ещё большую путаницу?
Я вовсе не пытаюсь навязчиво превозносить «идею». Тем более – толковать, какая именно идея достойна внимания. Но интеллигент остаётся интеллигентом лишь тогда, когда ему есть дело до того, что за пределами хлеба насущного, – иными словами, до идеи, – и когда он работает именно с ней. Нынешняя же мода, при которой успех измеряется связями, а труд – лишь приложение к этим связям, и вовсе ставит всё с ног на голову.
Я лишь хочу сказать: нынче властвует тип человека, которому бы только крыша да хлеб. Властвует посредственность. И атмосфера, что порождается этим царством посредственности – осознаёт оно это или нет, – не имеет ничего общего ни с умом, ни с искусством.
Не берусь судить, хорошо это или плохо. Но если интеллигент чувствует себя в этой атмосфере как рыба в воде – он не настоящий интеллигент.
И как бы ни относился к этому воздуху эпохи сам интеллигент, как бы ни обстояло дело с «идеей» в обществе – искусство, например, всегда зависело от идеи.
И, вероятно, художнику теперь нужна ещё большая отстраненность, чем когда-либо прежде.
Апрель 1936 г.В вагоне третьего класса (этюд)
Устал, но заснуть не могу. Вагон битком набит. На багажных полках – чемоданы и свёртки с покупками.
Мой спутник, Сэцуно, сидит прямо напротив и уже давно спит. Мы перекинулись парой слов после отхода поезда из Токио – больше не разговаривали. Познакомились в вечерней школе иностранных языков. Занятия там шли с пяти до семи, и ученики – все либо работающие, либо студенты других учебных заведений – приходили будто между делом, «заскочить на минутку». Бывало, сидишь два года в одном классе, так ни разу и не перемолвившись с соседом. Мы с Сэцуно, впрочем, болтали часто, даже вместе захаживали в пивные. Но стоило появиться его однокурсникам из Университета Нихон, где он учился днём, как я тут же отходил на второй план. Конечно, отчасти это объяснялось моей не слишком общительной натурой, но главное – в той вечерней школе все как-то сторонились друг друга, и это взаимное отчуждение мешало нам сблизиться. Теперь мы выпустились и оба возвращаемся в родные города. То, что этот в целом приветливый парень уснул, едва успев сесть в поезд, – словно итог наших двух лет знакомства. От этого становится немного грустно.
Когда поезд миновал Хаконэ, прекратившийся было дождь снова пошёл, вычерчивая косые линии на стёклах. Две трети пассажиров уже спят. Над этим неопрятным зрелищем – лица, прикрытые платками, пальто, накинутые на головы, – ярко горит электрический свет, отражаясь в лакированных углах перегородок.
За окном – кромешная тьма. Если прижаться лбом к стеклу, едва можно различить, где кончается лес и начинается небо.
Рядом со мной сидит невероятно толстый мужчина, и я чувствую себя загнанным в угол. С двумя большими чемоданами и кучей свертков на полке, он, должно быть, человек с крепкими нервами – наверняка ловкач среди своих родственников. Когда поезд только тронулся с токийского вокзала, сосед справа спросил его: «До какой станции?» – но тот даже не удостоил ответа, лишь шлёпнул сложенной газетой и продолжил читать. На нём чёрный твидовый костюм и галстук, отполированный до блеска. Помада густо намазана у самых корней волос, и каждый раз, когда он поворачивает свою толстую шею, кажется, будто перед тобой рысь. Теперь он крепко спит, развалившись как ему вздумается. Такие, как он, всегда пробивают себе дорогу – в любые времена.
Через проход напротив сидит женщина, похожая на жену железнодорожника, с расстёгнутым воротом – она кормит грудью младенца. Тот просыпается и начинает плакать каждые пять минут. Каждый раз скрежет колёс заглушается его криком, а свет в вагоне кажется ярче. Прямо перед ребёнком сидит учительница – впрочем, я понял это только на следующее утро, а тогда принял её за студентку фармацевтического или стоматологического училища. На ней крашеный шёлк, поверх – затканная золотом накидка, а плечи кутает бархатная пелерина с кроличьим мехом по краю. Лиловые хакама завязаны высоко на груди. На кончике носа осыпается пудра – кажется, если тронуть, кожа лопнет, как пергамент. Каждый раз, когда ребёнок перед ней просыпается, она вздрагивает от его крика, но тут же делает вид, что улыбается, и начинает его убаюкивать. А когда у младенца потекло из носа, она достала из-за пазухи бумажку и сама вытерла ему сопли. Сначала она мне не понравилась, но потом стало жаль её. И всё же – до чего же хрупкими кажутся наряды наших женщин! Разве можно всегда оставаться опрятной в таком платье? Надо ли столько усилий, чтобы просто выглядеть прилично? Может, со временем женское кимоно усовершенствуют?..
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.