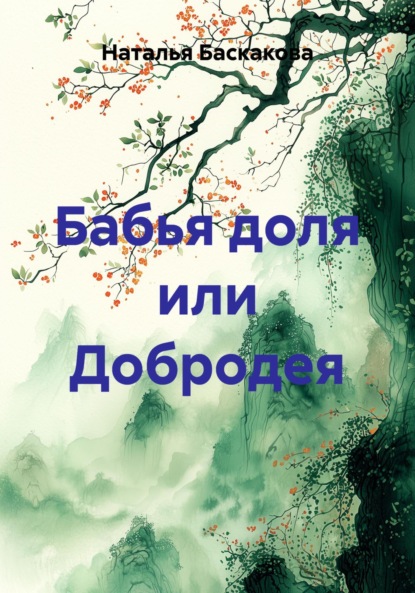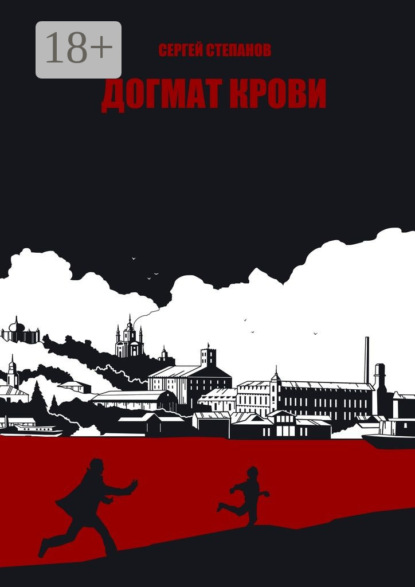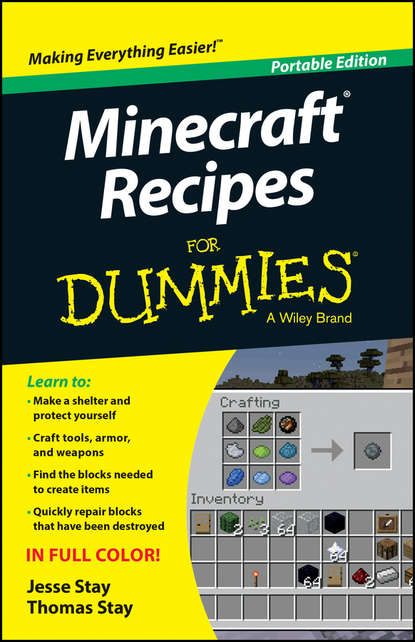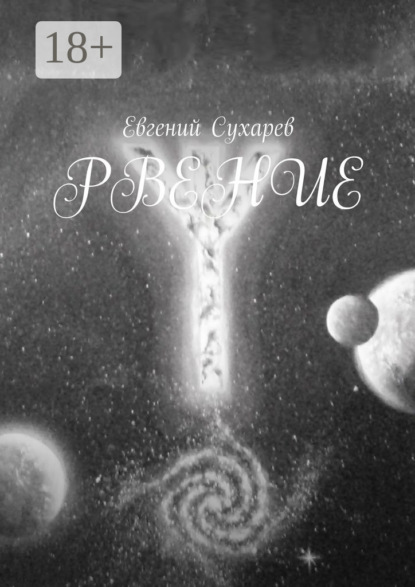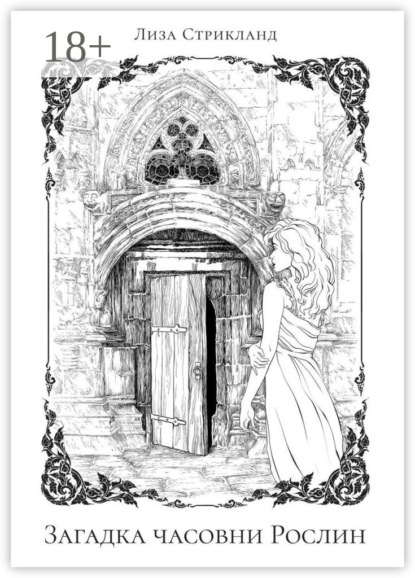- -
- 100%
- +
– Но, родимая, – поехал рысцой.
***
Только начали на новом месте осваиваться Пахомовы – скоропостижно умерла Агафья.
Случилось это в субботу. После долгих вьюг и буранов вдруг выглянуло солнце, ветер стих, мороз как-то сразу ослабел, и среди зимы вдруг повеяло весною.
С утра Агафья наносила воды из проруби в баню и начала уборку в доме: перечистила все чугуны, подбелила печку, выскоблила «до желта» и вымыла некрашеные полы в избе.
Хоть и радовал денёк, а сердце Агафьи как-то нехорошо щемило, то ли предчувствие какое-то плохое, то ли так быстро взялась с утра за работу, годы-то уже не те. А хотелось, как никогда, сегодня сделать всё. Трофим как засел с утра плести лапти на продажу, так и не отрывался от дела.
– Чё – то Лёска с Матвием давненько не были. Как они там? – проговорила горестно Агафья.
– Переезжали бы суды, всё бы на глазах были, может быть и не пил бы так шибко Матюшка-то – в такт ей ответил Трофим.
– Да, не подвезло бабе, вон Катерина, хоть вышла взамуж за вдовца, да на дитёнка, а живут-от как ладно, любит её Михайло, – помолчав, добавила: – шибко нехороший сон я ночесь видала.
– Ну?
– Будь-тэ бы я – «в девках» и взамуж за тебя выхожу, а мамонька моя, царство ей небесно, позвала меня на улку от гостей и повела куды-то, тут-от я и проснулась. К чему-то не к добру.
– Мало ли чё привидится – ответил не сразу Трофим, отложив лапти. – пойду-косе баню растоплю.
Агафья, закончив работу в доме, пошла управляться со скотиной, залезла на сарай, набросала оттуда прямо в клеть душистого сена, от дурманящего запаха которого сразу закружилась голова, насыпала отрубей в кормушку, напоила корову и овец тёплым пойлом и, подоив корову, пошла мыть лавки и полы в бане.
Вскоре баня поспела. В «первый жар», как всегда, ходил Трофим. Пока он мылся, пришла Катерина со своей семьёй и тоже налаживалась в баню. И только лишь последней пошла мыться Агафья. Сердце уже не выносило жаркой бани, а тут и вовсе затрепетало, как голубок, да и по затылку, как будь-то кто-то начал колотить молотком: «Натто трубу рано закрыли – вот и угорила», – подумала Агафья.
Домой еле-еле пришла и сразу легла. Катерина, всегда видя мать бойкой да поворотливой, с опаской спросила:
– Мамонька, чё с тобой?
– Да вот, видно, угорила, – тяжело дыша, ответила Агафья.
Катерина принесла из сеней холодного молока. Хлебнув молочка и почувствовав облегчение на сердце, Агафья заснула, а к утру же не проснулась.
***
После смерти Агафьи Трофим сразу как-то захирел, осунулся, и ничего его в жизни не радовало: ни дом, который стал пустым, сиротливо смотрящим в четыре окна на улицу, ни рождение третьего сына у Катерины, ни даже переезд в Михайловку Александры с Матюшкой.
Однажды утром, поздней весной, после того, как управились с огородами, поехал Трофим в соседнее село Томилово продавать на базар лапти да туески. Въезжая в село, увидел у колодца женщину примерно своих лет, наполнявшую водой кадушки. Смекнул Трофим, что баба живёт одна, иначе, зачем бы она стала делать мужскую работу. Вот и решил с ней завести знакомство, кто его знает, может что и получится.
– Помогай бог, – остановившись у колодца, сказал ласковым певучим голосом Трофим.
– Спасибо – сдержанно ответила женщина.
– Воды-то попить можно?
Женщина ведром почерпнула из колодца воду и подала Трофиму. Пока Трофим пил холодную, до ломоты в зубах, и светлую, как слезинка воду, думал: «Как бы это начать разговор, чтобы она не дала сразу «от ворот поворот», а бабёнка-то вроде ничё».
– Не бабье ето дело – воду возить, – возвращая ведро, сказал Трофим.
– И то не бабье, – горестно ответила собеседница, – а где взять мужика-то, он у меня сердешный ишо в германску головушку сложил. Вот с тех пор и мыкаюсь одна.
– Дак, детки должны тоды подмогнуть.
– Не успели мы деток-от завести.
– Вот и у меня недавно старуха умерла…, шибко тоскливо одному-то, хоть и дети есь, – проговорил Трофим, устанавливая кадушки на тележку, затем, как бы между прочим, спросил: – А ты – здешня?
– Тутошня.
– Чья така, чё-то не припомню?
– Да и тебя я не помню. А зовут меня Полина Нехорошева.
– Мы недавно переехали в Михайловку из Крутоярова. Здися у меня две дочери, да племенник живёт. Трофим я, Пахомов. Не слыхала ль такого?
– Нет.
Чтобы не упустить такую маленькую ниточку, Трофим, помолчав, продолжил:
– А далёко ли ты живёшь?
– Да нет, вот мой домишко, – Полина указала на покосившийся покрытый тёсом на два окна домик.
Весь торг на базаре Трофим думал о Полине: « Какое бы заделье сделать, чтобы заехать к Полине…», но так и ничего не мог придумать. И поэтому решил сразу, так сказать, «рубить с плеча».
Возвращаясь с базара к себе, в деревню, Трофим повернул к Полининому дому:
– Слышь, Полина, не умию я сватать, разучился, видно, с годами. Сразу тебе говорю, ты – одинока, и я тожа один, а давай-косе будём вмистях жить.
Полина как сеяла муку, так и застыла на мгновение с ситом в руках. Справившись с собой и немного подумав, сказала:
– Нет, Трофим, стара я для «невест», да и привыкла жить одна.
–Значит, не поглянулся? – сокрушённо спросил Трофим.
– Не те уже года, чтобы глянуться али не глянуться, а нову жизь зачинать не хочу.
– Ну на «нет» и суда нет, – немного помолчав, добавил, – я туто-кось честенько бываю, коли чё надо будёт, ты скажи, я завсегда подмогну. С тем и уехал.
Не успел Трофим приехать домой, прибежала вся заплаканная Александра:
– Тетька, ты в Томилове Матвия не видал?
– Нет, а чё?
– Дак он сёдня опеть конюшить* не пошёл и последню пудовку муки спёр из дому, пропьёт сукин сын и «по миру» пустит,– разрыдалась и упала в ноги к отцу. – Тетька, ты, тетька, пошто ты миня тоды взамуж-от отдал, пошто загубил молодось мою? Хто я тепреча – ни девка, ни баба, ни полюбовница, ни мужня жона? – Потом, утерев слёзы запоном, как-то странно вся подобравшись, тихо продолжила, – придёт домой, убью подлеця, возьму и зарублю топором.
– Но-но, – Трофим свирепо глянул на Александру,– я тебе «зарублю», сучья дочь, вишь, чё удумала, – потом, немного помолчав, добавил.– дам я тебе-косе и зерна и муки, как-ненабудь проживете.
На другой день, к вечеру, Матвей пришёл домой, он был не пьяный, но с глубокого похмелья, видно всё пропил. Александра огрела его раза два ухватом, на этом всё и кончилось.
Опять началась однообразная деревенская жизнь, работа, дом, скотина, и так каждый день. Матвей попивал, но не «в стельку», как раньше. Александра работала на детской площадке кухаркой, вот мало-помалу и
перебивались, а своих деток так и не намечалось. Да Александра в какой-то степени свыклась уже с такой участью. А то куда бы она с ребятишками-то: мужик-пьяница, вот и пошла бы с сумой по дворам. Видать, Бог пожалел её – горемычную.
***
Несколько раз ездил Трофим в Томилово и по делу, и без дела для того, чтобы ещё и ещё раз поговорить о совместном житье с Полиной, видно, приглянулась ему баба. И вот однажды, спустя более двух лет, Трофим, сияющий пришёл к Александре:
– Ну, вот, Лёска, стало быть, жонюсь я.
– Батюшки, – всплеснула Александра, – кого ето ты брать-от надумал?
– Да томиловску одну, ни чё, баска бабёнка.
Александра с одной стороны обрадовалась, что наконец-то отец не будет одинок, и ей не придётся каждый день «разрываться» на два дома. Катерине-то всё не досуг – полный дом ребятишек. А с другой стороны, как бы ревность в душу закралась: в отчем доме и вдруг хозяйка какая-то чужая баба и поэтому сдержанно ответила:
__________________
* работать конюхом (диалект)
– Ну, баска, ни баска – не нам судить, да и не к чему ето. А дети-те у неё есь?
– Да, нет, нету.
– Ну и хорошо.
– Ну, стало быть. К вечеру приходите с Матюшкой. Я и Катерине накажу – торопливо сказал Трофим и направился к дверям.
– Придём – всё также сдержанно ответила Александра, ежели Матвий трезвый будёт.
Александре, как и Катерине, Полина Игнатьевна понравилась с первых же дней – работная, чистоплотная и добрая. И, как-то само по себе вышло, чуть ли не с первого дня Александра стала называть Полину Игнатьевну «мамонькой».
И снова в доме Пахомовых воцарился покой и домашний уют.
***
Прошло несколько лет. У Катерины женился родной сын и народился внук – красивый кудрявый мальчуган с голубыми глазами.
Матвей немного поутих с пьянкой. Как-то раз Михаил Артемьевич пришёл к Тонковым со свёртком в руках. Этот серьёзный и молчаливый человек почти никогда не заглядывал к Матвею с Александрой, а тут перешагнул через порог, перекрестился на иконы, сел на скамейку и говорит:
– Вижу, чё зачинате вставать на ноги. Хвалю тебя, Матвий, чё перестаёшь пить. Вот и подарок про тебя припас… ежели подойдут – носи с богом, – и подаёт Матвею новые чёсонки.
Матвей даже онемел от счастья: во-первых, давненько он уже не носил чего-то путёвого, вот только недавно дублёную шубу Рамазан привёз, а теперь ещё и чесонки, а во-вторых, сам Михайло Артемьич, о котором непутёвый Матюшка думал, что он – скряга и что у него зимой снега не выпросишь, а вон, подишь ты, чёсонки подарил.
Матвей быстренко надел чёсонки, прошёл пританцовывая по избе, ноги в этих чёсонках прямо «спали», затем подошёл к Михаилу Артемьевичу и взволнованным голосом сказал:
– Спасибо, дорогой ты мой, и, вот те хрест, не буду боле пить.
– Ну-ну, – прогудел тучным голосом Михайло, – поглядим.
Затем встал, одел шапку:
– Ну, прошшевайти, – вышел за дверь.
Александра на всё происходящее не могла смотреть без слёз:
– Гледи, Матвий, Христом-Богом поклялся.
– И те говорю – всё на етом.
На другой день Матвей что-то захворал. Два дня полечился травами, но ничего не помогало. На третий день собрался, одел шубу, новые чёсонки с галошами и уехал в Томилово, в больницу. А через день приезжает домой в рваном зипунишке, да в худых стоптанных валенках.
При виде мужа у Александры чуть не парализовало язык. Она расплакалась:
–Ты где жа, гад ползучий, пьяница горька, шубу с чёсонками-те оставил?!
Матвей еле-еле, то ли от холода, то ли от пьянки, произнёс:
– Поежжай, Лёска, може чё и отышшишь.
Александра уже хорошо знала, что никакие уговоры, никакая ругань – ничего не поможет её беде и поэтому оделась наспех, взяла зипун и валенки и побежала по зимней, плохо проторенной дороге в Томилово.
В Томилово многие знали и Александру – весёлую певунью и невезучую бабу и Матвея, который от пьянки уже потерял былой облик и выглядел гораздо старше своих лет. И что самое интересное, в одной деревне живут, даже в родстве состоят два бывших белогвардейца Матвей Тонков и Михаил Артемьевич Логунов. Один пьёт беспробудно, другой трезвенник, один лодырь и прогульщик, другой за работу жизнь готов отдать, один не имеет ни кола ни двора, другой семьянин, позавидовать можно, один, кроме, как Матюшка и имени-то себе не заслужил, другой – уважаемый человек на всю округу и при обращении все его возвеличивают. Вот и поди ж разберись кто есть кто, и все ли белогвардейцы такие уж плохие люди?
Первые попавшие люди Александре рассказали, что Матвей валялся уже в рваном зипуне пьяный возле Сельского Совета, а неподолёку
проживавший учитель, стягивал с его ног чесонки и надевал свои старые валенки.
Зайдя в избу к учителю, у Александры как будь-то сердце оторвалось. Учитель сидел за столом, пил чай, а на ногах были чёсонки Матвея.
– Как тебе-ко не стыдно, – дрожащим от слёз голосом проговорила она, – с пьяного человека последни валенки сташшил, и рука не дрогнула. Ты жа – учитель, детей учишь, чему ты их учишь? Как нишших обирать? Ты же знашь, как мы живём. Вот ты счас сидишь в тепле, попивашь горячий чай, а я отмахала девять вёрст, вся познобилась, чё бы хоть чё-то своё найти. – Потом, помолчав, добавила: – Давай суды мои чёсонки, или я тебя твоим рваньём так отхожу по морде, чё тебя мать родна не узнат и опозорю на всю Томилову.
Домой вернулась с новыми чёсонками глубокой ночью (шубу так и не нашла). Матвей уже спал. Александра залезла на тёплую печку, досыта наплакалась по своей злой бабьей доле и лишь под утро заснула тяжёлым сном.
А вскоре в дом Тонковых пришла новая беда. Отправили как-то раз Матвея в Томилово продавать колхозное мясо. Уехал и не приехал, а через день прибегает в школу Полина Игнатьевна, где теперь Александра работала уборщицей, и говорит:
– Беги скоря в правлене, звонят из Томилова.
Александра прибежала к телефону и услышала такое известие от председателя Сельского Совета Карягина.
– Шура, твоего Матвея посадили.
– Ох, темнеченьки… только и могла выговорить Александра и повалилась, как подкошенная.
– Шура, чё с тобой, чё сказали-те, – тормоша, спрашивала Полина Игнатьевна дочь. Александра с помощью матери встала:
– Посадили его, мамонька, посадили лихоманку тресучю, пьяницу горьку, а за чё – я не разобрала, – помолчав, добавила, – надо идти в Томилову.
В Томилово ей рассказали, что Матвей пропил все колхозные деньги, зашёл в клуб, где раньше размещалась церковь. В клубе шло партийное собрание, он стал материть Советскую власть и партию. Первый раз его вывели – он не унялся, растолкал всех и снова оказался в клубе. Мало того, что продолжал поносить всех последними словами, так ещё и кинулся на участкового с кулаками. Год тридцать седьмой, тридцать восьмой – страшное время репрессий, людей сажали ни за что. А здесь и, подавно, не будет
никакой милости.
Матвея сразу увезли в районный центр, а оттуда в область. Александра поехала в областное НКВД, чтобы хоть как-то выяснить, где её мужик.
В НКВД встретился знакомый, который однажды приезжал в Михайловку с лекцией. Он-то и рассказал о том, что Матвей на островах,
закрытый в колонии, и что не стоит ждать ни письма, ни самого, потом добавил:
– Вот так-то, голубушка, ищи себе друга и выходи замуж.
Вернулась Александра, опухшая от слёз. Каким бы ни был, а человек, с которым были венчанные, с которым прошла пропадом вся её молодость.
В Михайловке же её поджидала новая беда. Оказывается за деньги, вырученные за мясо и за пропажу лошади с телегой – за всё это Александра должна была рассчитаться с колхозом, иначе и её ожидает тюрьма.
Пришлось Александре срочно продать дом, чтобы, где-то взять денег, к отцу было стыдно обращаться. Дали Александре коморку из двух комнатушек при школе и стала она жить, горе мыкать без мужика, без копейки за душой.
Глава вторая
– Дашка, возьми меня с собой на вечорку, возьми, а то маме скажу.
– Не возьму, мала ишо, – проговорила своей младшей сестре стройная дивчина. Большие серые глаза озорно смеялись. Тёмно-каштановая коса тяжело лежала на высокой девичьей груди.
Дарья Горожанова была первой красавицей в деревне: не по годам дородная. В свои пятнадцать лет она уже лихо, наравне со взрослыми парнями и девчатами, отплясывала «Первую» и «Коробочку», да и певуньей была на славу. На гулянье её голос слышался на всю округу.
Догнав на мостике старшую сестру, двенадцатилетняя Капка задыхаясь, проговорила:
– А всё равно пойду.
– А я сказала, не пойдёш, пока плясать не научишься.
– А ты возьми, ды научи,
– Сколько раз я тобе показывала дроби, никак не можешь понять. Гляди ишо раз, – Дарья медленно стала дробить на деревянном мосточке, в такт подыгрывая себе на языке:«Рак, рыба-рыба, рак. Рак, рыба-рыба, рак. Рак, рыба-рыба, рак» Дарья ускоряла темп, и ноги в зашнурованных кожаных ботиночках на невысоком каблучке чётко выговаривали слова «Рак, рыба-рыба,рак» Капка хотела была скопировать пляску сестры, но кроме беспорядочного топонья ничего не получалось.
– Эко ты кака неуклюжа,– с иронией проговорила Дарья. – Вобшем, сиди дома, и пока не научишься, не смей показываться на взрослу вечорку.
– Тогда и ты не пойдёшь.
– А вот и пойду.
Капка встала поперёк мостика:
– Не пушшу тобе.
– Пустишь, – Дарья, столкнув сестру в родник, засмеялась звонким смехом, показывая два ряда ослепительно белых красивых зубов и залилаясь нежным румянцем.
Капка вылезла «в слезах» из воды, отряхивая мокрое платье, прокричала в след удаляющейся сестре:
– Ну приди только домой!
За этой сценой с удовольствием наблюдал Тихон Шлемов, направляясь в избу-читальню на партийное собрание. Его недавно избрали секретарём сельской партийной ячейки. Тихон давно заприметил Дарью – дочь Ефима Горожанова, у которого работал в лавке.
Семья Горожановых отличалась работностью, богатством (это была зажиточная казачья семья) и красотой. Ефим Степанович был высокий, крепкий – настоящий русский мужик. Каштановые волосы, чуть подёрнутые сединой, завивались в крупные кольца, большие тёмно-серые глаза смотрели всегда выразительно и проникновенно.
Матрёна Ивановна была под стать мужу. Не смотря на то, что семья большая, а всё же не сгорбилась, всегда румяная, домовитая, она успевала сделать всё: и дом содержать в постоянной чистоте, и вязать, и обшивать всех, и со скотиной управляться, да ещё и на песни время хватало.
Дети пошли в родителей, как на внешность, так и по расторопности. Особенно Дарья – стоило ей только забежать в лавку, как у Тихона немели руки и ноги, да и речь становилась невнятной. Дарья озорно смеялась:
– Ух, какой ты несуразный.
А глаза излучали столько света и тепла, что, наверное, в самый лютый мороз Тихону бы стало невмоготу жарко. Сколько раз он ловил себя на мысли: «Такую бы, да «в жёны». И быстро одёргивался: «Дурень старый, тебе же тридцать, а она совсем – ребёнок, хоть и фигурой выдалась. Опять же неровня семья Шлемовых семье Горожановых».
Шлемовы были многодетные старообряцы-беспоповцы, жившие в бедности, хотя от голода никто не умер и по миру никто не пошёл.
У Шлемовых свой «кирпичный сарай». «Сарай» только в народе назывался. На самом деле работа была налажена по принципу своеобразного заводика. Производство считалось рентабельным. Недалеко от села Шлемовы добывали строительную глину. Сами месили эту глину, укладывали в формы и обжигали. Кирпичом снабжали не только окрестные селения, но и волость.
Казалось бы, хороший доход, что ещё надо. Однако особым богатством род Шлемовых не отличался. Отсюда, вероятно, и пришлось самим «в прислугах» ходить. А почему? Да потому, видимо, что скупость в этом доме не нашла себе места. Перед всеми двери дома были открыты, согласно пословице: «Что есть в печи, на стол мечи».
Такой щедрый нрав передавался из поколения в поколение – от отцов к детям,– которых было очень много и каждый наречён был старинным
красивым именем: Домна, Евдокия, Порфирий, Изот, Тихон, Миланья, Улита, Синклитикия или Сакля. Дети, хоть и были добрые, дружные и кроткие, но в то же время умели постоять и защитить себя. И если поставили перед собой цель, то обязательно своего добьются.
Тихон зачастил на вечёрки, чего с ним никогда не было. Каждый день сам себе говорил «Сегодня ни за что не пойду», а ноги сами несли. Он боялся себе признаться, что хочет видеть Дарью каждый день. А если и случалось такое, что он не видел родные глаза – этот день для него становился чернее ночи.
Какое бы горе, неудача не постигали его, стоило только услышать её нежный певучий голос, заливистый смех, хоть издали, завидеть стройную, как из воска вылепленную, фигуру, стремительную походку – все беды и невзгоды сразу улетучивались. Ни днём, ни ночью, ни на работе, ни дома, даже при исполнении партийных обязанностей Тихон в мыслях никогда не расставался с Дарьей.
Дарья на вечёрках и посиделках была «живой» и весёлой. Если начинала вязать, то спицы в её руках только сверкали, при этом она ни разу не опустит глаза на свою работу, шутит, поёт.
На одной из посиделок, где и Тихон был, ребята придумали игру-головоломку. Завязали шёлковую ниточку множеством узлов и дали девчатам развязать. Кто из них быстрее, да ловчее развяжет, та значит и домовитая, и ласковая, и жена приветливая будет. Дарья развязала всех быстрее.
Гармонист заиграл «Первую» – местную кадриль, состоящую из множества фигур. Тихон одной рукой обхватил тонкий стан Дарьи, а в другой утонула её маленькая и красивая ручка. Дарья, как вьюн, кружилась с Тихоном в танце. Затем пошли танцевать «Коробочку», за ней «Светит месяц» и так танец за танцем.
Возвращаясь домой с гулянья, Тихон окончательно решил: «Женюсь на Дарье Горожановой или буду всю жизнь бобылём». Ночь была бессонная. В Тихоне поселились два человека. Один говорил:
– И не стыдно тебе, старый дурак, она же девчонка, больше, чем на половину моложе тебя. Да и она – красавица, а ты вон какой корявый.
Другой же протестовал:
– Сердце-то ведь любит, без неё и жить ни к чему.
Первый настаивал своё:
– Но вот только стоит об этом заговорить, ведь, она на смех поднимет. При виде её тебя же, как будто кто подменяет. При встрече с ней ты и слова-то сказать не можешь.
Второй голос упрямо заявляет:
– Потеряешь её, считай, что на всю жизнь своё счастье упустил, так что решай.
Эти шальные мысли его не покидали всё утро. Тихон выгнал в табун скотину и пошёл к реке Быструхе. Река была горная очень быстрая, в некоторых местах порожистая, чистая и студёная. Тихон не мог надышаться утренним воздухом.
Подобное чувство охватывает не только приезжего человека, но и самих селян. Село Благодатное находится в объятиях гор, покрытых смешанным лесом. Лес богат зверьём – тут тебе и рысь, и куница, и норка, и колонок, белочки, прыгающие с дерева на дерево, производящие впрок запасы. Покажется хитрая рыжая лиса, виляя пушистым хвостом и, пуская запах фиалки, тем самым заметает свой след. Зайцы, поджав уши и вздрагивая хвостиком от страха, скачут меж сосен. Иногда пожалует хозяин леса – Михаил Потапыч, чтобы пораззорять пчелиные дупла, попробовать медку, да полакомиться малиной, которой видимо – невидимо, а сколько брусники, черники, костяники, земляники и клубники.
Село утопает в цветах, как в цветочной клумбе. На привольных лугах растут саранки, колокольчики, иван-чай, тысячелистник, поповник или ромашка крупноцветная, дикая редька или как в народе называют – сердибус, клевер. Разнотравье приносит неповторимый аромат не только в село, но и в каждый дом.
Множество родников, которые рождаются из земли, имеющие неиссякаемую целебную силу, воспевают тех людей, которые живут в селе Благодатном, сформированным из трёх широких улиц – Зимник, Верхняя и Большая.
Основное население составляют старообрядцы, лишь несколько семей казачьих и мирских православных. Дома, в основном, пятистенки, установленные на высокий и крепкий фундамент. Каждый из них, в свою очередь, служит подвальным и цокольным помещением. Именно в этих помещениях развиты промыслы и ремёсла селян: Чеботари тачают обувь, шорники шьют конскую упряжь, бондари изготовляют кадушки для воды, квашенья капусты, засолки грибов и огурцов, банные шайки. Мастера по дереву режут ложки, чашки, гончары лепят горшки и крынки. Берестяных дел мастера изготовляют туеса. На смолокурнях выгоняют дёготь и смолу.
А какую жевательную резинку из смолы лиственницы бабы готовят. В лесу собирают кору лиственницы, отделяют от неё смолу, затем смолу кладут в горшок, ставят в вольную печь и вытапливают до самого вечера, затем готовую массу: берут из горшка, выкладывают ровным слоем, выстаивают до затвердевания и разрезают на мелкие кусочки. Называют они свой продукт ласково – «лесонька». Лесонька может храниться десятки лет, сохраняя первозданную свежесть и аромат. Жуёшь эту лесоньку, во рту хвойный аромат, зубы становятся белее, да и дёсны укрепляются.
Бортники в лесу ведут сбор дикого мёда, который хоть и горек на вкус, но по качеству не уступает домашнему. Каждый хозяин занимается своим делом, село с каждым днём богатеет.
Солнце, играя своими лучами, поднимается из-за гор. Над рекой рассеивается туман. День обещает быть тёплым и солнечным.
Возвращаясь домой, Тихон вдалеке заметил знакомую до боли фигуру. Дарья несла воду на коромысле, весь стан её плавно покачивался. Вёдра же, как будто приросли к воздуху, даже не вздрогнут, только ковш, который лежал на поверхности воды, приятно позвякивал.
У Тихона нежно встрепенулось сердце и от ночных мыслей, и от того, что вот сейчас она подойдёт очень, очень близко к нему, подарит свой ласковый взгляд, обдаст его чуть уловимым приятным теплом, и он опять онемеет от счастья. Но Тихон успел себя взять «в руки», недаром он окончательно решил всё ночью, И, лишь только Дарья поравнялась с ним, Тихон, кашлянув «в кулак», сказал:
– Здрастуй, Дарья.
– Здрастуй, – Дарья улыбнулась и посмотрела так на Тихона, что как будто, сказала: «Знаю, что хочешь мне что-то сказать, вот и не тяни время». Вслух же произнесла: