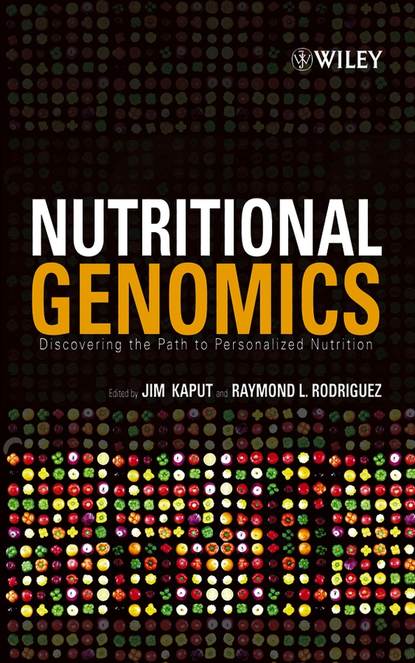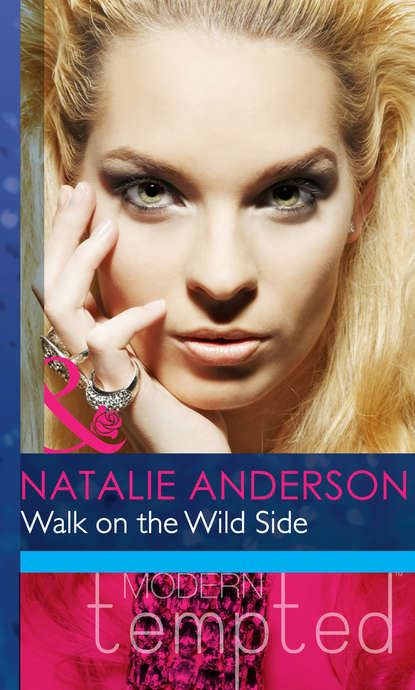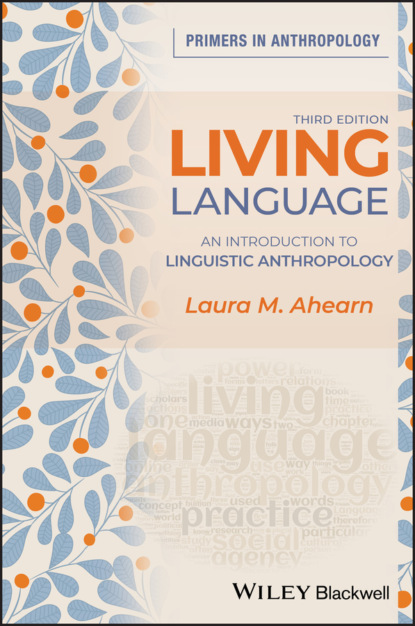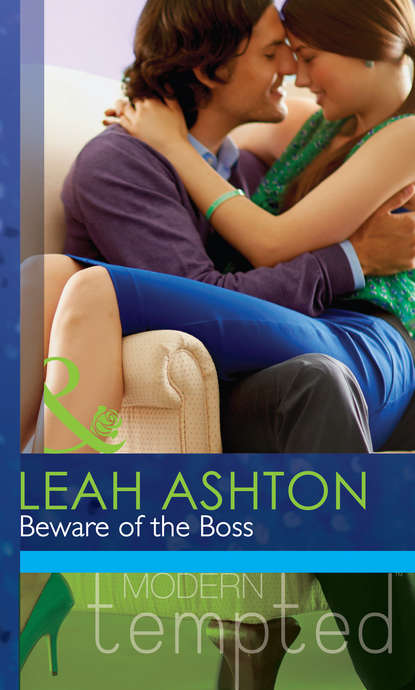Семейное обучение: маршрут построен

- -
- 100%
- +

Введение. Мой побег из школьной системы
Я – педагог по образованию, экс-сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних, но, прежде всего, я – мама. И семь лет назад я совершила то, что многие посчитали безумием. Я совершила побег. Побег из школьной системы, моя вера в которую угасала с каждым днем. Я забрала своих детей и перевела их на семейное обучение.
В то время это ощущалось как прыжок в открытый космос без скафандра. Семейное образование еще не было популярным трендом, и в голове настойчиво пульсировала тревожная мысль: «А вдруг я только наврежу? А если я ошибаюсь?» На кону было не просто формальное будущее моих детей, а их счастье, их способность реализовать свой потенциал.
Это решение было не минутным капризом, а криком отчаяния. Школа, к моему огромному сожалению, не справлялась с тем, что было действительно важно для моих детей. Конечно, было бы соблазнительно переложить вину на конкретных учителей или на устаревшую систему образования в целом. Но я не хотела тратить время на поиски виноватых. Я хотела дать своим детям качественное, полноценное образование без стресса, без удушающих рамок и бессмысленной гонки. И я взяла на себя стопроцентную ответственность за это, понимая, что гарантий успеха нет, и я далеко не уверена, что справлюсь.
Но я справилась. Сегодня мой сын уже студент, уверенно строящий свое будущее. Дочь – десятиклассница, которая с удовольствием учится и развивается в собственном темпе. И я знаю наверняка: тогда, семь лет назад, я приняла одно из самых важных и самых правильных решений в своей жизни.
В этой книге я не собираюсь давать вам готовые рецепты или учить вас, как правильно жить. Я просто хочу честно рассказать свою историю: о страхах и сомнениях, о неожиданных провалах и ярких победах. О том, как я искала свой собственный путь в образовании, и что из этого в итоге получилось.
Я искренне надеюсь, что мой опыт вдохновит тех, кто сейчас стоит на пороге выбора: пойти по уже проторенной дорожке или создать свой собственный, уникальный маршрут для образования своих детей. Возможно, кто-то узнает в моей истории себя и найдет то самое «да», которого не хватает, чтобы решиться на семейное обучение. Поверьте, это возможно. И оно действительно того стоит. Пусть мой опыт станет для вас отправной точкой, стимулом для поиска своего собственного пути. Ведь образование – это не просто знания, это ключ к счастливой и полноценной жизни.
Раздел I. Движение в сторону семейного обучения
Глава 1. В поисках идеального учителя. Игра в «школу» как лакмусовая бумажка
Я всегда ощущала священный трепет перед профессией педагога. Верю, что именно учитель – проводник, способный открыть ребенку двери в мир знаний, привить любовь к учебе и помочь раскрыть потенциал. Поэтому к выбору педагогов для своих детей я всегда относилась особенно тщательно.
Первые годы материнства дарили мне возможность влиять на этот выбор. В детском саду нам посчастливилось встретить настоящих профессионалов, чутких и любящих детей. Потом я, не без труда, нашла для сына замечательную первую учительницу. Мы даже возили его в школу в другой район, зная, что именно этот педагог станет для него надежным наставником.
Переезд из тихой сибирской глубинки в шумный Краснодар внес свои коррективы. Школы здесь оказались переполнены, и возможности выбирать учителя практически не было. К счастью, сыну снова повезло: он попал в класс к внимательному и опытному педагогу.
Все изменилось, когда дочь пошла в первый класс. Активная и жизнерадостная, она вдруг стала возвращаться домой подавленной, с головными болями, словно выжатый лимон. Я видела, как постепенно гаснет ее интерес к учебе.
В такие моменты я всегда прибегала к проверенному методу, своеобразной лакмусовой бумажке: я предлагала детям поиграть в «школу». Я – ученица, а Саша – учительница.
И тут начиналось самое тревожное. Дочь кричала на меня, замахивалась, вырывала из рук ручку. Когда я пыталась неправильно ответить на вопрос, она начинала трясти меня за руку. Дети в игре транслируют увиденное и прочувствованное. Им просто неоткуда взять иной опыт. Эта игра – безошибочный индикатор того, как ведут себя педагоги наедине с детьми. Бессмысленно засыпать маленького ребенка вопросами о школе. Проще и вернее поиграть.
После этого «урока» я обзвонила других родителей из класса Саши. Оказалось, что состояние моей дочери – не исключение. Многие дети возвращались домой измученными и не хотели идти в школу. Я предложила родителям вместе обратиться к директору, считая, что мы, взрослые, не имеем права оставлять своих детей в таких условиях. Последствия могут быть серьезными: от потери интереса к учебе до психологических травм.
К моему горькому удивлению, родители не поддержали меня. Страх конфликтов и нежелание «высовываться» оказались сильнее беспокойства за собственных детей. Тогда я решила действовать одна.
Я пришла к директору и подробно рассказала о ситуации. Попросила перевести мою дочь в другой класс, к другому педагогу. К чести администрации, мою просьбу удовлетворили оперативно. После осенних каникул Саша уже сидела за партой в новом классе.
Перемена произошла мгновенно. Дочь снова стала веселой, с удовольствием шла на занятия и с радостью рассказывала об учебе. Кошмарная игра в «школу» осталась в прошлом. Тогда я поняла, что сделала правильный выбор. И это был только первый шаг.
Глава 2. Клеймо «тупого». Как школа едва не сломала моего сына
После неприятного инцидента с переводом дочери в другой класс наступило затишье. Дети ходили в школу, учеба шла ровно. Конечно, периодически возникали какие-то ситуации, которые меня не совсем устраивали, но я старалась решать их по мере поступления. Уже в третьем классе сыну потребовалась помощь репетиторов по основным предметам. Превышенное количество учеников, к сожалению, сказывались на качестве знаний. Но тогда я не придавала этому особого значения. Слепо следовала общепринятому сценарию: школа, кружки, репетиторы – «полная детская занятость», как сейчас это модно называть.
Настоящая тревога забила в набат, когда сын перешел в среднюю школу. Я все отчетливее понимала, что он ходит в школу формально, «для галочки» и практически не получает там знаний. Как ни печально, подобная картина наблюдалась у большинства детей в классе. Мы, родители, настойчиво просили классного руководителя о встрече, надеясь сообща найти выход из сложившейся ситуации. Но получали лишь бесконечные отговорки о колоссальной загруженности.
В отчаянии мы, несколько самых активных родителей, обратились непосредственно к директору школы. И услышали обескураживающий ответ: система образования трещит по швам от нехватки квалифицированных кадров, учителя перегружены настолько, что ни о каких родительских собраниях или внеклассных занятиях не может быть и речи. В итоге, дети, только вчера вышедшие из-под заботливого крыла начальной школы, оказались предоставлены сами себе. Ни о какой адаптации к новой, более сложной программе, о мягком переходе в среднюю школу не было и речи.
На тот момент надежда на школу умерла окончательно. Я, как и многие родители, готовилась к привычному сценарию: нанять как можно больше репетиторов, чтобы хоть как-то залатать критические бреши в знаниях моего ребенка. Но однажды Андрей произнес фразу, которая прозвучала для меня как сокрушительный удар: «Мам, я, наверное, тупой».
Я была шокирована и буквально онемела. Спросила, откуда у него такие мысли. Сын нехотя признался, что эти слова он постоянно слышит от учителя математики почти на каждом уроке.
Мой разум отказывался верить в подобное. Не раздумывая ни секунды, я решила лично посетить несколько уроков в школе. И то, что я увидела… Это был словно кадр из фильма ужасов, антиутопия в школьных стенах. Не школа, а настоящий концлагерь для детей.
Я побывала на уроках математики и истории. В классе – больше тридцати учеников, в кабинетах – духота неимоверная, дышать просто нечем. Мы живем на юге, где даже осенью бывает очень жарко. Учитель совершенно не заинтересован в учебном процессе, монотонно бубнит информацию, которую, казалось, никто не слышит из-за непрекращающегося гула в классе. Педагоги будто бы смирились с хаосом, царящим в классе, и даже не пытались хоть как-то завладеть вниманием учеников. При этом учителя практически никогда не хвалили детей, а лишь бесконечно сыпали обвинениями и упреками. Конечно, в моем присутствии моего ребенка напрямую не оскорбляли, но мне показалось, что подобное отношение к детям здесь считается вполне нормальным.
Я готова была закрыть глаза на пробелы в знаниях, нанимать репетиторов, сколько потребуется, чтобы хоть как-то поддержать Андрея. Но я никогда, ни при каких обстоятельствах не позволю сломать веру моего ребенка в себя, растоптать его самооценку, лишить его желания учиться. Именно тогда, в тот момент, я окончательно поняла: пора искать выход. Я просто обязана вырвать сына из этой токсичной, разрушительной среды. Но как это сделать? Что предпринять?
Глава 3. Разочарование в частном образовании. Первый шаг к семейному обучению
Тот год, когда сын пошел в среднюю школу, прошел как кошмарный сон, полный тревог и непрекращающегося стресса для всей нашей семьи. Летние каникулы после пятого класса пролетели в лихорадочных размышлениях о том, что так дальше продолжаться не может. Нужно было срочно найти выход, принять какое-нибудь решение. И тут, словно луч надежды в непроглядной тьме, в соседнем районе открылась новая частная школа. Она только-только проходила процедуру лицензирования, поэтому стоимость обучения была значительно ниже, чем у раскрученных конкурентов.
Посоветовавшись с мужем, мы неуверенно решили рискнуть и попробовать эту школу. Меня переполняли робкие надежды: приветливые педагоги, маленькое количество учеников в классах, современные, прекрасно оборудованные кабинеты, уютные комнаты отдыха… Дети, загоревшись энтузиазмом, с нетерпением ждали первого дня в новой школе. Какое-то время я верила, что наши мучения остались позади. Как же я ошибалась!
Не прошло и месяца, как раздался тревожный телефонный звонок. Это была учительница истории. Без всяких предисловий она поинтересовалась, кто делает домашние задания с моим сыном? Я честно призналась, что он старается заниматься самостоятельно. В ответ, с плохо скрываемым раздражением в голосе, она выпалила: «Вы вообще в курсе, что у вашего гения ошибки в тетради?!»
Я, стараясь сохранять самообладание, ответила, что не знала об этом, но считаю, что это совсем не катастрофа. Теперь у преподавателя есть прекрасная возможность увидеть, какие именно темы остались не до конца понятыми, и помочь восполнить пробелы в знаниях. Задохнувшись от возмущения, учитель менторским тоном заявила, что мое отношение к образованию в корне неверное, и что моя первейшая обязанность – сидеть рядом с ребенком и помогать ему корпеть над каждым упражнением.
Моему возмущению не было предела. «Простите, – процедила я сквозь зубы, – тогда какой смысл вам проверять домашние задания, если в них будут мои ответы, а не мысли ученика, которого вы должны учить? Кстати, а вы уверены, что сами-то хорошо усвоили методику преподавания в педагогическом институте? Как вам удается не объяснить новую тему всего лишь семи ученикам в классе?» На этом наш разговор, полный абсурда и взаимного непонимания, подошел к концу. Я положила трубку, чувствуя, как во мне поднимается волна праведного гнева.
В моей голове всплыли слова моей уважаемой преподавательницы по педагогике. Она часто говорила нам: «Если вы не можете научить ребенка и жалуетесь на это его родителям, то можете смело выбрасывать свой диплом на ближайшую помойку. Потому что, начав перекладывать свою некомпетентность на ребенка и его родителей, вы навсегда лишаете себя права называться педагогом». Ее слова служили мне напоминанием о том, что нельзя перекладывать свою ответственность на плечи детей.
Этот неприятный инцидент стал лишь первым в длинной череде разочарований. Один за другим стали вылезать вопиющие факты непрофессионализма, безразличия и полнейшей некомпетентности. И тогда до меня дошло, как обухом по голове: за глянцевыми стенами и ультрасовременным оборудованием скрываются все те же равнодушные, уставшие от жизни люди, что и в обычной средней школе. Платишь больше денег, а получаешь ту же самую, только упакованную в красивую обертку, посредственность.
Именно тогда я впервые по-настоящему задумалась о семейном образовании. Спустя полгода, проведённых в этой частной школе-разочаровании, я приняла окончательное решение: забираю детей и сама буду организовывать их образование.
Раздел II. Мои страхи
Глава 4. Выходя из тени. Рождение домашней школы
Мы забрали детей из частной школы, и вот они дома, в конце первого полугодия. Информации о семейном образовании в то время практически не было. Мы знали лишь, что это законно и что детям нужно дважды в год проходить аттестацию. Где именно ее сдавать, кроме как в обычной школе, я понятия не имела.
Страх сжимал сердце. Я боялась, что совершила непоправимую ошибку, выдернув детей из привычной системы. Цена ошибки казалась огромной – их будущее. Тревожные мысли роились в голове, а масло в огонь подливали родители – и мои, и мужа, и даже все друзья и знакомые. Вместо поддержки я ощущала лишь давление и критику, особенно от самых близких.
После очередного душераздирающего разговора с мамой, выслушав все, что она думает о моих материнских способностях и о том, что я ставлю на детях «эксперименты», я не выдержала, бросила трубку и разрыдалась.
Тогда муж обнял меня и с теплой улыбкой сказал: «Ну чего ты убиваешься? Решила послушать родителей? Ты что, не понимаешь, что наши родители далеко не эксперты в вопросах образования детей? Что-то я не припомню, чтобы у тебя или у меня были дипломы Гарварда или Оксфорда!»
Его слова словно отрезвили меня. Я взглянула на ситуацию под другим углом. А чего я, собственно, так боюсь? Ведь последние несколько месяцев дети прекрасно занимаются с репетиторами, усваивают программу гораздо быстрее, чем в школе. Я сама выбираю учителей, подходящих именно им.
И тут меня словно пронзило: пока я тонула в страхах и сомнениях, я не заметила, как стихийно организовала для детей прекрасный образовательный процесс. Им комфортно, они получают знания, радуются жизни. Разве сейчас нужно что-то большее?
Действительно, дети изменились. Дома они расцвели. В их глазах появился огонек, интерес к учебе и к жизни в целом. У них появилось время на свои увлечения, на творчество. Я же, в свою очередь, научилась планировать учебный процесс, находить интересные ресурсы, создавать атмосферу, в которой им хотелось учиться и развиваться.
И знаете, что самое интересное? Те, кто раньше осуждали меня, теперь с любопытством спрашивали: «Как вы учитесь?», «А что, так вообще можно?», «А может и нам попробовать?».
Некоторые наши знакомые даже решились последовать нашему примеру.
Тогда я окончательно осознала: страх – это не враг. Это всего лишь сигнал о том, что мы выходим за привычные рамки, ступаем на неизведанную территорию. Если ты испытываешь страх, значит, ты стоишь на пороге чего-то действительно важного. И это не повод отступать, а, наоборот, мотивация двигаться вперед.
Глава 5. «А как же социализация?» Разрушая оковы школьных стереотипов
Критика долго не стихала, словно назойливый зуд. Но каждая колкость лишь закаляла меня, утверждала в правильности выбранного пути, наделяла даром убеждения. И вот какой парадокс: ни одно из этих язвительных замечаний не выдерживало столкновения с реальностью! Стоило мне заговорить о качестве знаний, о комфортном для детей темпе, как неизменно возникал один и тот же вопрос-заклинание:
– А как же социализация?
Он преследовал, словно тень: от родных и знакомых до случайных прохожих. В ответ я вопрошала:
– А что, по-вашему, есть социализация?
Чаще всего люди сводили все к общению, упуская всю глубину и многогранность этого понятия.
Но социализация – это не просто набор контактов. Это глубинное понимание окружающего мира, осознание себя его неотъемлемой частью, уважение к установленным правилам и личным границам, умение конструктивно взаимодействовать с самыми разными людьми.
Говоря простым языком, социализация – это постижение искусства жизни в обществе. Это усвоение правил, норм, ценностей и обычаев, принятых в нашем окружении, и овладение навыками взаимодействия с другими людьми. Социализация – это непрерывный процесс, пронизывающий всю нашу жизнь: она происходит и дома, и в магазине, и в парке, и в гостях, в интернете, в спортзале, даже в тесном салоне такси!
Этот процесс начинается с первым вздохом и не прекращается до последнего. Разве новорожденный, окруженный коконом любви и заботы, не проходит свой первый урок социализации? Разве малыш, делающий первые шаги и адаптирующийся к неизведанному миру, не социализируется? Так стоит ли утверждать, что отказ от школы – это «отмена» социализации?
Я всего лишь вывела детей из школьных стен, а не отправила их отшельниками в глухую тайгу, не отрезала от мира. Я просто выбрала иной путь, который, как оказалось, гораздо шире и увлекательнее, чем многие привыкли думать.
Социализация ≠ Коммуникация
Уверена, что большинство вопрошающих о социализации в действительности имели в виду коммуникацию: «Будут ли они общаться со сверстниками? Как они заведут друзей?»
С переходом на семейное обучение мои дети стали общаться даже больше! Случайные встречи в парке, занятия с тренерами и репетиторами, приятели во дворе – все это органично вплелось в канву их жизни. И самое ценное – теперь они сами выбирали, с кем проводить время, по велению сердца, а не по принуждению.
Дружба вне школьных парт.Бытует ошибочное мнение, что без школы дети обречены на одиночество. Но, как оказалось, у нас все вышло с точностью до наоборот! Они научились дружить более осознанно.
В секциях и кружках их объединял общий интерес, страсть к одному делу. Им было гораздо проще находить общий язык, ведь у них была общая цель, а не просто случайное соседство за партой.
Так рождались настоящие связи – те, где хочется быть рядом с человеком, потому что комфортно и есть общие увлечения, а не потому, что связывают обстоятельства.
Школьная дружба.Конечно, у детей были друзья и в школе. Но со временем, после перехода на домашнее обучение, эти нити стали слабее. Я заметила, что школьная дружба часто произрастает из соседства, а не из осознанного выбора. Детей объединяло местоположение, а не общие взгляды.
Когда же ребенок сам решает, с кем делить время, дружба расцветает, становится глубже и осмысленнее. Именно поэтому я не тревожусь за коммуникации своих детей. Они не одиноки. Просто их общение стало более подлинным, чем формальным.
Общение со взрослыми.И еще один важный штрих: мои дети перестали трепетать перед взрослыми. Занимаясь с репетиторами тет-а-тет, они могли свободно задавать наивные вопросы, не бояться ошибиться, посмеяться над собой, не опасаясь осуждения.
У них не развился комплекс перед всезнающим «авторитетным педагогом». Они привыкли воспринимать взрослого не как источник давления, а как партнера, с которым можно открыто и свободно делиться мыслями. Это взрастило в них уверенность в себе.
Глава 6. Подрезанные крылья
Я смирилась с критикой в свой адрес, она перестала меня задевать. Но была одна рана, которая кровоточила долго и мучительно – нападки на моих детей, пока меня не было рядом. Я чувствовала себя бессильной, словно птица с подрезанными крыльями, не способная оградить птенцов от жестокого мира. Почти каждый день они возвращались домой с одинаковыми историями, полными недоумения и детской обиды. Взрослые, узнав, что ребенок не ходит в школу, смотрели на него, как на диковинную зверушку в зоопарке, и почему-то считали себя вправе устраивать экзамены, даже не подозревая, насколько нелепо выглядят сами в эти моменты.
Приведу один пример, врезавшийся в память осколком стекла. У сына был товарищ, и мальчики часто гостили друг у друга. Однажды мама этого мальчика, узнав об Андрее и репетиторах, вдруг обрушила на него шквал вопросов: «Назови формулу воды! Кто написал "Войну и мир"?» Мой семиклассник сначала решил, что это шутка, ведь ответы он знал еще с начальной школы. К слову, в четвертом классе он сам попросил купить ему «Войну и мир», завороженный моими рассказами о классике. Андрей просто улыбнулся, а маме друга этого хватило, чтобы сделать «гениальный» вывод о его скудных знаниях и тут же поделиться им с моим сыном, не забыв блеснуть собственной эрудицией.
Сын пришел домой расстроенный. «Мам, – сказал он, – я подумал, что мама Коли шутит, и не стал отвечать на ее вопросы. А она, наверное, решила, что я не знаю ответов. Я просто не мог представить, что она будет спрашивать такие элементарные вещи, чтобы меня проверить!»
Я обняла его. «Ты не должен никому ничего доказывать, – сказала я. – Взрослые порой ведут себя хуже детей».
Когда мои надежды на то, что эта ситуация когда-нибудь изменится, разбились вдребезги, я перестала ждать чуда. Я просто начала учить детей не обращать внимания на колкости взрослых. И знаете, что удивительно? Со стороны сверстников такого никогда не было. Дети всегда с неподдельным интересом расспрашивали о подробностях домашнего обучения, а потом вздыхали: «Вот бы и мне так учиться, чтобы в школу не ходить!»
Мне пришлось объяснить детям горькую правду: мы, взрослые, порой бываем злее, жестче и глупее, чем дети. И поэтому не стоит смотреть на нас, как на небожителей.
Раздел III. Юридические и Финансовые Аспекты
Глава 7. Закон – мой щит
Позвольте поведать о еще одной проблеме, от которой меня, к счастью, уберегло лишь прошлое в органах внутренних дел и неплохое знакомство с российским законодательством. Но она, словно злой рок, преследовала все знакомые мне семьи, избравшие домашнее обучение. Нападки со стороны государственных служащих, тех, кто казалось бы, призван чтить и оберегать закон, повергали родителей-семейников в пучину стресса. Представители образования и силовых структур – вот кто становился причиной наших тревог.
Однажды дочь, играя на детской площадке, получила травму. А после любого подобного случая полиция обязана провести проверку, чтобы исключить криминальную составляющую. И вот, к нам домой явился сотрудник ОВД. Как только в объяснении я обмолвилась, что дети не посещают школу, лицо его мгновенно изменилось. «На каком основании ваши дети обучаются дома?» – прозвучал вопрос, словно гром среди ясного неба.
Я ответила резко, но уверенно: «Вам, как сотруднику, чья работа связана с несовершеннолетними, должно быть стыдно не знать о такой форме обучения. Законы моей страны дают мне право выбирать форму образования для моих детей, и я хотела бы знать, кто наделил вас полномочиями оспаривать и противоречить законам Российской Федерации?»
Сотрудник, опешив, не стал продолжать спор. Взяв объяснения, он удалился, больше не поднимая эту тему. Мужу я наказала: впредь, общаясь с представителями государственных структур, не упоминать о домашнем обучении детей, дабы не навлекать на себя гнев и непонимание чиновников. Он, в отличие от меня, не мог так же уверенно отражать подобные нападки.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.