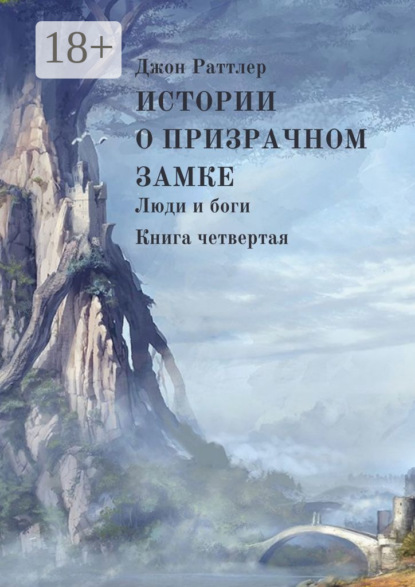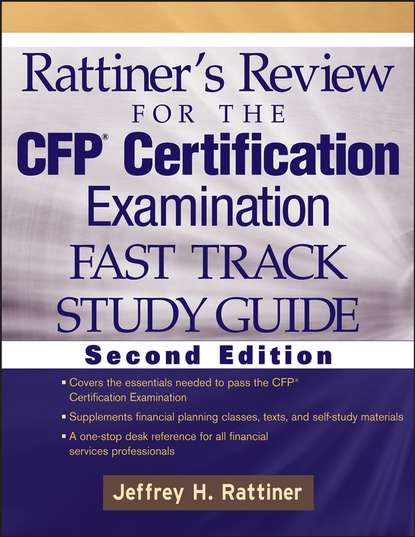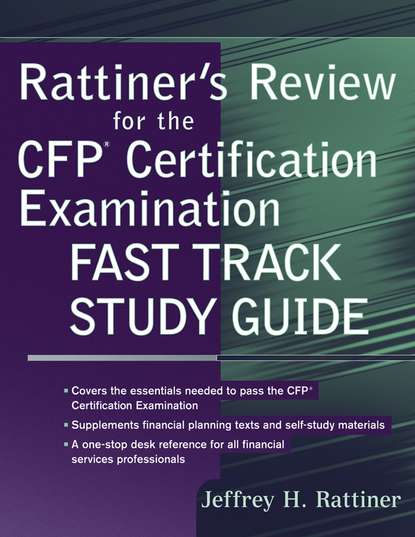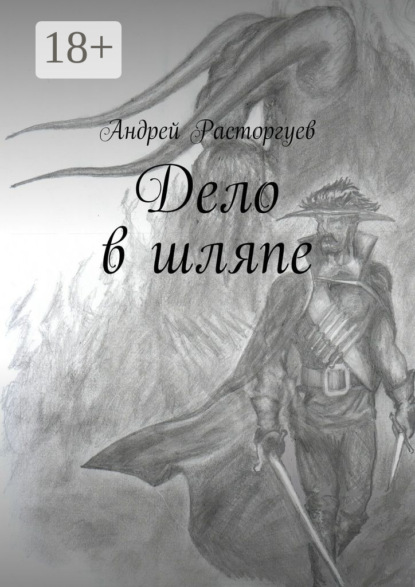От сказки к музыке. Опыт использования сказки в работе музыкального терапевта
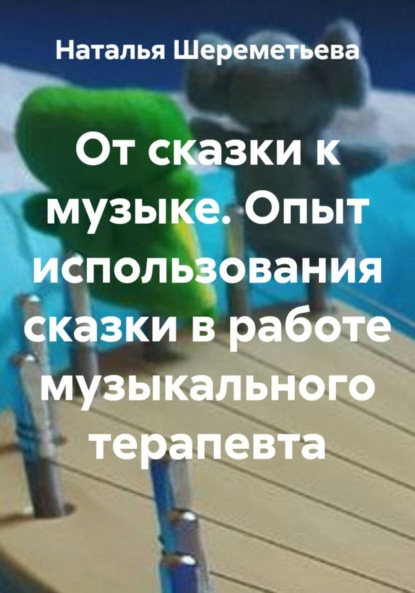
- -
- 100%
- +
Так, например, процесс открытия двери в комнату, переход из одного пространства в другое может вызывать у ребёнка сильнейший страх. Слова взрослых о том, что он там будет «играть и петь», для него иногда абсолютно ничего не означают и никак не соотносятся с тем, что он когда-то и где-то играл и пел или слушал пение и ему это нравилось. Зато он знает, что в новых комнатах его обычно заставляют что-то делать, утомительное, непонятное, неприятное. Он уже заходил в новые комнаты. Например, в поликлинике. Так же открывалась дверь, а дальше начинались просто ужасающие для ребёнка вещи: врач давил на язык деревянной палочкой, надо было сидеть на месте, не открывая двери шкафов, что совершенно непереносимо…Или же его пытались затащить в музей или театр, где было громко, толпились люди (закрывая в том числе «дорогие сердцу» двери)… Да, вероятно, этот самый ребёнок когда-то в больнице не отходил от фортепиано (бывают замечательные больницы с музыкальными залами) или дома есть гитара, на которой иногда играют взрослые (бывают такие замечательные взрослые). Но в тот момент, когда ребёнок заходит в новое пространство, для него уже не существует прошлого (он видел раньше гитару) и будущего (он через секунду на ней поиграет), иначе, нет непрерывности опыта в этот момент. Он только испытывает невыносимое эмоциональное состояние, описать которое и рассказать о котором он не в силах. Справиться с этим непереносимым состоянием он также не в силах и теряет контакт с реальностью, буквально «стирает» её, полностью исчезая в крике и плаче.
Но так бывает не всегда. Допустим, черты РАС у конкретного ребёнка позволяют ему иногда даже одному зайти в музыкальную комнату и подойти к столу с музыкальными инструментами. Для ребёнка с РАС эти предметы, часто, просто некоторые предметы в хаотичном мире и пространстве, которое в его сознании буквально разваливается на части.
Он может по-разному справляться с этой ситуацией. Существует множество вариантов того, как ребёнок будет держать этот предмет в руках и что будет делать с ним с той или иной целью.
Например, он возьмёт трещотку в одну руку и начнёт долго и однообразно трясти её, получая приятные для него мышечные и слуховые ощущения и отсекая возможность получения более целостной информации об этом инструменте и его возможностях.
Потребуется долгое время, чтобы он в контакте (который ещё нужно установить) с педагогом освоил правильное действие и трещотка для него обрела определённое значение, как музыкальный инструмент, игра на ней «обросла» бы смыслом, и всё это было бы включено в имеющуюся картину мира, в систему представлений. Которая, кстати, лишь в редких случаях выстроена у аутичного ребёнка. Так, например, одна девочка, которую я в конце занятия спрашивала, на каких инструментах она сегодня играла, называла мне ту или иную песню, которую она пела во время игры на этом музыкальном инструменте. Только к концу месячного курса занятий она стала правильно называть инструмент и в её сознании разделились песни и инструменты, как два разных класса понятий.
Возможен и другой вариант: ребёнок возьмёт в руки трещотку, которую ему дал педагог, и заиграет правильно, или сам, или повторяя за педагогом. И как только педагог положит трещотку, её положит и ребёнок в ожидании следующей «инструкции». Он повторит практически всё в рамках свои моторных и интеллектуальных возможностей, потому что «повторяй» – это тот способ взаимодействия с миром, которому всегда уделялось значительное внимание окружающими взрослыми. Но это повторение не наполнено жизнью. Это будет видно впоследствии, на контрасте с тем же ребёнком, когда он будет уже эмоционально вовлечён в деятельность. Это заметно и на контрасте с другим аутичным ребёнком, который (да-да, бывает и так) проявляет интерес к окружающему.
Бывает и так, что аутичный ребёнок способен в силу моторного и интеллектуального развития играть на трещотке и понять, что трещотка – это музыкальный инструмент, как и фортепиано, на котором он учится играть. Но для него это не столь важно. Он не будет играть на трещотке под пение педагога и откажется выполнять все предложенные виды действий с трещоткой…кроме того, который связан с его специальными интересами. Например, одна девочка согласилась взять трещотку в руки только после того, как я стала сравнивать её с разными предметами. Девочка с лёгкостью поняла мою мысль и придумала, как взять трещотку, сложить деревянные пластиночки, так чтобы с помощью трещотки изобразить юбку, брюки, чёлку – причём примеры придумывала она сама. А дело в том, что эта девочка очень хорошо рисовала и была крайне внимательна к внешнему облику предметов. Отсюда и специфический способ познания.
Думаю, что из сказанного легко сделать вывод о том, какое множество непростых задач должно быть решено в процессе музыкальной терапии: установление и выстраивание контакта между ребёнком и терапевтом, между ребёнком и пространством, между терапевтом и ребёнком, действующим в пространстве, создание условий для того, чтобы ребёнок «собрал» происходящее в целостный образ, включил его в свой жизненный опыт. И это снова – о гармонии.
Потому музыкально-терапевтические занятия с особым ребёнком – это в редких случаях исключительно музыкальные занятия. И далеко не всегда установление контакта с ребёнком происходит через музыку. Разнообразие детей с РАС побуждает к поиску разнообразных методов, поиску баланса между интуитивным и рациональным. Огромную роль приобретают при этом методы творческие, импровизационные, для которых характерно то, что на основе имеющихся у нас знаний и опыта способны мы создавать практически бесконечные вариации возможных реакций на ситуацию. Причём часто при этом мы буквально не знаем, что будет происходить в следующую секунду.
Откуда берутся сказки
…Музыкальная терапия – это искусство, основанное на глубоких знаниях, на умении за видимым явлением понять суть проблемы. Такое умение – основа музыкальной диагностики. Диагнозы типа РАС, ДЦП, ЗПРР очень мало могут помочь музыкальному терапевту в работе. А вот внимательное наблюдение за походкой, позой, интонацией голоса, способом звукоизвлечения на музыкальном инструменте не только расскажут о состоянии человека, но и помогут найти адекватные «музыкаменты».
Т.К. Степанова, «Ритм и такт. Основы антропософской музыкальной терапии»
Для меня одним из средств создания и развития терапевтических отношений на занятиях является сочинение текстов – историй. Представленные в данной брошюре тексты наиболее напоминают сказки. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, сказка – это «повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил». В историях, которые я рассказывают детям, разговаривают музыкальные инструменты и мягкие игрушки, дружат люди и природные стихии. Волшебства предостаточно.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.