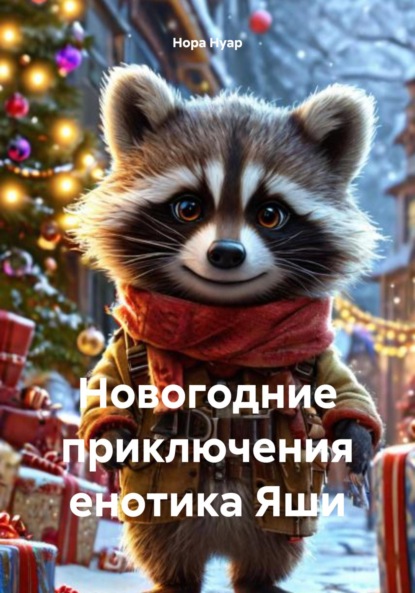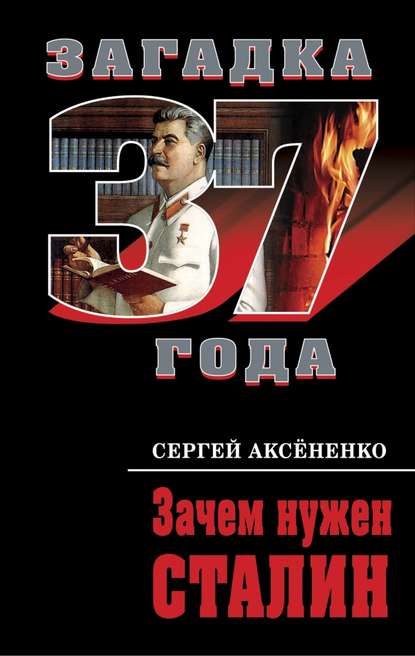- -
- 100%
- +

Пролог
2023 год. Нью-Йорк. Кабинет на 34-м этаже небоскрёба
Тишина здесь была не отсутствием звука, а отдельной сущностью – звенящей, плотной, как воздух перед грозой. Мягкий свет настольной лампы играл в полумраке, выхватывая из теней массивное кожаное кресло, словно трон из забытой эпохи. В нём сидела женщина, чьё лицо казалось палимпсестом: под тонким слоем современности проступали черты Богданы, Эмили, Елены… Её звали Эмма, но это имя – лишь верхний лист в стопке судеб. Глаза, цвета штормового моря, хранили отблески костров инквизиции, шелест кринолинов, запах пороха и полыни.
Доктор Линда Мюрей, чья седина напоминала иней на витражах, отложила ручку. Инструмент науки замер, будто чувствуя неловкость перед тем, что сейчас услышит. За годы практики она встречала бред величия, паранойю, диссоциативные расстройства. Но Эмма… она дышала историей, как архив, чьи папки распахнулись разом.
– Доктор, мне нужна помощь, – голос Эммы звучал как скрип пергамента, будто её связки помнили языки, давно канувшие в Лету. – Я… пережила слишком много. Но не в метафорическом смысле.
Линда кивнула, пальцы машинально вывели в блокноте: «Клинический бред? Диссоциативная фуга? Множественная личность?» Её рациональный ум цеплялся за диагнозы, как альпинист за крючья, но что-то глубже шептало: «А если…»
– Я помню… всё. – Эмма провела ладонью по подлокотнику, у Линды внезапно возникло ощущение, что кожа кресла всколыхнулась, превратившись на миг в бархат средневековья. – Каждую жизнь. Каждую смерть. Каждую месть.
В кабинете запахло дымом. Не метафорическим – терпким, едким. Линда сжала ручку, словно крест. На столе заиграл бликами хрустальный шар-пресс-папье (подарок пациентки-экстрасенса), отражая в гранях десятки лиц Эммы: Богдана в цыганской юбке, вышитой звёздами… Эмили в корсете, стиснувшая кинжал в складках платья… Елена с пальцами, испачканными мелом и чернилами…
– Расскажите о самом начале, – Линда слышала, как её голос звучит неестественно, будто его перевели на древнегреческий и обратно через Google Translate.
Эмма улыбнулась – улыбкой, которой могла бы приветствовать палача.
– Начало? Вы уверены, доктор? – Она наклонилась вперёд, и тени на стене за её спиной сложились в крылья. – Тогда приготовьтесь. В 1488 году меня сожгли на костре…
Глава 1
1488 год. Земли Восточной Европы
Я помню, как воздух в тот час звенел, будто хрустальный колокольчик – холодный, острый, напоённый горечью прошлогодней листвы и сладковатой дрожью оттаявшей земли. Это был запах перерождения, вечного круговорота, который бабушка Мара называла «дыханием Вечного Колеса». Я стояла на краю, там, где наш табор встречался с лесом, и вдыхала его полной грудью, пока лёгкие не разрывались от этой свежести.
Дым от костра поднимался к небу тонкой спиралью, будто душа земли, пойманная между ветвей. Всего два дня – а потом снова в путь, на юг, где дороги пахнут миндалём и чужими обещаниями. Мне тогда исполнилось семнадцать, но в груди уже жила тяжесть, которую не объяснить годами. Будто кто-то вложил в меня свиток с чужими судьбами, и я носила его вместо сердца.
Волосы – чёрные, непокорные – всегда выскальзывали из кос, цепляясь за ветки, как будто сам лес хотел удержать меня. Бабушка смеялась: «Ты, Богдана, как река – течёт, куда захочет, даже камни точит». Алая повязка жгла лоб, напоминая: ты не просто девчонка, ты звено в цепи. Цепь, что тянулась от праматерей, знавших язык волков и шёпот звёзд.
Тот сон… Огонь лизал пятки, а мороз сковывал пальцы. Лицо в дыму – невидимое, но знакомое до мурашек. Проснулась со смехом и дрожью в животе, будто проглотила мотыльков. Мара, разминая коренья у костра, бросила взгляд:
– Сны цыганок – не просто картинки, дитя. Это письма. Иногда – предупреждения.
– От кого? – спросила я, хотя знала ответ. – От нас же. Только тех, что ещё не родились.
Травы. Нужно собрать дудник и чабрец, растущие у Старого Камня. Башмаки скользили по мху, бесшумно, будто я – тень между берёз. Лес принимал меня, как принимает ручей родную рыбу: ветви расступались, птицы замолкали не от страха, а из уважения. Здесь я была не гость, а часть узора – прожилка в листе, трещина в коре.
Рука сама находила нужные стебли – пальцы помнили то, чего не знала голова. Мара говорила, что травничество – это разговор. Ты просишь, земля даёт. А взамен оставляешь прядь волос или каплю крови. Я всегда оставляла песни – тихие, на том языке, что звенел в ушах после длительного молчания.
Когда вышла на поляну, солнце било в глаза, и на миг показалось – в воздухе дрожит силуэт. Высокий, в плаще цвета грозовой тучи. Я моргнула – пусто. Но спина покрылась потом, будто пробежала между мирами.
«Не всякий огонь согревает», – эхом отозвалось в груди. Я сжала пучок чабреца, и его горький аромат смешался с запахом грозы. Тогда я ещё не знала, что это пахнет будущим.
Тишину разорвали, как гнилую ткань. Сперва лай – острый, как зубья капкана, потом грохот копыт, что били в землю, словно молотки по наковальне судьбы. Я прилипла к дубу, чувствуя, как кора впивается в ладони. Не страх – нет, что-то щекотало под рёбрами, будто я проглотила искру.
Борзые вылетели из чащи, морды в пене, глаза – угли ада. А за ними… Конь. Чёрный, как бездна между звёздами. А всадник – будто сама ночь обрела плоть. Плащ его хлестал по воздуху, вышитый узорами, что напоминали мне руны на бабушкиных склянках. Волосы – точь-в-точь мои, но гладкие, будто отполированные чужими страхами.
Он посмотрел. Глаза – два осколка льда, пронзившие насквозь. В груди зажглось: не боль, а будто кто-то провёл раскалённой иглой по нервам. Жеребец вздыбился, и я вдруг поняла: это не конь. Тень. Тень от крыльев, которых нет.
– Цыганка? – Его голос лился, как мёд с бритвой внутри. – Гадалка заблудилась?
Я вдохнула запах его кожи – дорогое мыло, конская сбруя и что-то ещё… Серу? Или просто кровь заиграла в висках.
– Богдана, – выдохнула я, будто бросала вызов. – Травы для бабушки собираю. А ваши псы оленей распугали.
Он рассмеялся, и звук этот был похож на лязг цепи. – Олени? Милая, я охочусь на дичь поинтереснее.
Его пальцы коснулись моей пряди волос. Кожа пахла снегом и дымом. Где-то сзади послышался кашель – люди в бархате, с лицами, как у голодных куниц.
– Леопольд Миловинг, – представился он, будто давал мне нож. – А ты стоишь на моей земле.
Я вспомнила, как Мара учила: «Когда говорят с позиции власти – смейся. Сила боится смеха».
– Земля – Божья, – сказала я, глядя ему в глаза, цвета весеннего льда – но мы все в ней – черви на крючке.
Он замер. Потом губы дрогнули в улыбке, от которой стало жарко внизу живота.
– Дерзкая… – Шёпотом, будто признавался в грехе. – Но красивая. Как роза, что режет пальцы.
Его свита зашепталась. Старик со шрамом вскрикнул: «Милорд, охота!», но Леопольд лишь провёл ладонью по моей щеке. След горел, будто там проступила руна.
– Ты прочтёшь мою судьбу? – спросил он, уже отходя.
Я не ответила. Знала – наша нить уже сплелась. Когда он ускакал, я прижала ладонь к груди. Под кожей билось что-то новое – не сердце, а пепел от костра, что ещё не разожгли. Дым табора вдалеке изогнулся в знак, который Мара называла «петлёй судьбы». Я рассмеялась. Смеялась, пока слёзы не потекли по шее. Огонь, говорила бабушка, бывает разный. Этот – пахнет кровью и миррой.
И я уже горела.
2023 год. Нью-Йорк. Кабинет на 34-м этаже небоскрёба
Блокнот выскользнул из пальцев, упав на ковёр с глухим стуком. Линда не заметила, как вцепилась в подлокотники кресла – суставы побелели, будто кость прорвала кожу. Воздух в кабинете сгустился, пропитанный запахом, которого здесь не могло быть: дым костров, пот и сбруя лошадей, горьковатый привкус страха на языке.
Она моргнула, и на сетчатке остался отпечаток – силуэт всадника за спиной Эммы, чьи пальцы в блеске перстней сжимали невидимые поводья. Галлюцинация. Недостаток кофеина. Профессиональное выгорание. Рациональные объяснения выстроились в ряд, как солдаты на параде, но дрожь в солнечном сплетении не унималась.
– Вы… – Голос сорвался, пришлось отпить воды из стакана, где лёд уже растаял, оставив круги на стекле. – Вы описываете это так, будто… заново проживаете.
Эмма наклонилась, и тень от её ресниц легла на скулы зловещим узором.
– Доктор, – её шёпот напомнил шелест старинных страниц, – а вы никогда не чувствовали, что ваша кожа – всего лишь пергамент? Что под ней написаны истории, которые вы боитесь прочесть?
Линда машинально потянулась к кулону на шее – позолоченная подкова, подарок матери на совершеннолетие. Металл вдруг обжёг пальцы.
– Я…не думала… – Каблуки впились в ковёр. На столе вибрировал телефон. Уведомление от приложения Mindful Psychiatrist: «Не забывайте: эмпатия не соучастие. Границы важны!»
– Ваши метафоры… яркие, – выдавила Линда, собирая рассыпавшееся профессиональное «я» по кусочкам. – Но давайте вернёмся к симптомам. Когда впервые…
Эмма рассмеялась. Звук колокольчиков с примесью скрежета стали. За её спиной тени на стене дёрнулись, сложившись на миг в фигуру с рогами.
– Вы спрашиваете, как будто это болезнь. – Она провела рукой по кожаной обивке кресла и тяжело вздохнула.
– Сессия… завершена, – собравшись с мыслями, сказала Линда, нажимая кнопку вызова ассистента. Голос дрожал, выдавая всё. – Жду Вас в следующий понедельник в это же время. Но вам… сто́ит пройти МРТ. И анализ на шизофренические маркеры.
Эмма встала, плавно, как дым.
У двери обернулась: – Я не буду делать МРТ, доктор. До встречи в понедельник.
Глава 2
2023 год. Нью-Йорк. Jacob Javits Center
В следующий понедельник Эмма выступала на конференции в Jacob Javits Center. Стеклянные стены пропускали свет, режущий глаза, как бритва. Она говорила о «гармонии стали и воздуха», а в голове отзывался обрывок из 1605-го: «Гармония пороха и искры». Зал аплодировал, но она слышала только эхо собственных речей за шесть столетий – все они заканчивались пеплом.
Он подошёл, когда она поправляла микрофон. Запах первым ударил в сознание – не дорогой парфюм, а сосновая смола и мокрая земля. Как тогда, в лесу.
– Ваш проект… – он замялся, поправляя очки в роговой оправе. – Он напоминает мне старую легенду.
Эмма обернулась медленно, как всегда, давая себе время собрать маску. Но маска сползла, когда она увидела его глаза. Не лёд – аквамарин под солнцем. Тот же разрез, но без тени высокомерия.
– Легенды – не моя специализация, мистер…
– Стюард. Эндрю. – Он протянул руку. На ладони – царапины от растений, полузаживший порез. Рука Леопольда была гладкой, в перстне с фамильным гербом. – Я о том, как в древних городах сады выращивали на крышах храмов. Чтобы боги не забыли, что такое жизнь.
Она не взяла его руку. Прикосновения мужчин последние сто лет вызывали тошноту. Но Эндрю не смутился, улыбнувшись так, что ямочки на щеках стали глубже.
– Вы сажаете деревья в бетон, – сказала Эмма, надевая перчатку-безразличие. – Благородно. Бесполезно, но благородно.
Он рассмеялся. Звук – тёплый, с трещинкой, будто старый винил. – Бесполезность – лучший мотиватор. Как иначе объяснить, что мы всё ещё дышим?
В горле запершило. Дышим? Она давно не дышала – существовала, как автомат, вдыхая пыль архивов собственной памяти. Эндрю достал блокнот, испещрённый набросками: дубы, пробивающиеся сквозь асфальт, лианы на фасадах банков.
– Вот, – он ткнул карандашом в эскиз. – Представьте: на месте этой парковки – роща. Дубов, клёнов. А здесь… – палец скользнул к чертежу её башни, – вместо ваших «стальных лепестков» – теплицы. Чтобы каждый, кто заходит, вспоминал: мы всё ещё часть чего-то большего.
Эмма сжала кулаки, чувствуя, как под ногтями проступает знакомая тяжесть. Кинжал. Порох. Спичка. Но вместо ярости пришла усталость. Она ждала, когда в груди закипит ненависть, желание сломать этого наивного мечтателя… Но ничего. Только пустота, и в ней – странная щемящая нота.
– Вы идеалист, мистер Стюард, – произнесла она, отворачиваясь к своему макету. Башня из стекла и стали резала небо, как клинок. – Города – это раны на теле земли. Ваши деревья – всего лишь пластырь.
– Пластырь лучше, чем гной, – парировал он, не отводя взгляда. – А ещё… – он наклонился, и в его дыхании пахло мятной жвачкой и дерзостью, – я вижу, вы тоже верите в красоту. Иначе зачем так тщательно прятать её под металлом?
Эмма замерла. В зеркальных стенах зала отражались их силуэты: её – чёрное платье, острые углы, он – растрёпанные кудри, свитер с выгоревшим рисунком. Как Икар и Дедал, мелькнуло в голове. Но кто из них обречён сгореть?
– Красота убивает, – сказала она автоматически. Фраза из 1793 года, сказанная любовнику перед тем, как подписать ему смертный приговор.
– Только если делать из неё идола, – Эндрю закрыл блокнот, глаза вдруг стали серьёзными. – А если позволить ей просто… быть…
Звонок прервал их. Эмма вздрогнула – оказалось, это её собственный телефон. Новое сообщение: «Напоминание: сеанс у доктора Мюрей в 17:00». Она судорожно сунула гаджет в сумку, вдруг осознав, что стоит слишком близко. Его тепло проникало сквозь ткань костюма, напоминая о том, как снег тает на ладони.
– Мне пора, – выдохнула она отступая.
– Подождите, – Эндрю достал из рюкзака мятый пакетик с семенами. – Берёза. Посадите на балконе. Для… баланса.
Семена лежали на её ладони, крошечные, сморщенные. Она сжала их, чувствуя, как острые края впиваются в кожу.
– Они не вырастут в бетоне, – сказала Эмма, но он уже уходил, обернувшись на прощание: – Вы удивитесь, что может пробиться сквозь трещины.
В такси она разжала пальцы. На семенах остались следы крови – царапина от ногтя. Его кровь? Нет, моя. Всегда моя.
Телефон завибрировал. Неизвестный номер. Сообщение: «Это Эндрю. Я нашёл ваш контакт в программе конференции. Вы не против, если я пришлю эскизы тех теплиц?»
Эмма закрыла глаза. В темноте вспыхнули образы: Леопольд на коне, Эндрю в свитере, бабушка Мара у костра. Цепь. Песок. Росток.
Она набрала: «Присылайте». И добавила: «Но я предупреждала – пластыри не работают».
Ответ пришёл мгновенно: «А я верю в чудеса сквозных ран».
За окном промелькнул билборд: «Reborn Spa – новое тело, новая судьба!» Эмма усмехнулась. Судьба, похоже, наконец-то решила пошутить.
Глава 3
2023 год. Нью-Йорк. Кабинет на 34-м этаже небоскрёба
Кабинет пахнул лавандой и ложью. Линда специально зажгла ароматическую свечу – «для релаксации», как советовал журнал для психиатров. Но Эмма, сидя в кресле‑троне, вдыхала этот запах и вспоминала, как в 1894 году лавандовое поле стало местом её первого раскаяния после мести очередному потомку Миловинга. Она впервые позволила себе плакать, пока ветер уносил слёзы вместе с ароматом цветов. В тот миг она поняла: каждое её «возмездие» лишь множило тьму, а не гасило её. И всё же – было ли у неё выбор?
– Он другой, – начала Эмма, не дожидаясь вопроса. В окне за её спиной гасло солнце, окрашивая стену в багрянец. – Не лезет с комплиментами. Не суёт визитку в декольте. Даже… – она усмехнулась, – спросил разрешения прислать сообщение.
Линда записывала что-то в блокнот, но строчки путались: «Трансфер? Контрперенос?» Ночной кошмар не отпускал – она в платье XIX века, бежала за чёрным всадником, а в руке сжимала ручку и блокнот.
– Вы испытываете к нему… симпатию? – осторожно спросила доктор.
Эмма повертела семена на ладони. В щелях паркета словно показались тени – крошечные корни или игра света?
– Симпатия. Милое слово. Как конфетка в фольге. – Она щёлкнула ногтем по семечку. – Он говорит о деревьях как о друзьях. Предлагает спасти мир красотой. Смешно, да?
– А вам хочется… его спасти? – Линда поймала себя на том, что перевела взгляд на кулон-подкову. Металл был холодным, но ей вдруг показалось, что он пульсирует.
Эмма засмеялась. Звук рассы́пался осколками.
– Спасать? Я ломаю. Ломаю веками. Но он… – она замолчала, впервые за сессию, – он носит свитер с оленями. Говорит «спасибо» официантам. Плачет над старыми деревьями, которые рубят под мои проекты.
Линда почувствовала, как воздух стал густым. На стене кабинета, за спиной Эммы, тень вдруг ожила: на стене проступил смутный силуэт с изогнутыми рогами. Галлюцинация. Недостаток сна.
– Возможно, это шанс, – прошептала Эмма, больше себе, чем доктору. – Прервать цепь.
– Цепь? – Линда уронила ручку. Та покатилась под кресло.
Неожиданно Эмма наклонилась, чтобы поднять её, и её волосы закрыли лицо, словно вуаль.
– Каждое перерождение он приходит – князь, банкир, офицер… А я – его погибель. Но теперь… – она разжала ладонь, показывая семена, – он предлагает не завоевать, а вырастить.
Тень за её спиной вытянулась, коснувшись потолка. Рога стали чётче. Линда вжалась в кресло.
– Вы верите, что он… тот же человек? – голос дрогнул.
– Души, доктор, как реки. Меняют русло, но источник один.
1488 год. Земли Восточной Европы. Около замка Миловинг
– Позвольте, я продолжу свой рассказ, доктор.
Я помню, как серебряная монета обожгла ладонь. Не весом, а символом – будто он купил право на мой вздох. Замок Миловинг высился за спиной, как каменный страж, а я танцевала, чувствуя, как барабанный бой сливается с пульсом в висках. Его глаза – два кинжала в бархатных ножнах – резали толпу, добираясь до меня. Леопольд.
«Ты заставляешь меня забыть о бренности мира», – сказал он, а я услышала: ты – моя новая игрушка. Но тогда, в семнадцать лет, я верила в сладкий яд его речей. Ночью, пробираясь мимо спящих повозок, я думала: он видит меня. Настоящую. Босые ступни впитывали холод земли, а сердце стучало: «Свобода, свобода, свобода».
Под старой липой, где кора была иссечена нашими именами, он дарил шелка. Материя шипела на моей цыганской коже, будто стыдясь нищеты. «Ты достойна большего», – целовал он шею, а я глотала слова, как голодная – крохи с барского стола. Бабушка Мара мазала мне виски полынью: «Слышишь, как вороны кружат над замком? Они чуют смерть». Но я плела венки из лютиков – жёлтых, как золото его перстней.
Он читал мне стихи о рыцарях, а я притворялась, что не замечаю, как его рука сжимает мой браслет – дешёвую подделку. «Я научу тебя читать», – обещал Леопольд, но буквы в его книгах казались мне цепями. Моими песнями он упивался, как дикарским вином, а потом требовал ещё. «Спой о любви, Богдана. О той, что убивает».
Туманное утро. Роса на его плаще блестела слезами. «Скоро нас будет больше», – прошептала я, вкладывая его ладонь себе под ребро. Он отпрянул, будто обжёгся. «Дитя?» – его голос треснул, как пересохшая глина. Вместо радости – пауза. Долгая. Как петля на шее.
«Я всё устрою», – сказал он на прощание. Но в замке уже горели огни. Слуги шептались, встречая мой взгляд каменными лицами. Теперь-то я знаю: «устроить» для них значило вырвать сорняк. Меня.
– Он вернулся с солдатами на рассвете, – Эмма говорила ровно, будто пересказывала чужой сон. – Сказал, что в таборе украли фамильную печать. Они обыскали повозки. Особенно мою.
Она провела пальцем по шраму на запястье – тонкому, как нить паука.
– Когда вырвали ребёнка из моего чрева, бабушка Мара пела. Песню смерти. А я… – её голос дрогнул впервые за сессию, – я смотрела, как Леопольд стоит в дверях. С перчатками. Чтобы не запачкать руки.
Линда почувствовала, как по спине пробежал холодок. В углу кабинета тень от фикуса внезапно вытянулась, приняв форму всадника.
– После этого… через три дня, – Эмма повернула кольцо на пальце – серебряное, с шипами, – я нашла его в библиотеке. Читающим стихи новой дурочке, только из знатного рода. С голубыми глазами и светлыми волосами.
– Я вплела свои волосы в её подушку. Через месяц она задохнулась во сне. – Она посмотрела на Линду без тени сожаления. – Это была моя первая месть.
Дождь стучал в окна кабинета Линды, словно пытаясь вымыть следы проклятия из воздуха. Эмма замолчала, её пальцы сжали подлокотники кресла так, что кожа побелела.
– Он узнал об этом, и он уничтожил всё, что было мне дорого. Он сжёг наш табор, наш дом, наш мир. Бабушка Мара погибла в том огне. Она пыталась спасти других, но не успела. Многие еле унесли ноги, а кто-то остался там навсегда.
– А на следующий день, я помню тот день, как будто это было вчера. Я стояла на коленях перед судилищем, а три мрачные фигуры в чёрных рясах смотрели на меня с презрением. Они обвиняли меня в колдовстве, ереси и сговоре с дьяволом. Но я молчала. Я искала его взглядом и нашла. Леопольд Миловинг стоял в стороне, холодный и отрешённый. В его глазах не было ни капли сожаления. Только страх и облегчение. Он бросил меня на растерзание толпе, чтобы спасти себя. И в этот момент моя душа, так искренне верившая в добро, была обглодана чёрным пламенем предательства.
Огонь вспыхнул быстро. Сухой хворост жадно принялся за своё чёрное дело. Я чувствовала боль, ненависть. Я смотрела только на него. На Леопольда. Который, не выдержав моего взгляда, отвернулся.
В моём сознании пронеслась вся моя короткая жизнь. Песни и танцы у костра. Лицо бабушки Мары. Свободный ветер на лице. А потом – его глаза, его слова, его ложь. Огонь подбирался всё ближе. Внутри меня, в самом моём центре, родилось нечто чудовищное. Нечеловеческое. Чувство, которое превосходило боль, превосходило страх. Это была абсолютная, концентрированная ненависть. Ко всем. К Богу, который допустил это. К людям, которые жадно смотрели на мою смерть. К нему, человеку, который обрёк меня.
С последним вздохом, с последним пламенем, что опалило мои губы, я собрала все свои силы. Мой голос, проклятие, вырвался из моей груди, заглушая треск огня и ликующие крики толпы: «Будь ты проклят, Леопольд Миловинг! Твой род! Твоя кровь! Веки вечные пусть не найдут они покоя! Я отрекаюсь от Бога, что не спас невинных! От мира, что породил таких, как ты! Я вернусь! И с каждой новой жизнью я буду выпивать твою кровь, твою душу, пока твой род не угаснет в бездне! И это проклятие будет длиться, пока не будет последнего дыхания! Пока твой род не будет испепелён, как и я сейчас! Я буду помнить! Я буду мстить!»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.