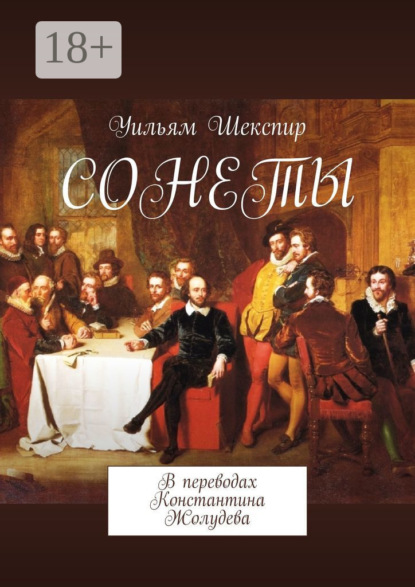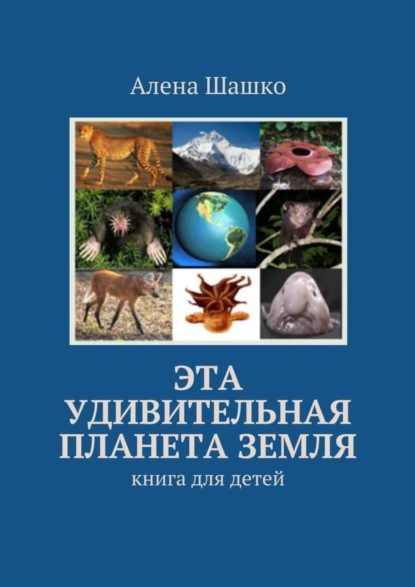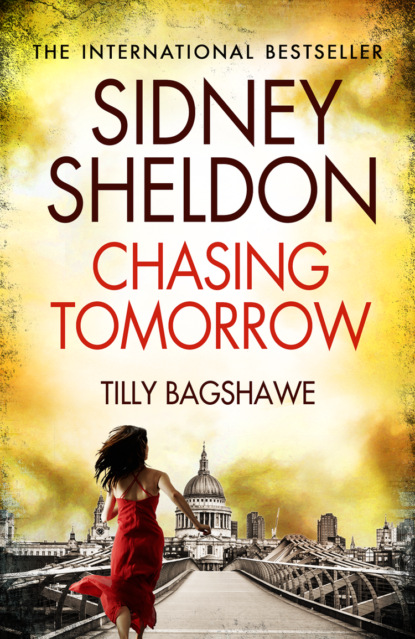В твоём молчании
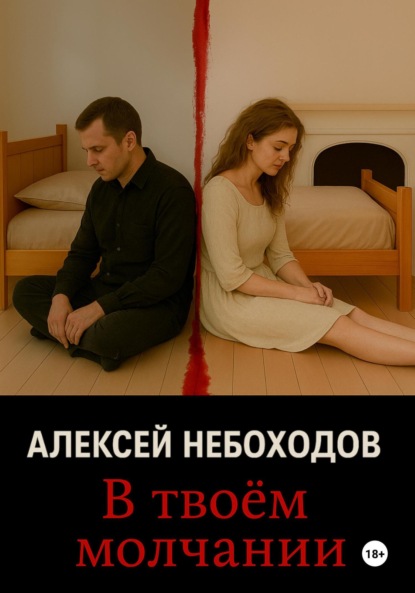
- -
- 100%
- +
– Я не могу спать, – прошептал он. – Каждый раз, когда я закрываю глаза, вижу… как вы… как вы меня ненавидите. Как смотрите на меня, словно я… словно я чудовище.
Эти слова, произнесённые сдавленным, почти детским голосом, пробудили в Ильде странное чувство. Не жалость – она не могла позволить себе жалость к человеку, который сломал её жизнь, – а что-то более сложное, неоднозначное. Почти профессиональный интерес психолога к редкому, опасному случаю.
– А разве нет? – спросила она тихо. – Разве вы не чудовище, Сатурнов?
Он поднял красные, воспалённые глаза, полные такой глубокой муки, что женщина на миг отпрянула.
– Я не знаю, – прошептал он. – Я уже ничего не знаю.
В этом признании, в этой беззащитной растерянности было что-то, что напомнило Ильде её лекции по клинической психологии: «Подлинное раскаяние, – говорила она студентам, – это не просто признание вины или страх наказания. Это полный демонтаж прежней личности, прежних представлений о себе. Это состояние экзистенциального вакуума, из которого может – но не обязательно – родиться новый человек».
Кирилл сидел перед ней, как пример из учебника: сломленный, растерянный, потерявший ориентиры. Человек на грани распада, неспособный даже ясно артикулировать раскаяние, потому что само понятие «я» для него расплывалось.
В груди Ильды что-то дрогнуло. Она смотрела на его опущенные плечи, дрожащие руки и видела не монстра, а человека, раздавленного тяжестью своих поступков. Несчастного, потерявшего себя в лабиринте одержимости. С этим осознанием пришло странное чувство: Ильда Александровна Бодрова, привыкшая анализировать поступки с холодной отстранённостью, впервые увидела в нём не объект, а живую душу.
Что делать с человеком, совершившим непростительное, но страдающим, возможно, даже сильнее своей жертвы? Человеком, смотрящим глазами с такой тоской, что невольно задаёшься вопросом: а не скрывается ли за его преступлением что-то большее, чем просто злая воля?
– Вы несчастны, Сатурнов, – произнесла она. В голосе впервые прозвучала нота, которой не было раньше – не профессиональная, не холодная, а похожая на понимание. – Вы запутались. И я… я вижу это.
Он поднял глаза, и в них мелькнуло не надежда, а какое-то детское, беззащитное изумление – словно он впервые был по-настоящему увиден.
– Вы… вы не считаете меня чудовищем? – прошептал он. – После всего, что я сделал?
Ильда смотрела на него, и что-то дрогнуло в её взгляде. Она видела не монстра, а растерянного мальчика, заблудившегося в своих желаниях. В его глазах плескался тот же страх, что у первокурсников перед экзаменом – детский, иррациональный, требующий не осуждения, а руководства.
– Вы не чудовище, Сатурнов, – произнесла она тихо, удивляясь собственным словам. – Вы запутавшийся ребёнок, который не знает, как вернуться домой.
Кирилл вздрогнул всем телом. По его щеке скатилась слеза, оставив блестящую дорожку.
– Помогите мне, – прошептал он, голос сломался, как у подростка. – Я не хочу быть таким. Я хочу… хочу снова найти себя.
Ильда смотрела долго, оценивающе. План, формировавшийся в её голове, был рискованным, даже опасным. Но он давал ей то, чего она была лишена до сих пор, – контроль над ситуацией. Не физический – она по-прежнему не могла ходить, – а психологический, интеллектуальный, который мог стать ключом к свободе.
Ей снова пришло в голову странное сравнение: они с Кириллом словно герои древнегреческой трагедии, связанные узами насилия, зависимости и извращённой близости.
Узы, которые нельзя было разрубить одним ударом, требовали долгого, болезненного распутывания.
– Хорошо, – произнесла она наконец. – Я помогу вам. Но при одном условии.
– Всё, что угодно, – выдохнул он. – Всё.
– Никаких лекарств без моего ведома. Никакого контроля над моим сознанием. Я должна быть в полном рассудке, если хочу вам помочь.
Кирилл заколебался, на лице отразилась внутренняя борьба.
– Но… Дмитрий сказал, что вам нужно…
– Дмитрий не специалист по психическим расстройствам, – отрезала Ильда. – А я, в некотором смысле, да. Я изучала случаи, подобные вашему. И первое, что требуется, – абсолютная ясность сознания. Моего и вашего.
Он кивнул, признавая её авторитет. В этом простом жесте Ильда увидела первый проблеск своей победы, первый знак того, что власть начинает перетекать к ней – медленно, почти незаметно, но неуклонно.
– Что мне делать? – спросил он. В голосе звучала детская беспомощность. – Что я должен делать?
– Для начала – поспать, – ответила она. – Я буду здесь, никуда не денусь. В вашем состоянии вы не способны адекватно воспринимать реальность.
Он снова кивнул, послушно, механически. Затем, словно вспомнив что-то, поднял глаза:
– А вы… вы не боитесь… не боитесь оставаться со мной? После того, что я…
Ильда позволила себе слабую улыбку – не тёплую, не прощающую, но и не холодную.
– Я не боюсь вас, Сатурнов, – сказала она, взгляд скользнул по его сгорбленной фигуре, как по забытой в песочнице игрушке. – Я боюсь вас ровно настолько, насколько можно бояться детей. Они тоже способны на жестокость, когда не понимают последствий своих действий.
Где-то в глубине души, куда она не позволяла себе заглядывать слишком часто, Ильда осознавала самую тревожную правду: она тоже изменилась. То, что произошло между ними – похищение, плен, – оставило след не только на нём, но и на ней. Она не могла просто вернуться к прежней жизни, стать прежней Ильдой Александровной – строгой, отстранённой женщиной с кафедры культурологии. Что-то в ней треснуло, сдвинулось, обнажив новые, неизведанные глубины собственной психики.
И эта мысль не ужасала её, а давала силу. Силу человека, который, достигнув дна, обнаруживает там не пустоту, а новый источник энергии, новый способ существования.
– Мы не можем вернуться, – сказала Ильда тихо, глядя на поверхность отвара, где плавали частички трав. – Но можем попытаться двигаться вперёд. – Она подняла глаза, встречаясь с его взглядом, полным надежды и страха. Губы её дрогнули, словно не решаясь произнести то, что пришло ей в голову. – Может быть… может быть, даже вместе. Но сначала нам нужно перестать разрушать друг друга.
– Ложитесь, – произнесла она, указывая на кресло у окна. – Я буду читать вам. Это поможет вам расслабиться.
Кирилл послушно перебрался в кресло, свернулся в нём, как большой ребёнок, прижав колени к груди. Ильда взяла книгу, которую он читал раньше – это оказался сборник стихов Блока, а не медицинский справочник, как ей показалось сначала, – и начала читать негромким, мерным голосом:
– «О доблестях, о подвигах, о славе
я забывал на горестной земле,
когда твоё лицо в простой оправе
передо мной сияло на столе…»
Блок был не самым удачным выбором для колыбельной, но это не имело значения. Важен был сам ритуал, сам акт чтения – того, что она, здоровая, делала для него, больного. Переворот ролей, тихая революция, в которой палач становился пациентом, а жертва – целителем.
Через несколько минут Кирилл начал засыпать. Дыхание становилось ровным, глубоким, черты лица разглаживались, возвращая его к той невинности, которая была в нём до того, как одержимость превратила его в чудовище.
Ильда продолжала читать, наблюдая, как он погружается в сон. И в этот момент почувствовала почти тревожную ясность мысли: она не уйдёт отсюда, пока не поймёт его до конца. Пока не поймёт, как нормальный студент мог превратиться в это сломленное существо. Пока не поймёт, что в ней самой отзывается на его боль, что она узнаёт его тьму.
Это было решение, продиктованное не только практическими соображениями – необходимостью восстановить силы, набраться терпения, – но и чем-то более глубоким, фундаментальным. Почти научным интересом к эксперименту, в котором она была и объектом, и наблюдателем.
А ещё на краю сознания мелькнула дерзкая, почти кощунственная мысль: если она останется, если примет роль судьи и целителя, если позволит ему видеть в ней спасительницу, а не жертву… если даже позволит ему любить её – на её условиях, в её понимании, – то это будет не капитуляция, а самая полная, сокрушительная победа.
Глава 5
Прошла неделя. Между ними многое изменилось. Кирилл больше не называл её по имени-отчеству, а она не морщилась, когда он говорил «ты». Всё произошло незаметно – без договорённостей и переходов. Где-то между дежурным «выпей воды» и неуклюжим «тебе помочь?» он стал говорить проще. Без официальности, без покровительственного тона. Ильда позволила: устала держать дистанцию, которой уже не было. Тело зависело от него, а душа всё чаще нуждалась не в защите, а в участии. В этом новом «ты» была попытка построить что-то с нуля.
В один из таких дней, когда дом наполнила тишина, женщина вдруг поймала себя на странной мысли. Несмотря на всё: на то, как он поступил, на насилие, страх, унижение – в самой сути его поступка было нечто, что вызывало у неё… восхищение. Не поощрение и не прощение – именно восхищение. Он не сбежал, не спрятался за вежливостью и раскаянием. Просто решился и сделал. Похитил её. Без плана и оправданий, с глупой, подростковой смелостью. Ильда не понимала почему, но в этом отзывалась её собственная память.
Она вспомнила себя двадцатилетней – с горящими глазами, дерзкой, жадной до поступков, которые переворачивали жизнь. Тогда ей нравились люди, у которых на первом месте была страсть, а не разум. Которые могли ударить кулаком по столу, сбежать с лекции, признаться в любви посреди улицы, совершить что-то дикое, чтобы доказать: «Я чувствую, значит, живу». И сейчас, лежа в чужом доме, в чужом халате, без возможности двигаться, она вдруг поняла – он из таких. Тех, кто не умеет любить молча. Возможно, именно поэтому она ещё здесь.
Несмотря на это, утро вступило в свои права не как облегчение или примирение, а как продолжение изматывающей повседневности, где каждый новый день приносил не надежду, а напоминание о беспомощности.
Едва в комнате забрезжил серый свет, стало ясно: ночь ничего не поправила, не вылечила, не дала передышки. Тяжёлый от влаги и затхлости воздух казался гуще воды. Сквозь щель в окне тянуло не свежестью, а каким-то книжным холодом: смесью запахов подвальных архивов, жжёной пыли и дешёвой типографской краски.
Ильда проснулась рано – не от звуков и не от света, а от собственной тяжести, будто тело за ночь залили гипсом. Склонила голову к плечу и увидела: волосы спутались и облепили лицо; на щеке – заломленная складка от подушки, похожая на татуировку. Плечи ныли, поясница отдавала в пустоту. Она попыталась пошевелить ногами, но те остались безжизненными – как два чужих предмета под одеялом.
В гостиной Кирилл уже хлопотал: сдвигал табуреты, неловко стукал кастрюлями, будто специально показывал – он не бездельник, при деле, хозяин, контролирующий хотя бы часть хаоса, царившего в этом доме. Иногда он нарочно заглядывал в её комнату, не говоря ни слова, задерживал взгляд дольше обычного – словно проверял: не передумала ли она умирать, не решила ли сбежать. В таких взглядах была смесь искренней заботы и юношеской самоуверенности.
Кирилл вошёл с подносом. На нём – две чашки, два прибора и хлеб, нарезанный по-разному: ровный ломоть и неровный, с рваным краем, словно отрезанный рукой, не удержавшей нож. Он поставил поднос рядом, и в этой двойственности – аккуратности и небрежности – невольно проступила вся их история.
– Доброе утро, – сказала Ильда, и её голос прозвучал грубовато.
– Доброе! – улыбнулся он.
В доме воцарилась особая тишина – не после ссоры и не после похорон, а наполненная тысячей едва слышных звуков: щёлканье газовой горелки, шорох бумаги, глухие удары воды о фарфор, короткие выдохи. Каждая доска, каждая облупленная стена усиливала малейшую деталь и глушила смысл любой речи. Слова казались глупыми и ненужными.
Она хотела уйти в себя, спрятаться в тёмной пещере воспоминаний, но Кирилл вмешался:
– Ты замечала, – сказал он, не отрывая глаз от экрана, – утренний свет здесь падает только с одной стороны?
– В каком смысле? – машинально спросила Ильда, понимая, что вопрос риторический.
– Окна выходят на юг, но свет будто не приходит снаружи, а исходит изнутри. Видишь тонкую полоску в углу? – он ткнул пальцем. – Назвал бы это феноменом, но, скорее, психология. Свет обещает выход, а на деле – ловушка.
Её передёрнуло от этого объяснения: он всегда оправдывал свой страх, беспомощность. Но спорить не хотелось. Она кивнула, склонилась к чашке и долго смотрела, как по поверхности кофе плывёт пятно сливок. Было что-то успокаивающее в этой завитушке, растворяющейся в общем море жидкости.
За окном раскинулся сад. Неухоженный, не декоративный – такой бывает у стариков и ленивых дачников: перекрученные ветки яблонь, заросли смородины, крапива и прошлогодняя трава, среди которой кое-где торчат полоски снега. Окно было мутным, с отпечатками дождей и короткой трещиной, перечёркивающей панораму. Но и через эту завесу можно было различить: сад не мёртв, он просто замер, как и сами они – в ожидании чего-то, что нарушит круг бессмысленных дней.
В саду ворона медленно ковыляла по влажной траве. Птица, перескакивая с ветки, оглядывалась на дом, будто проверяла, следит ли за ней кто-то. Кирилл первым заметил её, показал жестом:
– Смотри, твоя тёзка прилетела.
Ильда засмеялась, хотя сама себе казалась нелепой. Смех оборвался резко, перейдя в кашель.
– Тебе стало лучше? – спросил он мягче.
– Не знаю, – сказала преподаватель. – Просто научилась переносить боль. Или это уже новый стиль жизни.
Кирилл замолчал, и между ними снова воцарилась густая, тягучая тишина. В ней не осталось недосказанности: они знали друг о друге всё, и любые уточнения лишь ухудшили бы ситуацию.
Прошло минут пять, может, десять. Ильда не считала – зачем? Здесь время расползалось, теряло края. Она заметила: рука лежит на столе неподвижно – будто не её вовсе, а чужая. Она попыталась согнуть пальцы, но те не слушались; только с третьей попытки рука обрела хоть какое-то послушание.
– Ты когда-нибудь думал, что было бы, если бы я умерла той ночью? – спросила Ильда, не понимая, откуда взялись эти слова.
Кирилл не ответил сразу. Он сложил газету, аккуратно подровнял страницы и посмотрел на неё – в упор, не моргая.
– Я бы, наверное, поехал в город. Сдался бы, рассказал всё как есть. Или… – он пожал плечами; в этом жесте было столько равнодушия, что ей стало страшно. – Или ушёл бы куда-нибудь, где никто меня не вспомнит. Не думай, что для меня это проще, чем для тебя.
Её передёрнуло от этого «не думай»: Кирилл всегда так – отгораживался общими фразами, чтобы не выдать настоящую эмоцию. Ильда поняла: обсуждать серьёзное здесь бесполезно; лучше не затевать разговоры, которые никуда не ведут.
Снаружи раздался густой, хлёсткий шум, будто кто-то вывалил ведро гвоздей на крышу. Через секунду он усилился – начался дождь. Проливной, осенний, с тяжёлыми каплями, барабанившими по подоконникам и стёклам, превращая дом в корабль, окружённый серым маревом. Всё вокруг сжалось и притихло: сад за окном исчез за стеной воды, а влажный воздух, проникший внутрь, пах гнилой листвой, железом и далёкой гарью. Казалось, небо опустилось ниже крыш и теперь дышит в спину, напоминая: осень началась всерьёз.
– Перенеси меня в гостиную, – сказала она тихо. – На диван.
Кирилл встал без лишних слов. Поднял её осторожно – так, будто каждый сустав мог лопнуть от неосторожного движения. В гостиной было прохладнее; он развернул плед, подложил под спину подушки, поправил на плечах халат, убрал с лица пряди волос.
– Нормально? – спросил он.
– Да. Оставь шторы приоткрытыми, – ответила Ильда. – И поставь чашку рядом.
Он поставил, отошёл к двери, на секунду заглянул на кухню – вымыть чашки, стереть крошки, отвлечься хоть чем-то простым.
В этот момент из коридора раздался странный звук. Не хлопок и не скрип, а глухой толчок – будто кто-то снаружи резко прижал ладонь к двери и сразу убрал. Ильда посмотрела на Кирилла: он тоже насторожился, но вместо испуга вскочил, словно только и ждал повода уйти из комнаты.
– Кто-то пришёл, – сказал он уже на ходу. – Странно: по этой дороге редко кто ездит.
Кирилл прошёл в предбанник и, не подумав, открыл дверь.
Вошли старуха и девочка. Женщина – в клетчатой кофте и серой юбке, иссохшая, с жёстким взглядом. Рядом – девочка лет десяти, худенькая и молчаливая, прижатая к ней, будто не решалась отойти ни на шаг.
Старуха, не разуваясь, ступила прямо на вытертый коврик; носок туфли царапнул доску. Кирилл сразу ощутил: она здесь не ради визита, не ради хлеба-соли и не ради спасения. В её движениях было что-то от допроса – осторожность и холод, будто каждый шаг протоколировался ею внутри себя.
– Здравствуйте, – сказала она, словно выдыхая фамилии и диагнозы. – Вот, к вам по делу. Моя внучка промокла насквозь, пока мы шли. Сами видите, какая погода, а у неё и так слабое здоровье.
Рядом с женщиной девочка прятала одну руку за спиной, в другой держала остро заточенную веточку, явно добытую в ближайшей роще. Волосы мокрые, а лицо – сухое: кожа матовая, синие круги под глазами, взгляд не цеплялся ни за что, разве что за радиатор в углу. Она ни разу не повернулась к Кириллу – только зыркнула, как зверёк.
– Пустите нас, а? – произнесла старуха не то вопросом, не то обвинением. – Девочке бы подсохнуть, а то у неё с кровью и так плохо. Я сама постою, мне ничего не надо.
Кирилл, смутившись, провёл их в гостиную, молча придвинул стул к батарее и посадил туда девочку. Та сразу впилась взглядом в окно – словно там была вся её жизнь, и только там можно было прятаться от взрослых. Старуха опустилась на лавку, прижав руки к коленям.
«Наверное, когда-то была физручкой или медсестрой», – подумал он.
В коридоре запахло пылью и немытой шерстью. Кирилл, не дожидаясь просьб, пошёл ставить чайник.
– Вам чай с сахаром? – спросил он. Его голос прозвучал так, будто он не угощает, а проводит следственный эксперимент.
– Нам всё равно, – ответила соседка, не оборачиваясь. – Мне бы только воды, и не беспокоить лишний раз. – Помолчала. – А вы чей будете? Я всех дачников тут знаю, а вас впервые вижу.
Парень напрягся, пальцы сжались на дверном косяке:
– Я – Кирилл. – Он замялся, пальцы забарабанили по косяку. – Это наша дача уже лет тридцать. Родители купили. Теперь они почти не приезжают: работа, дела. А я… присматриваю.
– Ага, ага, – кивнула старуха, и в этом кивке скопилось сразу десять лет разочарований: дети уехали, дома бросили, мы здесь, как дураки, охраняем заборы – будто это что-то меняет. – А кто это у вас? – она кивнула подбородком в сторону дивана, где лежала Ильда.
Кирилл замер; внезапно стало невыносимо неловко – не потому, что прятал женщину, а потому, что не хотел никому ничего объяснять. Стыд накрыл, как в детстве, когда мать брала за шиворот и вела к соседке извиняться за выбитое стекло. Сейчас он будто снова был маленьким, а старуха – взрослой навсегда, и от её решения зависело, поедет он в Москву или останется здесь.
– Дальняя родственница, – выговорил Кирилл после паузы. – Болела, вот приехала восстанавливаться.
– Понятно, – сказала соседка; в этом слове не было ни грамма доверия. – Я бы не пришла, если бы не девочка.
Она говорила, не глядя ни на Кирилла, ни на внучку – будто читала заранее отрепетированный монолог. На каждое слово у девочки чуть дёргался уголок рта.
Когда все расселись в гостиной, время снова потекло медленно: чайник гудел на кухне, из окна лился мутный свет.
– Как тебя зовут? – спросила преподаватель у девочки, стараясь улыбнуться, но губы дрогнули – улыбка вышла, как у перебинтованной куклы.
– Полина, – коротко ответила девочка, не отрывая глаз от окна.
– Красивое имя, – сказала Ильда. – У меня в детстве тоже была подруга Полина. Однажды придумала, как делать кораблики из глины, чтобы они не тонули. Только у меня никогда не получалось.
Девочка впервые взглянула прямо на Ильду. В этом взгляде было что-то звериное – не испуг, а осторожность, выученная с рождения.
– Из пластилина лучше, – тихо сказала Полина. – Тогда можно пустить по лужам.
Соседка хмыкнула:
– У неё на всё свой ответ. Это потому, что без матери растёт.
Кирилл расставил чашки, налил воды. В комнате потянуло горечью, чуть сладкой – как таблетки от простуды. Старуха взяла чашку двумя руками, будто боялась разлить, и сразу сказала:
– Мне бы только дождаться конца ливня, потом уйдём.
Затем оценила Ильду взглядом: сначала волосы, потом глаза, затем – кольцо на пальце. Во взгляде было что-то профессиональное, почти рентгеновское; она умела выискивать детали.
В чайнике долго не смолкало кипение. Старуха рассказывала, как в их деревне год назад сгорела вся улица из-за одной сигареты, как зимой они по очереди караулили трансформаторную будку, чтобы не замёрзнуть ночью. Кирилл кивал, иногда вставлял комментарий, но больше слушал, как время разбивается на осколки – у каждого свои, которые не сложить в одну линию.
Девочка медленно согрелась. Она сняла куртку, потом кроссовки; вытянула ноги на батарею и едва слышно мурлыкала себе под нос. Изредка, когда соседка замолкала, Полина косилась на Ильду – не как на взрослого, а как на загадку: будто хотела спросить, почему та не ходит или почему лежит на диване, а не сбегает на улицу.
Сначала все молчали, как после аварии, когда и говорить не хочется, и не говорить тяжело. Девочка забилась в угол у батареи, вытянула ноги на чугунную решётку и стала медленно перебирать пальцами пластмассовые бусины на резинке. В глазах у неё не было интереса, только устойчивая тоска, будто она заранее знала: этот дом, эти люди – просто ещё одна перевалочная база, и как бы тебя здесь ни угощали, завтра всё равно придётся идти дальше.
Старуха долго смотрела в окно, потом, не отрывая взгляда, вдруг заговорила:
– У меня дочка была – хорошая, из тех, что всё делают по уму. В школе и пела, и математику тянула, и на танцы ходила, пока я зарабатывала на жизнь.
Жили мы тогда очень счастливо. Они в Москве жили: дочка, зять и внучка. А я – тут, в деревне. Я к ним ездила часто, звонили каждый день, по праздникам – всегда вместе. У них с зятем была своя квартира, небольшая, но уютная. С утра зять уезжал на работу. Добрый был, вежливый, за столом первым вставал, помогал, дочь мою на руках носил. Он ко мне – с уважением, а к дочке – с теплом настоящим. С работы всегда с гостинцами – то хлеб, то бананы, то игрушка, если премия.
Всегда чистый, пах парфюмом и никогда не позволял себе крикнуть. А я тогда уборщицей была в поликлинике, да подрабатывала в столовой. Жили небогато, но сытно.
По праздникам собирались все вместе, я пекла пирог, зять приносил шампанское. Дочка смеялась, а я сидела в уголке и думала: Господи, спасибо Тебе за такую жизнь. Всё было ладно, мирно, по-настоящему.
А потом Полина родилась. Такая хорошенькая – вся в мать. Он с ума сходил: на руках носил, в коляске каждый день гулял, песни пел. Дочка в декрете сидела, я помогала чем могла. Иногда под вечер устанешь – а сердце всё равно радуется: все живы, рядом, любимы.
Но потом пришёл ковид. Сначала по телевизору только – в Китае. Потом слухи, потом больница. Дочку будто простуда свалила, думали: молодая, сильная, пройдёт. Но с каждым днём становилось хуже. Зять в больницу ездил, сумки носил. Я ночами не спала – молилась, ждала. А потом позвонили. Сказали: не смогли. Всё. Без прощания, без последнего взгляда.
Голос её был глухой – не из-за боли, а потому, что всё нужное уже проговорено, и внутри ничего не осталось.
– Мой зять не выдержал, спился. Сначала ещё держался: работа, дом, память о жене. А потом всё покатилось вниз. Деньги – только на бутылку, глаза мутные, руки дрожат, в голосе – одни ругательства. Работу потерял, лежал целыми днями, как тряпка, и сам себя жалел. Я смотрела и думала: живой мертвец, в доме от него один холод.
А потом и вовсе беда. Пришёл как-то пьяный, девочку за плечо схватил и на улицу выкинул. В одной рубашонке, босая, стояла под дождём и плакала, а дверь перед носом захлопнулась. Он даже не обернулся. Для него она уже не человек – обуза. Я её подобрала, привела к себе, и с тех пор мы вдвоём. Сначала думала – временно. Но нет, сгнил окончательно. Через полгода его и нашли в канаве.
Вот так и живём теперь. Огород нас кормит, да редкая помощь от людей. Внучка моя ещё маленькая, а уже знает, что мужики – все одинаковые. Предадут, бросят, когда труднее всего. Я это своей жизнью выстрадала, и она теперь со мной несёт.
Говорила она не для собеседников – нужно было, чтобы слова остались где-то вне головы. Даже девочка не слушала: то ли потому, что уже слышала, то ли потому, что ей было безразлично.
В комнате повисла тяжёлая тишина, нарушаемая только вздохами и постукиванием ложки о край чашки. Никто не попытался поддержать разговор: у каждого была своя мера катастрофы, и чужие беды воспринимались как статистика.