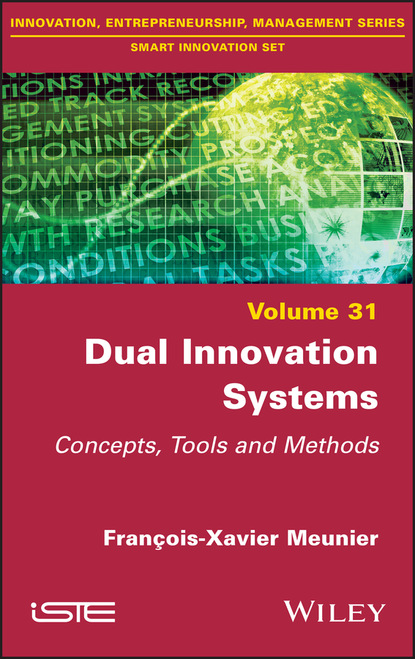Лея Салье

- -
- 100%
- +

Глава 1
Бряльск – не просто провинция, а тупик жизни. Узкие улицы, покрытые въевшейся пылью, облезлые подъезды, гулкие дворы, где каждый звук усиливается эхом. Открытые настежь двери магазинов источали кислый запах пива, перегар и усталость продавцов, для которых каждый день был похож на предыдущий.
На пятом этаже панельной пятиэтажки, в квартире с облупившимися обоями и мебелью, видавшей несколько поколений, Лена сидела за столом, опершись подбородком на сцепленные пальцы. Жара давила, разлитая по комнате вязкой пеленой. Окна открыты, но воздух стоял неподвижно, будто сам смирился с невозможностью перемен.
В холодильнике – морщинистые огурцы, бутылка водки и пустота. Татьяна, её мать, стояла у окна с сигаретой, молча вглядываясь в двор, где пятеро пацанов играли в карты прямо на асфальте, лениво перебрасываясь ругательствами. Дым стлался в комнату, наполняя её терпкой горечью, смешиваясь с запахом жареного масла, пропитавшего стены за годы.
Лена не смотрела на мать. Она следила за мухами, облепившими края немытого стакана. Одна особенно крупная, с жирным зелёным брюшком, настойчиво ползла по столу, задевая своими лапками крошки. Лену это завораживало: одно движение, один хлопок ладони – и она исчезнет. Но Лена не поднимала руки. Она лишь наблюдала, как насекомое перебирает лапками, будто пробуя на ощупь вкус чужого отчаяния.
Телефон лежал на подоконнике. Чёрный, с потрескавшимся экраном, он давно не издавал звуков. Никто не звонил. Некому было. Некому помочь, некому напомнить, что жизнь идёт дальше.
Татьяна глубоко затянулась, выдохнула дым, прищурившись на улицу. Её била внутренняя дрожь – то ли от злости, то ли от бессилия. Внизу кто—то крикнул, хлопнула дверь машины. Двор жил своей медленной, удушливой жизнью.
– Ты снова целый день сидишь и пялишься в никуда? – голос матери прозвучал раздражённо, но без истинного гнева.
Лена не ответила. Татьяна бросила окурок в банку из—под консервов, полный других таких же, подошла к столу и взяла бутылку водки. Налила в гранёный стакан, добавила воды. Сделала один быстрый глоток, поморщилась.
– Надо что—то делать, Лена.
Она сказала это глухо, почти шёпотом, но голос застрял в тишине комнаты.
Лена медленно повернула голову.
– Что?
Мать смотрела прямо на неё. Взгляд у неё был тяжёлый, оценивающий.
– Всё это надоело, – продолжила Татьяна. – Каждый день одно и то же. Нет ни денег, ни будущего. Долги давят. Нам нужна новая жизнь.
Лена не ответила, и её мать резко поставила стакан на стол.
– И тебе нужно шевелиться.
Лена скользнула взглядом по бутылке, по тонкому загорелому лицу матери. Она выглядела старше своих лет.
– Что ты хочешь, чтобы я сделала?
Татьяна закурила снова, прикурив от спички.
– Я что—нибудь придумаю.
Лена не поверила. Мать говорила так уже не раз. Но от этих слов ей стало не по себе.
Татьяна докурила сигарету, бросила окурок в жестяную банку, приглушённо звякнувшую в полной тишине, и, не поднимая глаз, шагнула к столу. Взяла стакан с водкой, сделала один короткий глоток, будто не для удовольствия, а по привычке, как если бы этот ритуал помогал удержать себя в равновесии. Лена знала эту последовательность движений ещё с детства: сначала сигарета, потом алкоголь, потом молчание, в котором угадывалась тяжесть прожитых лет, разочарований и безнадёжности.
Мать у неё никогда не жаловалась, не устраивала сцен, не пыталась изменить судьбу, а просто жила, смирившись с тем, что жизнь состоит из потерь, из несказанных слов, из угасших надежд, из мужчин, которые приходят и уходят, оставляя после себя лишь горечь. Иногда Лене казалось, что мать даже не умеет мечтать – она просто существовала, как будто шаг за шагом двигалась по инерции, не заглядывая вперёд и не вспоминая прошлое, избегая размышлений, заглушая их ежедневной рутиной и спиртным.
Но когда—то всё было иначе, и даже у Татьяны, такой, какой её знала Лена, была своя история: длинная, запутанная, полная обманутых надежд и потерянных возможностей. Она родилась в этом же городе, в этой же панельной коробке, где и сейчас жила с дочерью, среди тех же облезлых стен, где по вечерам за окнами доносились голоса бабок, обсуждающих, кто с кем сошёлся и кто куда вышел, где жизнь казалась застывшей и неизменной. Она росла в этой серости, в убогих дворах с торчащими из земли ржавыми качелями, в узких подъездах, пропитанных сыростью и запахом табака.
Её мать работала на мясокомбинате. Она была женщиной тяжёлой, сварливой, из тех, кто живёт без сентиментальности, считая, что жалость и ласка только портят человека. Отец ушёл, когда Татьяне было десять, просто собрал вещи и исчез, оставив за собой лишь ворох неуплаченных счетов и чувство пустоты, которое мать залила водкой, а Татьяна – стремлением вырваться, хоть как—то выбраться из этого болота.
Детство её не отличалось от детства сотен таких же девочек из рабочих семей: школа, дешёвая одежда, учебники с чужими подписями на полях, первые сигареты в шестнадцать, первый мужчина в семнадцать, который тогда казался ей тем самым, настоящим, с кем можно построить жизнь, потому что любовь в её представлении была такой же, как в кино – с объятиями, обещаниями, жаркими ночами, которые должны менять людей. Но люди не менялись.
Первый ухажёр был простым работягой с завода, чуть старше её, пах маслом и табаком, а потом был второй, третий, и каждый раз одно и то же – короткое притяжение, разочарование, новые ожидания, сменяющиеся горечью. Но Татьяна не искала принцев, ей просто хотелось вырваться, и если кто—то мог бы вытащить её отсюда, она бы ухватилась за эту возможность. Но такого не было.
Когда ей исполнилось двадцать два, мать умерла. Её сердце остановилось прямо на кухне, и она пролежала там почти сутки, прежде чем Татьяна вернулась домой и застала квартиру наполненной тяжёлым запахом застоявшегося воздуха, будто сама жизнь вытекла из этих стен. После похорон в квартире стало слишком тихо, и тишина эта давила так, что Татьяна начала пить, но недолго – она быстро поняла, что водка не забирает боль, а лишь делает её тупее.
Тогда в её жизни появился Юрий – первый мужчина, с которым она решила строить семью. Он был водителем маршрутки, крепкий, с жёсткими чертами лица, тот, кто быстро втёрся в её жизнь, сначала как друг, потом как любовник, а потом как мужчина, который взял её под своё крыло. Татьяна переехала к нему спустя пару месяцев, потому что квартира у него была своя, пусть и небольшая, но зато не коммуналка, не съёмная халупа. Он приносил домой зарплату, пил в меру, не поднимал руку, по вечерам смотрел с ней телевизор и разговаривал, что тогда казалось ей главным признаком нормальной жизни.
Но через год она забеременела, и всё изменилось. Юрий не обрадовался, хмуро закурил у окна и сказал, что время не то, денег нет, и лучше обойтись без этого. Она не спорила, не умоляла и даже не кричала – просто подчинилась, потому что так было проще. Она пошла в больницу, но в последний момент передумала, вернулась домой и решила оставить ребёнка, даже не осознавая до конца, что это означает.
После этого Юрий стал пить чаще, в доме повисло молчание, наполненное недосказанностью, и квартира, которая казалась ей уютной, сузилась до двух комнат, в которых они жили порознь. А потом он просто не вернулся домой, и через два дня Татьяна узнала, что он уехал в другой город, даже не забрав вещи.
Так и появилась на свет Лена от человека, который не хотел её, не ждал, не вернулся даже узнать, родилась ли она. После Юрия были другие мужчины – Сергей, начальник цеха, который выглядел надёжным, но оказался женатым, Валера, весельчак, который проиграл все их деньги, а потом просто исчез, ещё несколько – без имён, без истории, просто мужчины, проходящие через её жизнь.
А потом появился Андрей, водитель—дальнобойщик, грубоватый, но стабильный, тот, кто приносил деньги, покупал еду, делал ремонт, создавал иллюзию устойчивости, хотя Татьяна уже не верила в неё. Они прожили вместе почти пять лет, без вспышек страсти, но и без ссор, будто два человека, которые привыкли друг к другу, не задавая лишних вопросов. Андрей не вмешивался в её жизнь, не ограничивал, не давил, а Татьяна ценила в нём именно это – простую, надёжную предсказуемость.
Он уезжал в рейсы на недели, а когда возвращался, приносил деньги, иногда небольшие подарки для Лены, молча садился за стол, пил чай и рассказывал о трассе, о дураках—водителях, о том, как на стоянке кто—то проиграл в карты целый месячный заработок. Татьяна слушала, вставляла редкие реплики, но никогда не спрашивала лишнего.
Полгода назад всё оборвалось. Андрей не вернулся из рейса – его грузовик нашли в кювете, а тело в морге. Сердце остановилось мгновенно, на месте, без шансов на спасение. Никто не звонил, не спрашивал, не приходил с соболезнованиями – он был человеком без прошлого, без семьи, без долгов, без наследников. Его машина ушла на аукцион, деньги быстро кончились, и через несколько недель Татьяна поняла, что снова стоит у пустого холодильника с тем же вопросом, как и всегда – что дальше?
Лена поднялась из—за стола, взяла с подоконника телефон и сунула в карман, не глядя на мать. В дверях задержалась на мгновение, будто собиралась что—то сказать, но передумала. Татьяна смотрела ей в спину, ощущая растущее беспокойство, но не проронила ни слова.
– Вернусь поздно, – бросила Лена, выходя за дверь, и её шаги быстро растворились в тишине подъезда.
Часами позже в дверь постучали резко, настойчиво, так, будто за порогом стоял человек, который не намерен был уходить. Глухие удары эхом прокатились по стенам, сотрясли воздух, заставили Татьяну вздрогнуть. Она с силой поставила стакан на стол, замерла, прислушиваясь. В этот час обычно никто не приходил.
Стук повторился, но теперь громче, требовательнее. В груди сжалось, неприятное предчувствие скользнуло под кожу, вплелось в мысли, не давая сосредоточиться. Она бросила взгляд на часы – почти полночь. Сердце застучало быстрее, ладони вдруг стали холодными.
Она поднялась резче, чем ожидала от себя, и пошла к двери, стараясь не думать о том, что может быть за ней. Громыхнул засов, ключ в замке слегка дрогнул в пальцах, и Татьяна открыла.
Лена стояла на пороге, пошатываясь. Её волосы были спутаны, щека рассечена, по подбородку тянулся тонкий запёкшийся шрам. Рубашка порвана на плече, грязные ладони сжимали складки ткани на животе, будто пытаясь спрятать что—то или удержать равновесие.
Татьяна не сразу нашла в себе голос, чтобы заговорить.
– Что случилось?
Лена не ответила. Она переступила порог, не поднимая глаз, и прошла мимо матери, будто её не существовало. Свет прихожей выхватил из темноты синяк на ключице, багровеющую полосу на запястье.
Татьяна захлопнула дверь, чувствуя, как в груди нарастает злость.
– Лена!
Но дочь остановилась только у зеркала. Она всмотрелась в своё отражение, моргнула, провела пальцами по губе, размазывая кровь. Тонкие тени легли под глазами, делая её лицо чужим, пустым.
– Ты молчишь? – голос матери стал резким, на грани крика. – Что ты натворила?
Лена медленно опустилась на стул, сцепила пальцы в замок, ссутулилась. В комнате повисла густая тишина, наполненная напряжением.
– Я влипла, мама, – наконец сказала она.
Голос прозвучал сухо, сдавленно, без эмоций. Татьяна не двинулась с места. Её пальцы сжались в кулак, ногти вонзились в ладонь, но она не заметила боли. Она смотрела на дочь, пытаясь понять, что скрывается за этими пустыми словами.
Лена не подняла глаз. Она сидела, будто силы покинули её, плечи ссутулились, дыхание стало ровным, почти поверхностным. Только дрожь в пальцах выдавала напряжение, которое она пыталась скрыть.
Татьяна подошла ближе, наклонилась, но не дотронулась.
– Где ты была?
Лена прикусила губу, глаза её метнулись в сторону, но ответа не последовало. Мать выпрямилась, глубоко вдохнула, развернулась к кухонному столу, налила в стакан воды, поставила перед дочерью.
– Пей.
Лена медленно подняла взгляд, и в её глазах блеснуло что—то похожее на благодарность, но она ничего не сказала. Взяла стакан обеими руками, сделала маленький глоток, скривилась.
Татьяна опустилась на стул напротив.
– Ты хочешь, чтобы я гадала? – её голос был низким, напряжённым.
Лена качнула головой.
– Я просто… – она запнулась, потерла виски, будто пыталась собрать мысли. – Я не могу сейчас.
Татьяна сжала губы.
– Не можешь или не хочешь?
Лена снова отвела взгляд.
В комнате стало тихо. Из соседнего двора доносился приглушённый лай собаки, где—то вдалеке хлопнула дверь. Часы тикали ровно, отсчитывая секунды, но никто из них не двигался.
– Мы ведь уже проходили это, – сказала Татьяна, пристально глядя на дочь.
Та лишь чуть приподняла плечи, словно пытаясь спрятаться в собственном теле.
– Всё не так, – пробормотала она.
– А как?
Лена снова сделала глоток, оставила стакан на столе, провела пальцем по краю.
– Мама… – голос её дрогнул. – Я правда влипла.
Она сказала это тихо, почти шёпотом, но в этих словах звучало что—то необратимое.
Татьяна долго смотрела на неё, прежде чем кивнула.
– Тогда рассказывай.
Лена подняла руку к виску, будто пытаясь унять головную боль, но так и не прикоснулась к коже. Веки её дрогнули, она глубоко вдохнула, словно собираясь с духом, и заговорила.
– Несколько дней назад я встретила парня. Зовут Артём…
Татьяна не шевельнулась, но в глазах промелькнула настороженность.
– Дерзкий, самоуверенный… – Лена смотрела перед собой, будто вновь проживая тот момент. – Красивый, с улыбкой, которой мог очаровать кого угодно. Он легко переходил от шутки к серьёзности, будто играл с каждым словом.
Она замолчала, проводя пальцем по запястью, где ещё оставался след от полицейского браслета.
– Он угостил меня пивом, водил по дворам. Говорил, что живёт по своим правилам, что мир принадлежит тем, кто берёт, а не ждёт. "Никто не работает, Лена, все берут, что хотят," – повторял он.
Голос её чуть дрогнул, но она тут же справилась с собой.
– Я слушала. Мне нравилось, как он говорит, как смеётся, как смотрит. Он не давал мне задуматься, а если я начинала сомневаться, тут же отвлекал шуткой или касанием.
Татьяна сжала руки в кулаки, но ничего не сказала.
– Сегодня он позвал меня на дело, – Лена коротко усмехнулась, но в этом не было веселья. – Подвел к салону сотовой связи, оглянулся и сказал: "Ты просто постоишь у входа, а я – быстро туда—обратно."
Она сжала пальцы в кулак, оставляя на ладонях полумесяцы от ногтей.
– Я замялась. Не знала, что сказать. Тогда он приобнял меня за талию, прижался и прошептал: "Не бойся, детка. Мы будем королями ночи."
Лена глубоко вдохнула, прикрыла глаза на мгновение.
– Всё пошло не так.
Татьяна сжала губы, не перебивая.
– Сирена. Свет. Люди. Визг шин. Я замерла, а он исчез. Просто оставил меня там, одну.
Она резко подняла голову, и в её глазах было что—то похожее на горечь.
– Меня забрали. В участке составили протокол, завели дело. Взяли подписку о невыезде.
В комнате стало ещё тише, только с улицы доносился далёкий гул проезжающих машин. Татьяна провела языком по сухим губам и отвела взгляд в сторону:
– Ты понимаешь, что сделала?
Лена не ответила. Она знала, что мать права, и теперь сидела сгорбившись. Её пальцы вцепились в колени, а плечи сотрясались от спазматических всхлипов. Она несколько раз открывала рот, но слова застревали в горле.
Татьяна молчала. Она уже знала, что прозвучит дальше, но всё же ждала.
– Он сказал… – Лена судорожно вдохнула, качнулась вперёд, стиснула зубы, будто от боли. – Что я могу уйти… если помогу ему…
Она зажмурилась, стиснула руки так сильно, что ногти вонзились в кожу.
– Сказал, что я ведь хорошая девочка… что мне не место за решёткой… – её губы скривились, но в этом движении не было ни насмешки, ни злости – только отвращение к самой себе. – Что я всего лишь сделаю одолжение… ничего такого… – Она кинула на мать потухший взгляд, полный безысходности, и выдавила еле слышным голосом: – Я… я встала перед ним на колени…Она расстегнул ширинку… – Лена разрыдалась
Татьяна не пошевелилась, не моргнула.
– Он сказал, что я справлюсь быстро… что от меня не убудет… что даже адвокат столько бы не стоил…
Губы Лены задрожали, но она не дала себе сорваться, проглотила рыдание, судорожно провела ладонью по лицу, будто пытаясь стереть с себя всё случившееся.
– Когда всё закончилось… он даже не посмотрел на меня. Просто сел за стол, взял ручку, расписался в бумагах. "Ты свободна", – повторила она его голос, едва слышно, с надломленной интонацией.
Татьяна выдохнула без облегчения – слышалась только глухая, неподвижная ярость. Лена вновь сжалась, спрятала лицо в ладонях.
– Мне так грязно, мама…
И снова в комнате воцарилась тишина.
На следующее утро Татьяна проснулась рано, но не сразу нашла в себе силы подняться. Она долго лежала, глядя в потолок, прислушиваясь к звукам квартиры. Из комнаты Лены не доносилось ни шороха. Тишина была такой плотной, будто дочь исчезла, будто её никогда здесь и не было. Сердце сжалось.
Она медленно встала, подошла к комоду, провела пальцами по потёртому дереву. Открыла верхний ящик. Там, среди старых квитанций и мелочей, лежал конверт. Тяжёлый, толстый, но одновременно пугающе лёгкий, если задуматься, на что его придётся потратить.
Она вынула деньги, быстро пересчитала и сунула их в сумку. Задержалась на мгновение, будто решая, правильно ли поступает, но уже знала ответ.
Дорога до отделения полиции показалась длиннее, чем была на самом деле. Жара висела в воздухе, люди двигались медленно, растворяясь в тени. Здание отделения выглядело так же, как всегда, но сегодня оно казалось ей ещё мрачнее.
В коридоре пахло несвежим кофе и табаком. Татьяна прошла мимо нескольких полицейских, их взгляды были безразличными. Она подошла к нужному кабинету, задержала дыхание и постучала.
– Входите.
Дверь открылась туго, со скрипом. За столом сидел следователь – мужчина лет сорока, с тяжёлым взглядом и ленивыми движениями. Он даже не сразу поднял глаза, продолжая крутить в руках авторучку.
– Чем могу помочь?
Татьяна не села.
– Дело моей дочери, – сказала ровно. – Я хочу его закрыть.
Он приподнял бровь, наконец взглянув на неё с усмешкой.
– Это вам не рынок, – протянул он, барабаня пальцами по столу. – Тут не торгуются.
Она не ответила, а просто достала конверт и положила перед ним. Следователь хмыкнул, лениво наклонился вперёд и заглянул внутрь.
– Недостаточно.
– Это всё, что у меня есть.
– Жаль. Значит, девочка пойдёт по делу.
Он откинулся в кресле, закурил, наслаждаясь своей властью. Татьяна не двигалась.
– Вы уже получили своё, – её голос звучал ровно, почти бесцветно. – Этого хватит.
Он смотрел на неё долго, потом усмехнулся, снова заглянул в конверт, будто проверяя что—то. Затем, медленно, театрально спрятал его в стол.
– Ладно. Бумаги уйдут в архив.
Татьяна задержалась на мгновение, но потом развернулась и вышла.
К вечеру обвинение с Лены сняли. Мать вернулась домой медленно, почти волоча ноги. Сумка с пустым кошельком, в котором ещё утром лежали деньги, казалась тяжелее, чем была на самом деле. Воздух в подъезде был спертым, с запахом плесени и старых обоев. Лестничные пролёты тянулись бесконечно, и с каждым шагом она чувствовала, как в груди копится что—то тёмное, разрастающееся, давящее изнутри.
Дверь в квартиру открылась с привычным скрипом. Внутри было тихо, только слабый сквозняк шевелил занавески на кухне. Лена сидела за столом, неподвижная, со взглядом, устремлённым в пустоту. Она не обернулась и не шевельнулась, когда мать вошла и закрыла за собой дверь.
Татьяна прошла в комнату, остановилась у комода, потянулась к верхнему ящику. Дерево под её пальцами было тёплым, словно живым, но при этом пропитанным холодом. Она выдвинула ящик и достала старый кожаный кошелёк, потрескавшийся по краям. Он ещё хранил запах чужих рук – когда—то Андрей держал его в кармане, когда—то в нём были деньги на чёрный день, которые так и не стали спасением.
Она открыла его и замерла. Пустота. Совсем ничего – ни забытых купюр, ни старых билетов, ни даже мелочи, что обычно валялась на дне.
Татьяна смотрела внутрь, чувствуя, как эта пустота не просто наполняет кошелёк – она растекается дальше, заполняет всю их жизнь.
– Мы разорены, – сказала она наконец.
Голос её был тихим, но в этих словах не звучало ни сожаления, ни страха, ни даже злости. Только сухая констатация, похожая на приговор. Будто она произнесла не обычную фразу, а что—то, что теперь невозможно изменить.
Лена подняла взгляд, медленный, тяжёлый, но ничего не сказала. Она не удивилась. Ей не нужно было слышать эти слова, чтобы понять – всё кончено.
Внутри неё что—то сжалось, но не от ужаса, не от стыда, а от абсолютного осознания своей беспомощности. Всё уже случилось. Её жизнь превратилась в набор решений, которые она не принимала, а просто позволяла им происходить.
Она закрыла глаза, только в темноте не было покоя. Где—то глубоко в её голове снова прозвучал голос Артёма – низкий, с лёгкой усмешкой, наполненный уверенностью, в которой не было ни капли сомнения.
"Берут, что хотят."
Она резко вдохнула, но воздуха не хватило. Перед глазами возникла картинка: как он стоял напротив, усмехаясь, как касался её ладони, поднося бутылку пива к губам. Как тогда, в первую встречу, когда ещё казалось, что он просто играется, забавляется, разжигает в ней азарт.
"Берут, что хотят."
Слова стали громче. Они заполняли её, стучали в висках. Лена сжала пальцы в кулак, другой рукой вцепилась в ткань брюк так, что ногти вонзились в кожу.
Будущее исчезло. Оно рассыпалось на куски, превратилось в пустоту, такую же, какая была в кошельке матери, в её глазах, в их жизни. Она открыла глаза и посмотрела на Татьяну.
Мать всё ещё держала кошелёк, но теперь не смотрела на него. Её взгляд был направлен прямо на дочь. Они стояли так долго, не двигаясь. И в этой тишине обе понимали: выхода нет.
Потом Татьяна опустилась на стул. Она сидела неподвижно, сжимая в пальцах старый кошелёк, словно не решалась отпустить его, как будто этот кусок потрескавшейся кожи ещё хранил в себе что—то важное. Она смотрела в пустоту, но Лена видела – внутри матери что—то изменилось. Эта пустота больше не была обречённостью, не была даже усталостью.
Лена почувствовала, как воздух в комнате становится вязким, тяжёлым, будто в комнате внезапно исчез кислород. Что—то происходило, что—то неуловимое, но неотвратимое.
Мать вдруг подняла голову, и её взгляд стал другим – не усталым и опустошённым, а собранным и сосредоточенным. Лена не узнала этот взгляд.
– Есть один вариант, – сказала Татьяна.
Голос её был ровным, спокойным, будто всё давно решено. Лена не сразу ответила – у неё вдруг пересохло в горле.
– Какой? – выдавила она, чувствуя, как по спине пробежал холод.
Татьяна чуть склонила голову, словно размышляя, как сформулировать.
– Ты поедешь в Москву.
Это была простая фраза, но от неё у Лены внутри всё сжалось. Она смотрела на мать, но теперь будто не узнавала её. В её лице не было ни растерянности, ни сомнения, ни сожаления. Только холодный расчёт и странное удовлетворение, которое трудно было назвать радостью.
– Зачем? – голос Лены дрогнул, и она ненавидела себя за это.
Татьяна улыбнулась. Не той улыбкой, к которой Лена привыкла. Это была не материнская улыбка, не тёплая, не успокаивающая. Она была какой—то чужой, чужеродной, похожей на ту, что бывает у человека, который внезапно осознал, что нашёл выход, пусть даже этот выход ведёт в неизвестность.
– Там у тебя будет шанс.
Шанс. Лена не спросила, на что именно. Она молчала, но мысли в голове метались беспорядочно, отталкиваясь друг от друга, сталкиваясь, взрываясь, оставляя после себя лишь тяжёлый осадок.
Москва. Что могло ждать её там? Ответ всплыл сам по себе, и от него стало ещё холоднее.
За окном темнело. Летний день заканчивался внезапно, резко, как будто кто—то сдёрнул занавес, и вечер тут же накрыл город липкой, неуютной темнотой.
Лена почувствовала, как всё вокруг вдруг сжалось, сузилось до одного предложения.
"Ты поедешь в Москву."
Эти слова теперь не просто звучали в воздухе – они уже существовали, они уже определяли её будущее. Лена не знала, что сказать. Но знала, что её мнения никто не спрашивает.
Глава 2
Татьяна медленно потёрла пальцами висок, ощущая, как внутри нарастает напряжение, подобное натянутой струне, готовой лопнуть от малейшего движения. В кухне висела вязкая, тяжёлая тишина, заполненная невысказанными словами, страхами, ожиданиями, которые оба – и она, и Лена – предпочли бы не озвучивать. Часы на стене тикали размеренно, лениво, словно не спешили двигаться дальше, задерживаясь в этом мгновении, в этой остановившейся ночи, когда одно неверное слово могло разрушить шаткое равновесие, державшее их обеих на грани отчаяния.