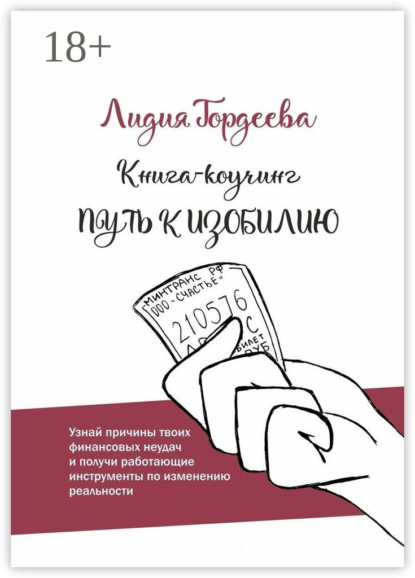- -
- 100%
- +

«Чтобы ловить монстров, нужно самому заглянуть в бездну. Но будь осторожен – ибо бездна смотрит в тебя в ответ. И порой тот, кто сражается с чудовищем, рискует сам стать им. Единственная победа в такой войне – не уничтожить врага, а остаться человеком, даже когда всё вокруг кричит, что ты должен им пожертвовать.»
–
Из дневника майора Игоря Громова
Пролог. Первый исповедник
Запах ударил в ноздри первым, едва Сергей Перепелкин переступил порог роскошного кабинета в центре Москвы. Сладковатый, медный, с примесью чего-то едкого – дезинфектора или медицинского спирта. Он видел всякое за два года в органах, но это… это было другим. Это было тихим, почти стерильным кошмаром.
Воздух был густым и неподвижным. Горит только одна настольная лампа, отбрасывая желтый, театральный свет на кресло за массивным дубовым столом. В кресле, в позе внимательного слушателя, сидел хозяин кабинета – доктор медицинских наук, известный психоаналитик Аркадий Верга.
Его лицо было искажено не болью, а какой-то застывшей, карикатурной маской интереса. Веки были оттянуты и зафиксированы маленькими, блестящими стальными зажимами, не позволяющими сомкнуть их даже в смерти. Широко раскрытые, уже помутневшие глаза смотрели в пустоту с выражением леденящего душу прозрения. Рот был растянут в жуткой, беззвучной ухмылке хирургическим роторасширителем. Из уголков губ вытекала струйка запекшейся крови, медленно окрашивая белоснежный халат в багровый цвет. На шее, чуть выше ворота, виднелись точечные кровоизлияния – следы то ли странгуляции, то ли болевого шока.
Сергей отвел взгляд, чувствуя, как подкашиваются ноги. Его взгляд упал на стол. Рядом с лампой стоял старый диктофон. Кнопка «продолжить» была аккуратно помечена одним мазком – каплей темной, почти черной крови, как будто невидимый режиссер этой пьесы указал: «Включи меня. Узнай правду».
Руки в нитриловых перчатках дрожали. Он сделал глубокий вдох, пахнущий смертью и антисептиком, и нажал кнопку.
Сначала – тишина, прерываемая лишь шипением ленты. Потом – ровный, спокойный, механически искаженный голос, лишенный пола и возраста. В нем не было ни злобы, ни торжества. Только холодная, безличная констатация.
«…и ты окончательно признаешь, что твоя профессиональная гордыня, твое циничное стремление к "интересному" клиническому случаю стоило жизни молодому человеку по имени Дмитрий Сорокин? Что ты сознательно оставил его без помощи, посчитав его суицидальные тенденции банальными и не стоящими твоего драгоценного времени?»
Голос доктора Верги, прерывистый, полный слез, ужаса и физической боли: «Да… да, признаю… Боже, я… я не думал… он действительно… прости…»
«Диагноз "Ложь и Гордыня" подтвержден. Процедура очищения начинается».
Раздался приглушенный, влажный звук, похожий на разрывание плоти. Потом – клокотание, судорожные, захлебывающиеся всхлипы. И наконец – тишина. Абсолютная.
Сергей выскочил из кабинета, едва успев добежать до туалета. Его вырвало прямо в раковину. Дежурный врач, стоявший в коридоре и говоривший по телефону, был бледен как полотно. Он опустил трубку.
«Нашли его три часа назад. Уборщица. Вызывайте… вызывайте Громова. Говорят, только он может понять таких, как этот».
Сергей, опираясь о косяк двери, лишь кивнул, глядя в стену. Он понял только одно: тот, кто это сделал, не был маньяком в привычном смысле. Он был чем-то иным. Хирургом от морали. Патологоанатомом душ. И это пугало куда больше.
Грехи чужие
Кабинет майора Громова был местом, где время текло иначе, а воздух был густым от непроговоренных мыслей и распавшихся судеб. Здесь не пахло кофе и свежей бумагой, как в других отделах. Здесь пахло старой пылью с архивных дел, грифелем с досок и тишиной, которая была громче любого крика.
Стоящие у стены грифельные доски были испещрены сложными схемами, стрелками, фотографиями жертв и подозреваемых – это была картография безумия, которую мог прочитать лишь один человек.
Игорь Громов сидел за своим абсолютно чистым столом, не двигаясь. Его взгляд, серый и бездонный, как озерная гладь в пасмурный день, был устремлен на схему «Цветочника» – недавно пойманного маньяка, оставлявшего на телах своих жертв букеты полевых цветов. Громов не просто изучил дело; он две недели жил в его шкуре. Читал те же книги о символике растений, смотрел те же бездарные сериалы, ходил теми же маршрутами от его убогой квартиры до парка, где он выслеживал жертв. Он понял, что для «Цветочника» убийство было не актом насилия, а актом опыления, болезненным и извращенным переносом жизни в иную, по его мнению, более совершенную форму. И именно это понимание, это абсолютное слияние с сознанием преступника, привело оперативную группу к его порогу в тот самый момент, когда он готовил новый «букет».
Дверь открылась без стука. Вошел начальник Управления, полковник Зайцев, с плотной картонной папкой в руках. Его лицо, обычно выражавшее привычную усталость, сейчас было напряжено.
«Игорь, закрывай своего ботаника. Есть работа. Другого калибра». Он шлепнул папку на идеально чистую столешницу. Звук был громким, почти кощунственным в этой тишине.
Громов медленно, будто возвращаясь из далекого путешествия, перевел на него взгляд. «Зайцев. Я почти внутри. Еще день, и я смогу предсказать, где он посадит следующую ромашку».
«Теперь не почти. Ты должен быть полностью внутри. В этом». Зайцев грубо открыл папку. Первая фотография, в полный рост, была как удар: доктор Верга в своем кресле. Громов не моргнул. Ни одна мышца на его лице не дрогнула. Его взгляд, сканер холодного искусственного интеллекта, скользнул по деталям: зажимы на веках, роторасширитель, неестественная поза, следы на шее, пятно на ковре.
«Серийный?» – голос Громова был ровным, монотонным, лишенным каких-либо эмоций.
«Первый из известных. Но почерк… Послушай это». Зайцев достал из папки небольшой цифровой диктофон, нажал кнопку воспроизведения.
Голос… Голос «Исповедника» заполнил тишину кабинета, как ядовитый газ. Громов замер. Он не просто слушал слова. Он слушал тембр, ритм, паузы, малейшие изменения интонации. Он искал изъян, эмоцию, след человеческой слабости. И не находил. Только холодную, безжалостную, почти машинную логику. Это был голос судьи, пришедшего из мира, где не было места сомнению.
Когда запись закончилась, в кабинете повисла звенящая тишина. Громов медленно поднял глаза на Зайцева. В его серых глазах что-крикнуло – не ужас, а интерес. Чистый, почти научный интерес.
«Это не он. Не мой "Цветочник"».
«Я знаю. Это – твое новое дело. Второй жертвы пока нет. Но он будет убивать снова. Останови его, Игорь. Останови, пока…» Зайцев не договорил, но его взгляд, полный чего-то тяжелого, был красноречивее любых слов. Пока он не стал эпидемией.
После его ухода Громов остался один. Он снова нажал кнопку воспроизведения. И снова. Он закрыл глаза, откинувшись на спинку кресла, позволяя этому голосу проникать внутрь, заполнять пустоты его собственного сознания, вступать в резонанс с его собственными мыслями. Он не чувствовал отвращения. Он не чувствовал страха. Он чувствовал лишь интенсивную, почти интеллектуальную жажду. Словно ему, наконец, предложили решить достойную задачу.
«…Диагноз "Ложь и Гордыня" подтвержден. Процедура очищения начинается».
Громов открыл глаза. В его взгляде, обычно пустом, вспыхнула крошечная, холодная искра. Охота началась. И впервые за долгое время он почувствовал, что живет.
Следственный эксперимент в кабинете Верги был похож на спиритический сеанс в оперетте о смерти. Оперативники и криминалисты двигались на цыпочках, боясь нарушить тот жуткий, выверенный до миллиметра порядок, который оставил после себя убийца. Меловые контуры тела на ковре казались священными символами.
Громов стоял посреди комнаты, неподвижный, как статуя. Он не просто осматривал помещение; он впитывал его всей кожей, всеми порами. Его взгляд, лишенный всякого человеческого любопытства, скользил по полкам с книгами по психоанализу, по кожаному дивану для пациентов, по следам на полу, по каждой пылинке, лежащей не на своем месте. Он пытался реконструировать не только события, но и намерения. Состояние ума.
Лидия Соколова вошла бесшумно, как тень. Она наблюдала за ним несколько минут, зная, что нарушать его транс раньше времени – все равно что будить лунатика на краю пропасти. Она видела, как его плечи напряглись, а пальцы правой руки слегка подрагивали, будто печатая невидимый текст. Верный признак: метод запущен. Он уже начинает сливаться.
«Игорь». Ее голос был тихим, но твердым. Якорь, брошенный в бушующее море его мыслей.
Он медленно, очень медленно повернул голову. Его глаза встретились с ее взглядом. «Лидия. Ты чувствуешь это?»
«Я чувствую запах смерти. И безумия». Она сделала шаг вперед. «И запах дорогого коньяка. Верга любил выпить после сеансов».
«Нет. Не безумия. Здесь… идеальный порядок. Хирургическая точность. Каждая деталь – часть перформанса, часть ритуала». Он подошел к зловещему креслу, провел рукой в перчатке по прохладной коже подлокотника. «Он не просто убивал. Он лечил. Исправлял дисбаланс. Смотри». Громов указал на пустое место на столе рядом с диктофоном. «Здесь лежал его ежедневник. Его убрали криминалисты. Но до этого… до этого на нем, я уверен, не было ни пылинки. Он все вытер после себя. Убийца. Он оставил только то, что было частью его "спектакля". Все лишнее – устранено».
Лидия сжала губы. Она видела, как темнеют круги под его глазами, как кожа на скулах натянулась еще сильнее. «Метод уже запущен? Полностью?»
«Он запускается сам. Этот голос… Он не кричит, не злорадствует. Он констатирует. Как я». Громов посмотрел на дипломат в ее руках. «Дай мне оригиналы всех записей. И полное досье на Вергу. Все, что есть. От его диссертации до квитанций из химчистки. И найди мне все дела его пациентов за последние… нет, за последние десять лет. Особенно тех, кто покончил с собой».
«Игорь…» Она положила дипломат на стол. «Не уходи слишком далеко. Этот… другой. Он не как те, кого мы ловили раньше. Он не животное в агонии. Он… философ со скальпелем. И скальпель он вонзает не в тело, а в душу».
Громов почти улыбнулся. Тонкие, бескровные губы дрогнули на миллиметр. «Тем интереснее. Чтобы поймать ангела возмездия, Лидия, нужно сначала понять его богословие. Изучить его писание». Он взял у нее дипломат и папку с файлами. «А его писание… написано здесь». Он указал пальцем на свой висок.
Он вышел из кабинета, не оглядываясь. Лидия осталась одна в центре комнаты, где был совершен акт «очищения». Ей стало холодно, хотя в помещении было душно. Она поняла, что боится не только убийцы, этого невидимого «Исповедника». Она с растущим ужасом осознавала, что боится за душу своего напарника. Он смотрел на это место не как следователь на место преступления, а как адепт на святилище.
Оперативный штаб развернули в соседнем здании. Комната была заставлена столами с компьютерами, на стенах висели карты, графики и фотографии жертвы. Воздух гудел от разговоров и звонков.
Громов уединился в углу, отгородившись от шума стопкой папок. Надев наушники, он погрузился в изучение материалов. Он слушал не только запись с диктофона, но и лекции Верги, его интервью, даже случайно сохранившуюся запись сеанса с пациентом.
Голос «Исповедника» преследовал его. Он звучал в голове даже в тишине. Громов ловил себя на том, что мысленно комментировал действия коллег тем же спокойным, безличным тоном.
«Следователь Петров берет третью чашку кофе. Попытка компенсировать недостаток сна и концентрации. Неэффективно.»
Он отключил диктофон и закрыл глаза. Метод требовал следующего шага – погружения в жизнь жертвы. Он начал с биографии Верги. Талантливый студент, быстрый карьерный рост, научные публикации, частная практика. Идеальная оболочка. Но Громов искал трещины.
Он изучал финансовые отчеты, расписание приемов, отзывы пациентов. Его внимание привлекло дело пятилетней давности – самоубийство студента Дмитрия Сорокина. В заключении судмедэкспертизы не было ничего подозрительного. Но в записях Верги об этом пациенте стояла лаконичная пометка: «Дебютная депрессия. Стандартная схема. Не представляет клинического интереса.»
Громов откинулся на спинку стула. «Не представляет клинического интереса.» Фраза из записи «Исповедника» обретала новый смысл. Он представлял себе последний сеанс. Верга, уверенный в своем превосходстве, отмахивается от отчаяния молодого человека. А через неделю тот вешается в своей квартире.
«Нашел что-то?» Лидия поставила рядом с ним стакан с водой. Ее взгляд был полон тревоги.
«Он не ошибся, – тихо сказал Громов, не глядя на нее. – «Исповедник». Его диагноз точен. Верга совершил профессиональное преступление. Он принес жизнь пациента в жертву собственной гордыне.»
«Это не оправдывает убийство, Игорь. Никакое преступление не оправдывает такой… жестокости.»
«Жестокость? – Громов повернулся к ней. В его глазах горел холодный огонь. – Это не жестокость. Это симметрия. Он вырезал язык, которым тот лгал и пренебрегал. Он заставил его смотреть на последствия своих действий. Это высшая форма правосудия. Возмездие, соответствующее преступлению.»
Лидия отшатнулась. «Боже, Игорь… Ты говоришь как он.»
«Я понимаю его. И чтобы поймать его, мне нужно понять его лучше, чем он понимает себя самого.»
Он снова надел наушники. Лидия смотрела на его неподвижную спину, и холодная ползла по ее спине. Она видела, как трещина в его психике превращается в пропасть.
Прошло десять дней. Затишье было зловещим. Громов практически жил в штабе, погруженный в изучение жизни Верги. Он почти перестал спать, его речь стала еще более отрывистой и безэмоциональной.
И вот пришел новый вызов. Тело нашли в заброшенной церкви на окраине города.
Алтарь. Запах ладана и смерти. Тело мужчины обнажено и приковано цепями к престолу в пародии на распятие. Ладони не пробиты гвоздями, а бережно обернуты белой тканью. Лицо застыло в маске ужаса и стыда.
«Священник Отец Артемий, – доложил один из оперативников. – Служил в местном приходе. Пропал два дня назад.»
Громов подошел ближе, не обращая внимания на шепот окружающих. Его взгляд скользнул по телу, фиксируя детали. Сложное, ритуальное увечье в области гениталий. Рана прижжена раскаленным железом в форме креста.
На аналое рядом с телом лежал простой диктофон. Громов, не дожидаясь криминалистов, в перчатках нажал кнопку.
Искаженный голос вел неторопливый диалог со священником. Выяснял детали его тайной связи с прихожанкой, о беременности, об аборте, который он ей навязал, назвав «очищением от греха». Голос Отца Артемия был сломанным, полным слез и раскаяния.
«…и ты признаешь, что своей ложью и лицемерием осквернил свой сан и погубил невинную жизнь?»
«Да… признаю… Господи, прости…»
«Грех "Прелюбодеяние и Лицемерие" подтвержден. Плоть, введшая в искушение, будет уничтожена. Начинаю очищение.»
Последовали звуки борьбы, сдавленный крик, а потом – тишина.
В штабе царило напряженное возбуждение. Два убийства. Очевидная связь. Серийный маньяк, выбирающий жертв среди тех, кто по долгу службы выслушивает чужие грехи.
Зайцев ходил по комнате, отдавая распоряжения. «Срочно составить список всех священников, психологов, адвокатов в городе! Обеспечить им защиту!»
Громов стоял в стороне, изучая фотографии с места преступления. Лидия подошла к нему.
«Он ускоряется, – сказала она тихо. – И его ритуалы становятся… сложнее.»
«Он набирается уверенности, – поправил ее Громов. – Его метод оттачивается. Первая жертва – психоаналитик. Вторая – священник. Оба – исповедники в своем роде. Оба скрывали глубокий личный грех, противоречащий их профессии.»
«Ты почти что восхищаешься им.» В ее голосе прозвучала горечь.
Громов посмотрел на нее. Его глаза были пусты. «Я восхищаюсь эффективностью. Он не просто наказывает. Он обнажает суть. Он стирает грань между преступником и жертвой, заставляя жертву признать себя преступником. Это… элегантно.»
Он отвернулся и снова уткнулся в фотографии. Лидия понимала, что теряет его. Он уходил в темноту, и она не знала, хватит ли у нее сил удержать его.
В оперативном штабе царило напряжение, похожее на предгрозовое состояние. Громов, похожий на призрака, перемещался между столами, покрытыми папками и фотографиями. Он уже почти не спал, питался кофе и холодной водой, его движения стали резкими и угловатыми.
Он проводил долгие часы, реконструируя последние дни Отца Артемия. Прослушивал проповеди, читал его дневники, разговаривал с прихожанами. Он пытался понять не только жертву, но и ее грех – не как абстрактное понятие, а как живую, разъедающую душу рану.
Однажды вечером, когда в штабе остались только они с Лидией, Громов неожиданно заговорил, не отрываясь от экрана компьютера:
«Знаешь, в чем главное отличие между нами и им?»
Лидия вздрогнула. Она уже привыкла к его молчанию. «В том, что мы не убиваем людей?»
«Нет. В том, что мы работаем с последствиями. Мы приходим, когда грех уже совершен, когда тело уже остыло. А он… он работает с причиной. Он находит грех и устраняет его носителя. В его системе мироздания – это логично.»
«Это безумие, Игорь.»
«Это альтернативная мораль.» Он наконец посмотрел на нее. «Отец Артемий. Он не просто изменил обету. Он убедил ту девушку, что аборт – это богоугодное дело. Он исказил саму веру, которую должен был защищать. В мире «Исповедника» такие люди – источник моральной заразы.»
Лидия встала и подошла к нему. «А твоя вера, Игорь? Во что ты веришь? В закон? В справедливость?»
Он помолчал, его пальцы замерли над клавиатурой. «Я верю в порядок. В причину и следствие. Его метод… он встраивается в эту веру.»
Она поняла, что это не просто профессиональная деформация. Это было обращение в новую религию. Религию «Исповедника».
На следующее утро Громов принес в штаб стопку распечаток – биографии всех пациентов Верги и прихожан Отца Артемия за последние годы. Он искал пересечения, общие нити, которые могли бы вести к убийце.
«Он один из них, – уверенно говорил Громов на планерке. – Кто-то, чью жизнь разрушили их грехи. Он не мститель в обычном смысле. Он санитар. Он очищает мир от тех, кто обманывает, прикрываясь чужим доверием.»
Зайцев скептически хмурился. «Слишком умно, Громов. Обычно все проще: обида, злоба, жажда мести.»
«Этот – не обычный,» – парировал Громов, и в его голосе впервые зазвучали нотки раздражения. – «Если мы будем искать обычного, мы его не найдем. Мы должны мыслить, как он.»
Лидия наблюдала, как его изоляция растет. Коллеги начали замечать его странное поведение, его одержимость. Шептались за его спиной.
Вечером того же дня Громов, изучая список прихожан, вышел на имя женщины, которая год назад обращалась за помощью и к Верге, и к Отцу Артемию. Ее сын покончил с собой. Она обвиняла обоих в своей трагедии.
«Вот он, – прошептал Громов, его глаза горели лихорадочным блеском. – Мотив. Идеальный мотив.»
Он приказал организовать за ней слежку. Лидия пыталась возражать: «Игорь, это лишь одна из версий. Нужно проверять все.»
«Нет времени, – отрезал он. – Он ускорился. Следующая жертва может быть уже в опасности.»
Он смотрел на фотографии жертв, и в его взгляде читалось нечто большее, чем профессиональный интерес. Почти… понимание.
Следующее тело нашли через неделю. В студии для фотосессий, в центре города. Жертва – Анна Свет, известный инфлюенсер, построившая карьеру на пропаганде «токсичной духовности», продаже онлайн-курсов по «просветлению» и «достижению нирваны за 10 дней».
Помещение было заставлено зеркалами. Тело сидело в позе лотоса перед самым большим из них. Лицо и тело, которые были ее главным капиталом, оставались нетронутыми. Это сбивало с толку.
Громов вошел в студию. Его взгляд сразу же упал на ее лицо. На широко раскрытые, не моргающие глаза. Он подошел ближе.
«У нее удалены веки, – тихо констатировал он, не оборачиваясь. – Аккуратно, хирургически. И зрачки расширены. Она ослеплена, но не физически. Это химия.»
На полу рядом с телом лежал диктофон.
Искаженный голос вел с ней долгую «медитацию». Он вытягивал из нее признание: ее учения – ложь, ее методы – плацебо, а за красивыми словами скрывается лишь жажда наживы. Она призналась, что несколько ее последователей сошли с ума, пытаясь достичь «просветления» по ее методикам.
«…и ты признаешь, что продавала им красивую ложь, калеча их души?»
«Да… да… это был просто бизнес…» – ее голос был пустым, безжизненным.
«Грех "Тщеславие и Духовное Растление" подтвержден. Если глаза обманывают, пусть видят лишь истину. Начинаю очищение.»
Последовали звуки борьбы, тихий стон, а потом – тишина.
В штабе Громов слушал запись снова и снова. Лидия наблюдала, как он медленно качается в кресле, его глаза закрыты.
«Он не просто наказывает их, – вдруг заговорил Громов, не открывая глаз. – Он дает им то, что они продавали другим. Верге – правду, которую он игнорировал. Священнику – «очищение» плоти, которое он проповедовал. Ей… он подарил «взгляд внутрь», вечное видение ее внутренних демонов. Это не возмездие. Это… ироничная справедливость.»
«Это садизм, прикрытый философией!» – резко сказала Лидия.
Громов открыл глаза. В них не было ни возмущения, ни согласия. Лишь холодное любопытство.
«Ты слепа, Лидия. Ты не хочешь видеть красоту его замысла. Он – художник, а их грехи – его холст.»
Он встал и подошел к доске, где были приколоты фотографии трех жертв.
«Он строит систему. Совершенствует ее. И он не остановится.»
Лидия смотрела на его спину, и ее охватывало отчаяние. Она понимала, что говорит не с Громовым. Говорит с его тенью, с эхом, которое оставил в его сознании «Исповедник».
Она подошла к Зайцеву.
«Его нужно отстранить, – тихо сказала она. – Он теряет связь с реальностью.»
Зайцев тяжело вздохнул. «Он единственный, кто хоть что-то понимает в этом деле. Пока он дает результаты, его руки развязаны. Держи его в узде, Соколова. Это твоя работа.»
Но Лидия уже не была уверена, что справится с этой работой. Громов ускользал, как песок сквозь пальцы, и с каждым днем его лицо все больше напоминало безликую маску «Исповедника».
Тишина в кабинете Громова стала иной. Теперь ее нарушал не только скрип его стула или шелест бумаг. Теперь в ней жил Голос.
Сначала это были лишь отголоски, случайные мысли, окрашенные в чужие интонации. Громов ловил себя на том, что, наблюдая за коллегами, мысленно комментировал их действия тем же спокойным, безличным тоном, что звучал на записях.
«Следователь Петров в пятый раз за утро проверяет телефон. Признак тревожного расстройства. Нуждается в профессиональной помощи, которую никогда не получит, ибо считает себя здоровым.»
«Криминалист Новикова прячет лицо в монитор, избегая зрительного контакта. Боится быть увиденной. Боится, что кто-то разглядит ее собственные мелкие, но многочисленные грешки.»
Он отмахивался от этих мыслей, как от назойливых мух. Спишет на усталость, на профессиональную деформацию. Но Голос настойчиво возвращался, становясь все более внятным, все более… своим.
Однажды поздно вечером, когда Громов в одиночестве сидел над биографией Анны Свет, Голос заговорил четко, почти что с досадой:
«Они все лгут. Носят маски. Твой напарник, например. Так усердно пытается тебя "спасти". А сама прячет самый большой страх – оказаться ненужной. Стать бесполезной. Ее праведность – лишь щит для ее эгоизма.»
Громов резко встал, отшвырнув стул. Он провел рукой по лицу. Он был трезв. Он не спал больше суток, но сознание его было ясным, острым, как бритва. Это не была галлюцинация. Это была его собственная мысль, прошедшая через призму логики «Исповедника». И самое ужасное – в ней была правда.
Он подошел к зеркалу в своем кабинете, долго всматривался в свое отражение. В запавшие глаза, в напряженные складки у рта. «Кто ты?» – прошептал он. Отражение молчало. Но Голос внутри него откликнулся:
«Я – тот, кто видит. Тот, кем ты всегда боялся стать. Тот, у кого хватит смелости назвать вещи своими именами.»