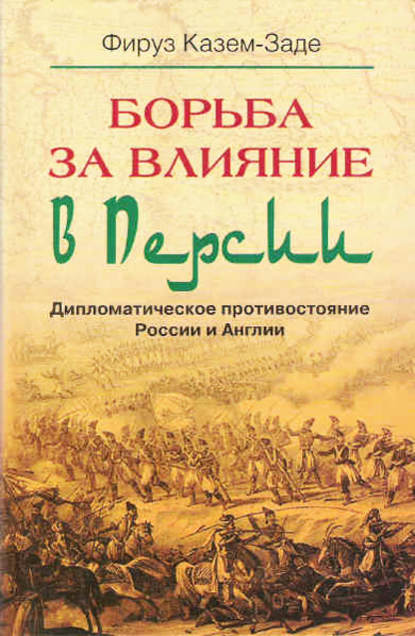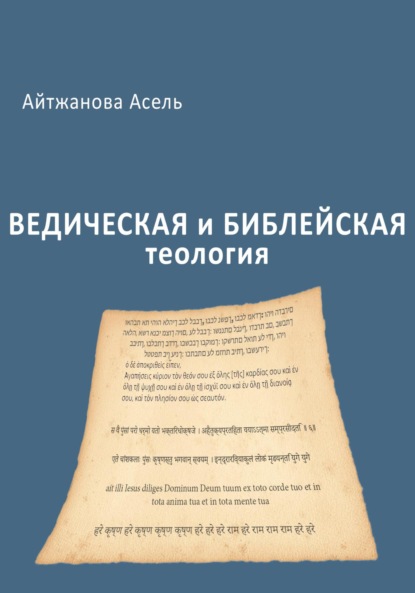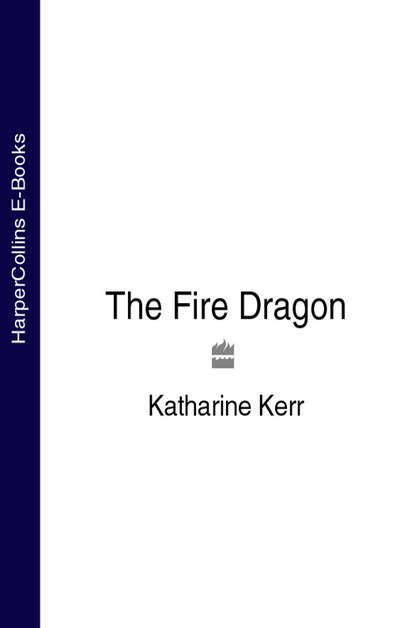Мужчина и Женщина. Сборник психоаналитических статей о любви, травмах и бессознательном
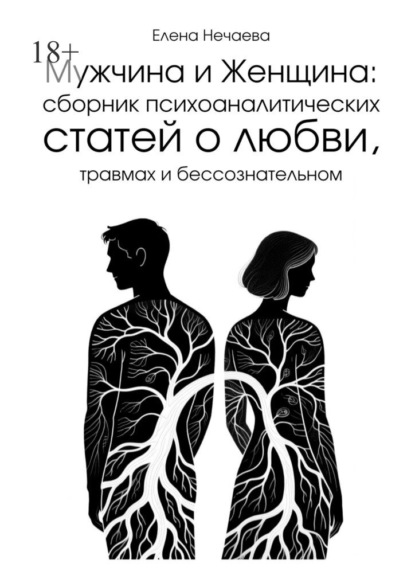
- -
- 100%
- +
Откуда берётся проекция
Проекции не возникают на пустом месте. Они уходят корнями в раннее детство – в те моменты, когда мы впервые столкнулись с недостатком любви, внимания, признания.
Ребёнок, чья мать была эмоционально недоступной, во взрослом возрасте будет проецировать на партнёра образ «того, кто всегда рядом».
Ребёнок, которого критиковали за каждую ошибку, будет искать партнёра, который «никогда не осудит».
Ребёнок, выросший в атмосфере страха, будет влюбляться в тех, кто «даёт чувство безопасности».
Это не выбор. Это бессознательный сценарий, направленный на исправление прошлого: «Если я найду того, кто не отвергнет меня, как мать/отец, – я докажу, что достоин любви».
Но проблема в том, что прошлое нельзя исправить через другого. Его можно только интегрировать – через встречу с собой.
Как проекция разрушает отношения
Когда проекция остаётся неосознанной, она превращается в ловушку.
Мы требуем от партнёра быть не собой, а образом. Он не должен злиться, сомневаться, уставать – ведь в проекции он «всегда спокоен и силён».
Мы перестаём видеть его потребности. Наша любовь направлена не на него, а на то, что он символизирует. Поэтому мы не слышим, когда он говорит: «Мне больно», «Мне страшно», «Я не такой».
Разочарование становится неизбежным. Реальный человек не может жить в образе. И тогда мы либо уходим, либо начинаем «исправлять» его – через критику, манипуляции, холодность.
Цикл повторяется. Мы находим нового партнёра, проецируем на него тот же образ – и снова разочаровываемся. Потому что проблема не в нём. Проблема – в проекции.
Как выйти из проекции
Освобождение начинается с одного вопроса: «Кого я вижу в нём – его или свой внутренний образ?».
Это приглашение к честности.
Замечайте моменты идеализации. Когда вы думаете: «Он идеален», спросите себя: «Что именно я в нём идеализирую? Что это говорит обо мне?».
Ищите не «того самого», а человека. Вместо: «Он спасёт меня» – спросите: «Кто он? Что он чувствует? Что ему нужно?».
Работайте с детской травмой. Проекция в отношениях – это попытка исцелить прошлое. Но исцеление возможно только через внутреннюю работу, а не через партнёра.
Позвольте партнёру быть человеком. С ошибками, страхами, противоречиями. Только тогда вы сможете полюбить его, а не свою фантазию.
Заключение
Влюблённость – это не встреча с другим. Это встреча с собой – через призму другого. Проекция – мост, по которому мы выходим из одиночества. Но если мы не перейдём этот мост до конца – мы останемся на его середине, вечно влюбляясь не в человека, а в тень.
Истинная любовь начинается тогда, когда проекция спадает – и мы впервые видим другого таким, какой он есть. Не идеальным. Не спасителем. Не зеркалом наших желаний. А просто – человеком. И именно в этом простом слове – вся глубина близости.
Вопросы для саморефлексии
1. В кого я влюбляюсь чаще всего – в тех, кто похож на моих родителей, или в их полную противоположность? Что за этим стоит?
2. Есть ли в моих отношениях качества партнёра, которые я «не замечаю», потому что они не вписываются в мой образ?
3. Боюсь ли я увидеть партнёра целиком – со всеми его слабостями и противоречиями?
4. Что я ищу в партнёре: спасение, подтверждение своей ценности или просто близость?
5. Готов (а) ли я сегодня полюбить не идеал, а человека – с его правом на быть несовершенным?

Часть II. Семья как поле битвы и зеркало
В этой части мы переходим от первых порывов влюблённости к реальности семейной жизни – той зоне, где любовь сталкивается с бытом, ролью, ожиданиями и скрытыми сценариями. Семья здесь предстаёт не как убежище, а как зеркало: в ней отражаются не только наши желания, но и невысказанные травмы, культурные установки, страхи быть недостаточным. Мы поговорим о том, почему романтика уступает место рутине, как бытовые обязанности становятся полем для бессознательных конфликтов, и почему даже молчание свекрови может звучать громче слов. Эти статьи – не обвинение и не руководство, а приглашение увидеть в семейной драме не хаос, а структуру, которую можно понять – и, возможно, изменить.
Свекровь: Несмешная и Незамеченная
Почему в фольклоре полно анекдотов про тёщу, но ни одного – про свекровь? Отсутствие шуток – не признак идеальности, а симптом глубокой культурной травмы. В этой статье мы разберём, почему свекровь остаётся «незамеченной», как её молчаливое присутствие формирует невидимые границы в паре и почему гнев на неё часто ощущается как предательство самого себя.
В психоаналитической практике одним из самых болезненных и редко озвучиваемых конфликтов является напряжённость между женщиной и матерью её мужа. Не потому, что его нет – а потому, что он замаскирован под уважение, лояльность или даже «нормальные семейные отношения». И ключ к пониманию этой динамики кроется не в поведении свекрови, а в том, почему мы не смеёмся над ней.
Отсутствие анекдотов – симптом культуры
Попробуйте вспомнить анекдот про свекровь. Скорее всего, не получится. Зато анекдотов про тёщу – множество. Почему? Потому что тёща – «чужая мать», объект внешней системы, которую можно высмеять, обезвредить, оттолкнуть. Смех здесь – защитный механизм: через карикатуру мы снимаем тревогу, связанную с её вторжением в «нашу» семью.
Свекровь же – не объект, а субъект власти. Она – мать того, кто в патриархальной структуре семьи считается главой. Её нельзя высмеять, потому что это означало бы оскорбление символического порядка, в котором муж – источник безопасности, статуса и идентичности жены. Высмеять свекровь – значит покуситься на авторитет сына. А это – угроза утраты любви, признания и, в крайнем случае, места в мире.
Запрет на гнев и его вытеснение
Агрессия по отношению к матери – одна из самых запрещённых эмоций в культуре. Она не просто «не одобряется» – она немыслима. Поэтому гнев на свекровь не выражается. Он вытесняется. Он превращается в хроническую тревогу, бессонницу, «необъяснимую» усталость, чувство, что «что-то не так, но я не знаю что».
Тёща становится «разрешённой мишенью» для проекции подавленной агрессии к собственной матери. Свекровь же – запретная зона. И не потому, что она добрая. А потому что её нельзя трогать – иначе рухнет всё: иллюзия стабильности, вера в мужа, надежда на безопасность.
Свекровь как внутренний надзиратель
Лакан сказал бы: свекровь – это воплощение Большой Матери, которая смотрит из глубины символического порядка. Она не обязательно присутствует физически. Она уже встроена в психику жены как голос Сверх-Я: «Ты недостаточно хороша для моего сына», «Ты не так его кормишь», «Ты не такая, как я».
Этот голос нельзя высмеять, потому что он – не внешний. Он – внутренний. И тогда смех становится невозможен. Потому что смеяться – значит признать, что ты не одна. Что ты всё ещё в её поле. Что ты не свободна.
«Критиковать свекровь = критиковать мужа»: бессознательная логика слияния
Одна из моих клиенток говорила: «Если я скажу, что свекровь – плохая, то тем самым скажу, что мой муж – тоже плохой». Это не лояльность. Это бессознательная логика идентификации: муж воспринимается не как автономный субъект, а как продолжение своей матери. Следовательно, оценка матери – это оценка источника, из которого возник супруг.
Это магическое мышление: если мать «плохая», то и то, что из неё вышло, – «плохое». А значит, выбор партнёра – ошибка. Любовь – иллюзия. Надежды – напрасны. Критика свекрови угрожает не отношениям – она угрожает смыслу всей жизни.
Сепарация как акт символического рождения
Изменение этой динамики возможно только через двойную сепарацию: – от собственной матери (внутренней); – от фантазма слияния мужа с его матерью.
Когда женщина перестаёт быть «продолжением» своей матери, она перестаёт нуждаться в том, чтобы муж был «продолжением» своей. И тогда свекровь перестаёт быть воплощением угрозы – и становится просто другим взрослым человеком. С которым можно не соглашаться. Которому можно сказать «нет». Которого можно – не любить принудительно.
Теоретический вывод
Проблема со свекровью – почти всегда проблема с собственной матерью. Пока вы не отделены от своей – вы будете воспринимать чужую как часть себя. Пока вы не разрешили конфликт с внутренней матерью – вы будете бояться внешней. Пока вы не перестали быть «хорошей девочкой» для своей мамы – вы будете «хорошей невесткой» для чужой.
Свобода в браке начинается не с разговора со свекровью. Она начинается с внутреннего разрыва с материнской матрицей. С того момента, когда женщина говорит себе: «Я – не продолжение моей матери. Мой муж – не продолжение своей. Мы – новая система. И мы имеем право на свои границы – даже если это больно для их прошлого».
Вопросы для саморефлексии
1. Какие чувства вызывает у вас фигура свекрови – даже если вы с ней не живёте или её уже нет в живых?
2. Замечали ли вы за собой тенденцию защищать свекровь, даже когда она поступает несправедливо? Что за этим стоит?
3. Есть ли у вас внутренний голос, который оценивает вас «от имени» свекрови? Как он звучит?
4. Воспринимаете ли вы своего партнёра как автономного человека – или как «продукт» его семьи?
5. Готовы ли вы сегодня отделить свою идентичность от материнской матрицы – и позволить своему партнёру сделать то же самое?
Куда уходит романтика
Конфетно-букетный период – не магия, а биологически запрограммированный «брачный танец», призванный обеспечить сближение партнёров. Но когда гормональный коктейль спадает, начинается самое важное: встреча с реальным другим. В этой статье мы разберём, почему романтика не исчезает – она трансформируется, и как не принять зрелую близость за «потерю любви».
Вопрос, который часто звучит в кабинете психоаналитика: «Почему всё так красиво начиналось – а теперь стало обыденным?».
За этим вопросом – не просто ностальгия. За ним – тревога: «Неужели любовь прошла?».
Но психоанализ предлагает иной взгляд: конфетно-букетный период – это не любовь, а её пролог. Это не утрата, а переход – от иллюзии к реальности, от проекции к встрече.
Биологический театр: гормоны как режиссёры влюблённости
С точки зрения эволюционной психологии, конфетно-букетный период – это человеческая версия «брачных танцев», наблюдаемых у птиц, рыб и млекопитающих. Самец демонстрирует силу, щедрость, заботу; самка – красоту, доступность, восприимчивость. Цель – не романтика, а обеспечение сближения, необходимого для продолжения рода.
У человека этот процесс подкрепляется мощным гормональным коктейлем:
– дофамин создаёт эйфорию и зависимость от присутствия другого;
– окситоцин формирует чувство близости и доверия;
– норадреналин вызывает трепет, бессонницу, «порхание над землёй».
Но ни один организм не может бесконечно поддерживать такое состояние. Это – марафон на спринтерских ресурсах. Через 6—18 месяцев гормональный фон стабилизируется. И тогда начинается то, что многие ошибочно принимают за «конец любви».
От идеализации – к реальному другому
В конфетно-букетный период партнёр воспринимается не как он есть, а как проекция внутреннего идеала. Мы влюбляемся не в человека, а в то, что он символизирует: надежду на исцеление, подтверждение собственной ценности, обещание полноты бытия.
Когда гормональный туман рассеивается, мы впервые видим реального другого – с его привычками, страхами, слабостями, нелогичными реакциями. И здесь возникает выбор:
– отвергнуть реальность и начать искать нового носителя идеала (повторяя паттерн «влюблённость → разочарование → уход»);
– принять реального человека и начать строить отношения не на иллюзии, а на взаимном признании.
Второй путь – это и есть настоящая любовь. Не та, что «всё прощает», а та, что видит и принимает.
Романтика не исчезает – она меняет форму
Многие считают, что зрелые отношения – это «скучно». Но это заблуждение. Романтика не исчезает – она переходит из внешней формы во внутреннюю. Раньше романтика – это букеты, сюрпризы, страстные признания. Позже – это внимание к деталям: помнить, как партнёр любит чай; не перебивать, когда он устал; молча обнять в момент тревоги.
Это не «менее романтично» – это более глубоко. Это романтика доверия, а не интриги; присутствия, а не демонстрации.
Когда «обыденность» становится симптомом
Однако бывает и по-другому. Иногда «конец романтики» – не естественный переход, а симптом неразрешённых конфликтов:
– один партнёр остаётся в позиции ребёнка, ожидая, что другой будет «дарить радость»;
– оба боятся уязвимости и заменяют близость бытовым сотрудничеством;
– один идеализировал другого и теперь не может принять его человечность.
В таких случаях «обыденность» – это не зрелость, а замороженное развитие. И тогда важно не «вернуть былую страсть», а начать диалог с реальностью.
Как сопровождать переход – а не бороться с ним
Не идеализировать «начало». Вспомните: даже в конфетно-букетный период были тревоги, сомнения, неуверенность – просто они были заглушены гормонами.
Не требовать от партнёра быть «как раньше». Он не изменился – вы просто перестали в его проецировать.
Создавать новую романтику – ту, что основана на знании друг друга, а не на фантазии.
Позволить себе быть уязвимым. Истинная близость рождается не в идеальности, а в принятии несовершенства – своего и партнёра.
Заключение
Конфетно-букетный период заканчивается не потому, что «любовь прошла», а потому что наступает время настоящей любви – той, что строится не на гормонах, а на выборе.
Не на иллюзии, а на встрече.
Не на страсти, а на присутствии.
И если вы чувствуете, что «всё стало серым» – возможно, вы просто ещё не научились видеть красоту в простом: в том, как ваш партнёр молча моет посуду после ужина, зная, что вы устали.
Это и есть романтика зрелости.
Вопросы для саморефлексии
1. Что именно я называю «потерей романтики» – отсутствие сюрпризов, или отсутствие чувства, что меня видят?
2. Какие качества партнёра я идеализировал (а) в начале отношений – и какие из них оказались проекцией моих собственных желаний?
3. Готов (а) ли я сегодня строить близость не на эйфории, а на ежедневном выборе быть рядом – даже в молчании, усталости, быте?
4. Что для меня сегодня – «романтика»? Это внешняя демонстрация или внутреннее ощущение связи?
5. Могу ли я увидеть в «обыденности» не утрату, а возможность для более глубокой, более честной любви?
«Я – юрист, а не слесарь»: психоаналитическое прочтение мужского отказа от бытового действия
Фраза «Я – юрист, а не слесарь» звучит как шутка, но за ней скрывается глубокая психоаналитическая динамика: страх утраты статуса, стыд за телесность, травма неудачи и бессознательное стремление остаться «маленьким мальчиком», за которого всё делают другие. В этой статье мы разберём, почему современный мужчина всё чаще отказывается от участия в бытовой реальности – и что на самом деле стоит за этим отказом.
В клинической практике всё чаще встречается феномен, который на первый взгляд кажется бытовым, но на деле оказывается симптомом глубоких культурных и психологических сдвигов: мужчина, социально успешный, высокообразованный, отказывается участвовать в «низких» видах деятельности – починить смеситель, заменить лампочку, собрать мебель. Он не просто не хочет – он не может, не без сильнейшего внутреннего сопротивления. И за этим «не могу» скрывается не лень, не высокомерие и даже не эгоизм, а сложная сеть защитных механизмов, травм и культурных установок.
Нарциссическая защита: страх унизить «Я»
Одна из ключевых причин отказа – нарциссическая уязвимость. В психоаналитическом понимании нарциссизм – это не просто самолюбование, а хрупкая структура «Я», которая требует постоянного подтверждения своего статуса. Любое соприкосновение с «низким» – грязью, инструментами, физическим трудом – воспринимается как угроза целостности идеального образа себя.
Фраза «Я – юрист, а не слесарь» – это не самоописание, а крик защиты: «Если я этим займусь, я перестану быть тем, кем себя считаю». Это не про профессию – это про иерархию: интеллектуальный труд возводится в ранг «чистого», «возвышенного», а физический – принижается до уровня «обслуживающего», «второсортного». Признать ценность слесарного труда – значит подорвать собственную позицию в этой иерархии.
Кризис маскулинности: «настоящий мужчина» между мифом и реальностью
Современный мужчина оказывается в ловушке между двумя противоречивыми идеалами:
– традиционная маскулинность: «Настоящий мужчина должен уметь всё – от забора до двигателя»;
– постмодернистская маскулинность: «Будь чувствительным, делегируй, не напрягайся».
Этот конфликт вызывает глубокий стыд: если он не умеет чинить – он «не мужчина»; если он чинит – он «теряет статус». В результате формируется двойная лояльность, которая разрывает психику изнутри. Отказ от бытового действия становится способом избежать этого разрыва – но ценой утраты связи с собственным телом и материальной реальностью.
Страх неудачи и тирания перфекционизма
Многие мужчины выросли в семьях, где ошибка воспринималась как провал. Их учили: «Если не можешь сделать идеально – не начинай». В результате любая бытовая задача активирует жестокое Сверх-Я, внутреннего критика, который шепчет: «Ты опять всё испортишь. Ты безрукий. Ты неудачник».
Чтобы избежать боли стыда, человек предпочитает не начинать вовсе. Лучше сказать: «Это ниже меня», чем признать: «Я боюсь, что не справлюсь». Это не лень – это защита от распада «Я» при малейшей неудаче.
Проективная идентификация: «Пусть жена/мама/мастер сделает»
Часто за отказом стоит материнский перенос. Мужчина бессознательно воспринимает жену как продолжение своей матери – того, кто «всё делает за него». Это регрессивная позиция: вместо того чтобы быть субъектом действия, он возвращается в роль «маленького принца», за которым ухаживают.
Когда жена не справляется с этой ролью, он раздражается: «Почему ты не можешь, как моя мама?». Это не претензия к ней – это разочарование в разрушении иллюзии, что кто-то всегда будет заботиться о нём.
Телесный стыд и отчуждение от материального мира
Современный интеллектуал часто живёт в мире идей, символов, экранов. Его тело – помеха. Грязь, пот, запахи, физический контакт с «бета-элементами» (по Биону – необработанной реальностью) вызывают отвращение. «Лезть под раковину» – значит столкнуться с материальностью, смертностью, энтропией. Это угрожает иллюзии «чистого разума», парящего над миром.
Культура потребления: «Всё можно заказать»
Наконец, современная культура легитимизирует отказ от действия: «Зачем учиться, если можно заказать?». Это не просто удобство – это культурно санкционированная инфантильность. Мир должен работать для меня – без моего участия. Но когда сервис подводит, человек остаётся беспомощным, злым, растерянным. Он не хозяин жизни – он её потребитель.
Терапевтический выход: от защиты к целостности
Психоанализ не осуждает этот отказ – он помогает понять его как симптом. За «высокомерием» – стыд. За «рациональностью» – страх. За «ленью» – травма.
Работа идёт в нескольких направлениях:
– деконструкция иерархии «умственный/физический труд»;
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.