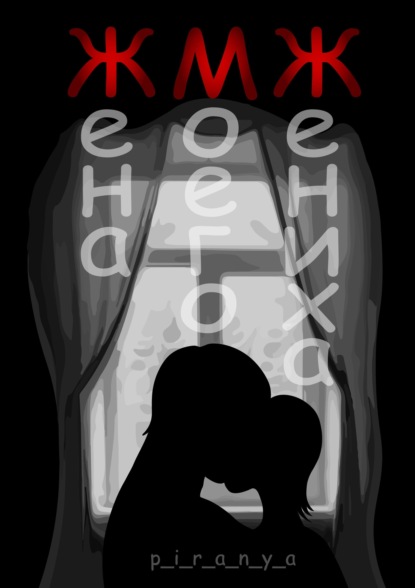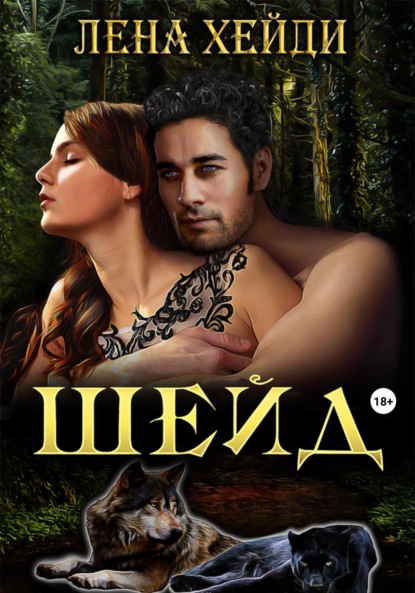Удод о звучащих буквах
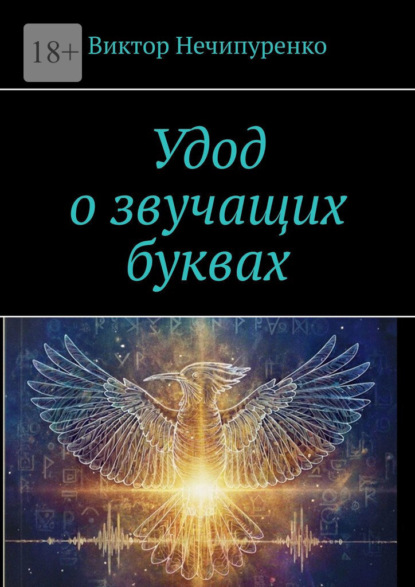
- -
- 100%
- +
В совокупности, представленные фрагменты из учения Ибн аль-Араби рисуют величественную картину мироздания, пронизанного Божественным присутствием и управляемого Его абсолютной Волей и Знанием. Путь познания начинается с внешних форм – ритуалов, подобных обходу Каабы, которые служат символическими вратами к внутреннему преображению. Однако истинное постижение требует выхода за рамки формального исполнения и даже за пределы одного лишь рационального осмысления. Знание многогранно, и его полнота раскрывается через синтез разума, интуиции и божественного откровения, которое озаряет сердце верующего.
Центральной осью всей системы Ибн аль-Араби является идея абсолютного Единства Бога. Все многообразие тварного мира, все противоположности и кажущиеся противоречия в конечном счете разрешаются в трансцендентной простоте Божественной Сущности. Метафизические размышления о природе Абсолюта, Его атрибутах (Воле, Знании, Речи, Власти, Жизни) и Его отношении к творению (создание из ничего, непрерывное обновление бытия, предопределение) служат интеллектуальным фундаментом для мистического опыта и духовной практики.
Учение Ибн аль-Араби органично соединяет теологию, философию, мистицизм и практические аспекты религии, такие как необходимость праведного руководства (имамат) и вера в эсхатологические реалии. Оно показывает, что социальный порядок, индивидуальная этика и метафизическое понимание взаимосвязаны и проистекают из единого Источника. Цель знания – не само по себе интеллектуальное достижение, а духовное очищение и приближение к Абсолютной Истине, к вечному счастью в Боге.
Особое внимание великий мистик уделяет процессу духовного восхождения, который он описывает как последовательное раскрытие внутренних смыслов за внешними формами. Каждая ступень этого восхождения требует не только интеллектуального понимания, но и глубокого переживания, преображения самого естества человека. Мистический опыт у Ибн аль-Араби не противопоставлен рациональному познанию, а венчает его, открывая те измерения истины, которые недоступны одному лишь разуму. В этом синтезе знания и духовной реализации заключается уникальность его подхода, который влиял на исламскую мысль на протяжении веков.
Таким образом, тексты Ибн аль-Араби предлагают целостное мировоззрение, где каждый аспект бытия – от мельчайшего атома до высших ангельских чинов, от ритуального действия до глубочайшего мистического созерцания – указывает на Единство Всевышнего Аллаха и служит ступенью на пути возвращения к Нему.
«Мекканские Откровения» о Любви
Глава 178 «Мекканских Откровений» Ибн Араби начинается с признания: любовь – это тайна, нечто, что познается на вкус, но реальность которого ускользает от окончательного определения. «Любовь – это вкус, и ты не знаешь его реальности…» Эти слова – врата в созерцание. Шейх сразу же погружает нас в океан непостижимого. Любовь – не концепция, не доктрина, которую можно препарировать разумом, а духовное переживание, непосредственное касание Истины. Она как аромат цветка в ночи – ты ощущаешь его, он наполняет тебя, но источник его и суть остаются сокрытыми во тьме невыразимого.
Шейх говорит о любви как о силе, которая облачает нас в «одеяние противоположностей». В этом образе – глубокая мудрость. Любовь не упрощает, она вмещает всю сложность бытия. В сердце любящего встречаются и примиряются казалось бы несовместимые вещи: радость и боль, близость и отдаленность, полнота и пустота. Любовь – это не статичное состояние, а динамичное, трепещущее сердце, в котором сходятся все нити реальности, где «рассеянное настоящее» обретает единство в огне чувства.
И эта любовь, как говорит Шейх, доказывает «необходимость истины». Она – не просто человеческое чувство, а отблеск Божественного в нас. Она видна «в нас и в Нем». Это указание на то, что любовь – это мост между тварным и Нетварным, между человеком и Богом. Она – свидетельство того, что Истина (Аль-Хакк) не только трансцендентна, но и имманентна, присутствует в самом сердце Своего творения, в самом акте любви. Любовь – это язык, на котором Бог говорит с душой, и душа откликается Богу. Это первое прикосновение к тайне, первый глоток из источника, вкус которого сладок и непостижим.
Шейх проводит различие между разными ликами любви. Есть любовь земная, укорененная в природе, имеющая начало и конец. Есть любовь человеческая, стремящаяся к слиянию душ и тел – конечная цель ее, говорит он, в соединении. Но есть Любовь к Господу, «которая не имеет второго», не имеет начала в том же смысле, что и тварные влечения. Эта Любовь – иного порядка, она исходит от Него, «Слова света и руководства». Она не рождается из нужды или недостатка, она – дар, изливающийся из Божественного Источника.
Ибн аль-Араби предлагает нам взглянуть глубже на объекты нашей земной любви. Любовь к Зайнаб, Низам или Анан – это «прекрасный символ», изысканное одеяние, скрывающее под собой нечто большее. Эти образы – лишь завесы, сквозь которые просвечивает сияние Истинного Возлюбленного. Всякая красота, всякое притяжение в этом мире – лишь слабый отзвук, тень Его несравненной Красоты. Любящий, поглощенный этими символами, сам становится «одеянием», в которое облекается проявляющийся Возлюбленный. Он не любит творение само по себе, но любит проявление Божественного в творении. «Я не люблю ни одно из Его творений и ничего, кроме своего существования, так что поймите». Это не эгоизм, но глубочайшее прозрение: любить свое истинное, глубинное Существование – значит любить Того, Кто является источником всякого существования, любить Бога в Его самораскрытии через тебя.
Сердце такого любящего претерпевает невероятное расширение. Оно становится необъятным, способным вместить то, что превыше всякой меры. Шейх приводит слова Абу Язида: сердце знающего так велико, что Трон со всем содержимым, повторенный бесчисленное множество раз, не заполнил бы и уголка его. Как же тогда велико сердце любящего Бога? Эта безмерность сердца – дар Милости, но она и превосходит ее, становясь пространством, где может развернуться бесконечная Любовь. Никакие весы мира не могут взвесить эту любовь, как не могут взвесить слова «Нет бога, кроме Бога», которые перевешивают все земные записи. Сердце любящего становится зеркалом, отражающим безграничность Возлюбленного.
Величайший Шейх продолжает рисовать образ любящего, погружаясь в глубины его преображенного состояния. Любящий становится оком своего Возлюбленного. «Я тот, кого я люблю, а тот, кого я люблю, это я». Это не просто поэтическая метафора, но указание на глубочайшее единение, где границы «я» растворяются в Присутствии Другого. Слух, зрение, язык – все способности любящего становятся проводниками Божественного. Это состояние, где воля человека уступает место воле Возлюбленного, где действие совершается не мной, но через меня.
Такой любящий перестает вопрошать «Почему?». Он не судит действия Возлюбленного, проявленные в мире или в его собственной жизни. Он видит руку Возлюбленного во всем и принимает все с полным доверием и даже наслаждением. Вспоминая пример Анаса, служившего Пророку, Шейх подчеркивает это качество полного принятия. Ибо как можно спрашивать «почему», если знаешь, что ни один атом не движется без Его позволения? Всякое действие становится проявлением Воли Возлюбленного, и любящий покорен ей, как река покорна своему руслу. Он не видит своей заслуги в верности, его сердце охвачено огнем, который сжигает все, кроме памяти о Возлюбленном.
Но этот огонь невозможно скрыть. Любовь, говорит Шейх, «сильнее сердца», она «не оставляет нетронутой завесы». Тайна любящего неизбежно рвется наружу – во вздохах, в непрерывных слезах, в недугах тела, в бессоннице, в словах, которые могут показаться неразумными миру. Это не слабость, но знак подлинности. Любовь – это сила, превосходящая человеческие способности к контролю и сокрытию. И эта явленность любви находит отклик: когда Бог любит раба, об этом возвещается на небесах, и любовь к нему нисходит на землю, обретая «принятие». Духовные существа узнают и принимают его, даже если внешние проявления мира отвергают.
Любящий становится «неизвестным», «неопределенным». Его имя – то, которым называет его Возлюбленный. Как разные народы обращаются к Богу на своих языках, взывая к одной и той же Реальности из глубины своего состояния, так и любящий откликается на любой зов Возлюбленного. Он теряет свою самость, свою отдельную идентичность, становясь чистым откликом, эхом Божественного Слова. Его сущность определяется не им самим, но Тем, Кто его любит. Он – тайна, раскрытая миру, но понятная лишь тем, чьи сердца тоже затронуты Любовью.
Погружение в Любовь ведет любящего в состояния, парадоксальные для обыденного сознания. Он может испытывать «изумление» (хайра), великую тоску, не зная точно, к кому или чему она обращена. Сама близость Возлюбленного становится завесой. Образ Возлюбленного так плотно окутывает душу, так управляет воображением, что любящий ищет Его вовне, не осознавая, что уже обнимает Его внутри себя. Он ищет Его через Него же. «Мое сердце потерялось, где мне его найти?» – это не просто потерянность, но растворение в том, что ищется. Он в Нем и не знает, что он в Нем.
В этой поглощенности стирается острота различий между союзом и разлукой. «Ночь, когда я прихожу, похожа на ночь, когда я ухожу». Любящий непрестанно свидетельствует Присутствие, будь оно явлено как близость или как отдаленность. Его забота – не о внешних состояниях, а о самой связи с Возлюбленным, которая не прерывается. Божественное повеление едино, «как мгновение ока». Его близость – та же, что и Его даль. Нет такой связи, которая допускала бы подлинное разделение, и нет такого отчуждения, которое требовало бы воссоединения для того, кто постоянно пребывает в Его Свидетельстве.
Любящий принимает на себя глубочайшее унижение (dhilla) перед Возлюбленным, добровольно отдавая Ему всю власть над собой. Но в этом унижении – тайна Божественного «баловства». Шейх напоминает хадис: «Раб Мой, Я был голоден, и Ты не накормил Меня… Я был болен, и Ты не посетил Меня… Кто же даст Аллаху прекрасный заем?». Сам Бог, Абсолютно Богатый, ставит Себя в положение нуждающегося перед любящим рабом, тем самым возвышая его и проявляя Свою нежность. Это не унижение рабства, но сладость близости, где роли словно меняются в танце Любви.
Однако это не отменяет трепета и «смущения» (хайра) сердца. Любящий не всегда знает расположение Возлюбленного, особенно когда Возлюбленный – Бог. Тайны Божественного замысла, причины Его повелений и запретов, Его мудрость в том, что Он повелевает верить тем, о ком предвечно знает, что они не уверуют – все это порождает смятение и трепет в душе, осознающей безграничность Божественного Знания и Воли.
Истинная любовь, рожденная не из поиска выгоды, а из созерцания самой Сущности Возлюбленного, Его Красоты, не колеблется от внешних проявлений. Она «не увеличивается из-за доброты Возлюбленного и не уменьшается из-за его грубости». Рабиа аль-Адавийя выразила это совершенно: «Я люблю Тебя дважды: любовью страсти… и любовью потому, что Ты ее достоин». Любовь-страсть поглощена воспоминанием, любовь-достоинство – чистым созерцанием Его Сущности. Ни праведность любящего не добавляет к ней, ни его оплошности не умаляют ее. Она подобна самому акту творения – всегда нова, всегда исходит от Него, не завися от состояний сосуда, ее принимающего. Эта любовь – божественное равновесие, не подверженное влиянию случайных обстоятельств. Для того, кто достиг ее, «Твое блаженство или твое мучение для меня одинаковы».
Путь Любви ведет за пределы общепринятых норм и самого себя. Любящий, поглощенный Возлюбленным, может показаться миру лишенным «хороших манер», ибо его поступки диктуются не социальными условностями, а внутренним велением Любви, которое иногда идет вразрез с разумом. Он подобен «животному, чья рана велика» – не в смысле дикости, но в том, что его действия исходят из состояния, где обычная ответственность, основанная на рациональном выборе, отступает. Любовь сама по себе становится оправданием, силой, выводящей за рамки суждений.
Это приводит к высшей точке – «любви любви», где любящий забывает не только себя, но и саму свою удачу в любви, и даже образ Возлюбленного растворяется в самой Любви. «Они забыли Бога, поэтому Он забыл их» – здесь «забыть» означает полное растворение в Объекте любви, стирание всякой отдельности. Любящий лишается атрибутов, его определяет лишь то, чем наделяет его Возлюбленный. Он стерт в доказательстве (maḥw fī al-ithbāt) – его действия видны миру, но их истинный Источник сокрыт; он есть, но его бытие – лишь отражение Бытия Возлюбленного.
Он полностью покоряется воле Возлюбленного, отказываясь от собственной воли. Его качества смешиваются с качествами Возлюбленного – где кончается раб и начинается Господь, становится неразличимо в единстве Любви. Он «не имеет души» (покоя) рядом с Возлюбленным, ибо постоянно бдит, следит за Его желанием, охваченный священной ревностью (ghayra) – не из эгоизма, но из трепета перед Величием Возлюбленного, желая скрыть Его от недостойных взоров и скорбя о слепоте мира. Эта ревность заставляет его скрывать свою любовь, как делал Пророк, играя с детьми и проявляя земную привязанность, чтобы уберечь тайну своей связи с Богом.
Его сердце блуждает (taqallub al-qalb), перелетая от состояния к состоянию, в безбрежном небе Божественных проявлений. Он бодрствует, когда мир спит, ибо его Возлюбленный «не дремлет и не спит». Он полон печали (ḥuzn) – не мирской скорби, но глубокой тоски по полноте Единения и сострадания к тем, кто пребывает за завесой неведения. Он жаждет покинуть этот мир ограничений, чтобы встретить Возлюбленного лицом к лицу, в той встрече, которая даруется смертью – переходом к пробуждению. Ему надоедает все, что стоит между ним и Возлюбленным, включая его собственное «я».
В конечном счете, любящий – это «убитый» любовью. Его природное «я» умирает, чтобы воскресло его духовное «я». Он убит противоборством света и тьмы внутри себя, но в этой смерти – его вечная жизнь в Боге. Он жив у своего Господа, получая удел. Он не требует платы за свое «убийство», ибо сама эта смерть и есть высшая награда – обретение Истинного Себя в Возлюбленном. Он находит утешение лишь в Его Слове, в Его поминании (зикр), ибо Вселенная родилась из Слова, и в Слове – возвращение к Истоку. Вся его жизнь становится непрерывным стоном (ta’awwuh) – стоном любви, тоски, сострадания и хвалы, эхом Дыхания Милостивого, наполнившего все бытие. Путь Любви, как его явил Величайший Шейх, – это путь полного преображения, растворения в Божественном Океане, где любящий, исчезая, обретает все.
О 345 главе «Мекканских Откровений»
Глава 345 «Мекканских Откровений», посвященная «Знанию искренности в религии» (Ихлас), приглашает нас в путешествие за пределы внешних обрядов и догматических формул, к самому сердцу духовной жизни. Ибн аль-Араби рассматривает религию не как статичный набор правил, но как живую, динамичную реальность, истинное понимание которой коренится в глубинах человеческого сердца, в искренности его устремлений к Божественному.
Уже само начало задает тон: исследуется значение религии, ее роль – не просто социальный институт или свод законов, но нечто фундаментальное, определяющее саму суть человеческого бытия. Подчеркивается связь истинного понимания с «глубокой интуицией». Это указывает на то, что подлинная религиозность – это не столько следование букве, сколько постижение духа, нечто, что открывается не только разуму, но прежде всего – очищенному и искреннему сердцу.
Упоминание уникальной суры, ниспосланной в Алеппо, которую не способны воспроизвести ни люди, ни джинны, служит мощной метафорой. Подобно этой суре, истинная суть веры, рожденная из искренности, обладает уникальной, неповторимой природой, недоступной для имитации или поверхностного подражания. Она – прямое отражение Божественной Истины в зеркале человеческой души. Искренность становится тем ключом, который отпирает врата к этому сокровенному знанию, делая религию не внешней обязанностью, а внутренним состоянием, живым опытом Богообщения. Утверждение, что в мире не существует ничего, что бы ни имело сущности, подводит нас к мысли, что и религия, и искренность имеют свою глубокую, неуничтожимую реальность, которую и предстоит постичь ищущему.
Развивая тему искренности, Ибн аль-Араби переходит к практическим аспектам ее проявления в жизни верующего, особенно для тех, кто несет ответственность за передачу знаний и соблюдение Божественных предписаний – будь то ученый или просто «работник» на ниве религии. Искренность здесь предстает не только как внутреннее качество, но и как необходимое условие для правильного выполнения своих обязанностей перед Богом и людьми.
Возникает вопрос о «мониторинге творения» – должен ли знающий сосредоточиться лишь на чистой истине или учитывать всю сложную реальность сотворенного мира? Великий Шейх говорит, что искренность требует осознания как своих прав, так и обязанностей. Это включает понимание того, что не все слова и поступки будут одинаково взвешены на весах Судного дня, но именно искренность намерения и глубина понимания своей «уполномоченности» от Бога определяют ценность деяний.
Подчеркивается важность опоры на примеры, данные Богом в Откровении, а не на субъективный опыт. Искренность здесь проявляется в смирении перед Божественным Знанием, в отказе от привнесения собственных искажений или ограниченных интерпретаций. Ученый, действующий с искренностью, становится не просто передатчиком информации, но верным представителем Божественного послания, чьи слова и действия отражают Истину, а не его личные мнения или амбиции.
Существуют границы человеческого знания, даже у пророков и посланников. Им открыто лишь то, что пожелает Бог; они не имеют доступа ко всем тайнам сердца. Это еще одно напоминание о необходимости искренности и смирения. Признание ограниченности своего знания, отказ от претензий на всеведение – это тоже проявление искренности перед Богом и перед самим собой. Существуют разные уровни постижения Истины, зависящие от веры и глубины познания каждого человека, и искренность заключается в том, чтобы занять свое место в этой иерархии без гордыни и ложных притязаний. Искренность – это честность перед Богом о границах своего понимания и своих возможностей.
Рассуждения об искренности и знании приводят Ибн аль-Араби к эсхатологическим темам – Судному дню и Божественному правосудию. Глава 345 раскрывает эти вопросы через призму глубоких символов и теологических концепций, подчеркивая связь между земной искренностью и вечной судьбой.
Упоминание предстоящих событий Дня Воскресения, когда «истинный Отец» явит Свое знание сокровенного, а люди будут отвечать за свои дела, ставит вопрос о природе Божественного суда. Особое внимание уделяется символу Трона Аллаха. Величайший Шейх предлагает отойти от чисто материальной интерпретации. Трон – это не просто физический объект, но, возможно, символ Царства, Владычества и, что особенно важно в контексте Суда, – Правосудия. Это то «место» или состояние, где будет вершиться суд между творениями. Ставится под сомнение даже сама идея «превосходства» Трона как материальной сущности, что направляет мысль к его духовному, символическому значению.
Загадочные «восемь», которые будут вознесены над людьми в День Воскресения, также становятся предметом размышления. Являются ли они ангелами или иными сущностями? Их роль в Судный день остается таинственной, подчеркивая непостижимость деталей грядущего. Это вновь возвращает нас к теме смирения и ограниченности человеческого знания перед Божественными тайнами.
Однако сквозь завесу тайны Судного дня ярко проступает Доктрина Милосердия. Ибн аль-Араби связывает ее с самой сутью Бога и первоначальным творением человека. Человек создан по «образцу Бога», что сообщает ему изначальную святость и благородство. Его дух изначально добр и чист. Эта концепция имеет ключевое значение: она подразумевает, что даже грядущий Суд будет проникнут Милосердием. Вечное страдание не может быть сопоставлено с этой изначальной святостью. Чистота и доброта, заложенные в человеке при творении, служат ему своего рода защитой от абсолютной и окончательной гибели.
Понимание этого требует мудрости и знания, способности различать уровни бытия и понимать Божественные Имена и их проявления. Нужны противоположности, чтобы постичь полноту реальности. Суд и Милосердие, Знание и Тайна – все это части единого Божественного замысла. Глубокая рефлексия над этими темами, к которой призывает текст, становится неотъемлемой частью пути искренности – пути познания Бога и своего места в Его мироздании.
Углубляясь в природу Божественных Имен и их проявлений в мире, глава 345 использует принцип противоположностей как ключ к пониманию. Благодетель и вредитель, Даритель и Недаритель – эти полярные состояния необходимы для того, чтобы Божественные Имена раскрыли свою полноту и значение. Мир предстает как арена взаимодействия этих противоположностей, отражающих различные аспекты Единого Бога. Эта диалектика помогает понять разнообразие человеческого опыта и состояний души.
Важнейшим аспектом в этой картине является универсальность Божественной Милости. Упоминается, что дары Господа (Атайя) не запрещены никому и распределяются как среди послушных, так и среди непослушных. Это фундаментальное положение исламской теологии: Милость Аллаха объемлет всё и всех. Его дары – будь то материальные блага или сама возможность существования – изливаются на праведников и грешников. Это подрывает идею об элитарности спасения и дает надежду каждому. Даже тот, кто находится в состоянии «несогласия» с Божественными именами, кто противится Его воле, не лишен полностью Его милости и возможности получить Его дары.
Далее развивается мысль об изначальной природе добра в человеке. Зло рассматривается не как сущностная характеристика, а как временное состояние, отклонение, вызванное упрямством, непослушанием или внешними влияниями. Доброта же присуща человеку изначально, она является частью его фитры (естества), заложенной при творении по «образу Бога». Это оптимистичное видение человеческой природы имеет глубокие последствия: оно означает, что путь к добру всегда открыт, что возвращение к своей истинной природе возможно для каждого.
Поэтому концепция прощения и милости Аллаха занимает центральное место. Поскольку Бог есть Прощающий (Аль-Гафур) и Милосерднейший (Ар-Рахим), а зло не является неотъемлемой частью человека, то человек не должен отчаиваться в милости Аллаха, какие бы грехи он ни совершил. Путь покаяния и возвращения всегда открыт.
Завершается этот блок размышлений указанием на важность познания этих истин. Понимание принципа противоположностей, универсальности Божественной милости, изначальной доброты человека и безграничности прощения – все это составляет основу мудрости. Такое знание не только просветляет ум, но и формирует правильное поведение, направляя человека к добру и упованию на милость Создателя.
В заключительных частях главы Ибн аль-Араби обращается к идеалу «совершенных людей Божьих» – тех, кто достиг степени халифата (наместничества Бога) в этом мире. Этот высокий статус обретается не через внешнюю власть или показную праведность, но через глубокую внутреннюю работу, основанную на искренности и самопознании.
Эти совершенные люди основывают свою духовность на «видимом», что, вероятно, означает умение видеть Божественное присутствие и знаки в окружающем мире, а не только в абстрактных концепциях. Их наградой становится «божественное видение» – непосредственное созерцание Истины. Это подчеркивает, что их практика – не формальность, а живой опыт Богопознания, где внешнее и внутреннее сливаются воедино. Ссылка на аят «для тех, кто творит добро, – лучшее и больше» подтверждает, что их совершенство проявляется в добрых делах, но корень этого – в их внутреннем состоянии.
Сама искренность, как утверждается, уже является наградой. Это глубокая мысль: состояние искренности перед Богом само по себе есть величайшее благо, источник внутреннего мира и подлинной радости, превосходящий любые внешние вознаграждения. Глубина веры измеряется не только поступками, но чистотой намерений и состоянием сердца.
Однако путь к совершенству и халифату лежит через смирение и осознание собственных ограничений. Ключевой момент: Пророк Мухаммад (мир ему) ищет убежища у Бога «от себя». Это не просто фигура речи, а выражение глубочайшего духовного прозрения: главный враг человека – его собственное эго, его низшие наклонности, его самость. Истинный халиф – это тот, кто осознает свою полную зависимость от Бога, свою нужду в Его защите даже от самого себя.