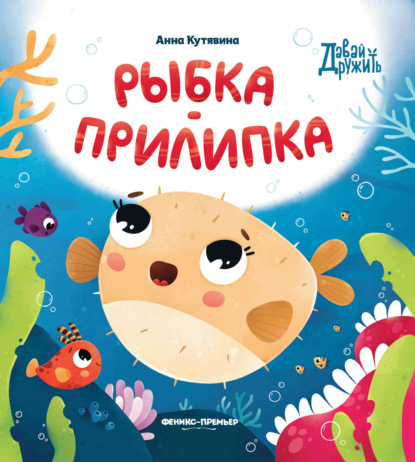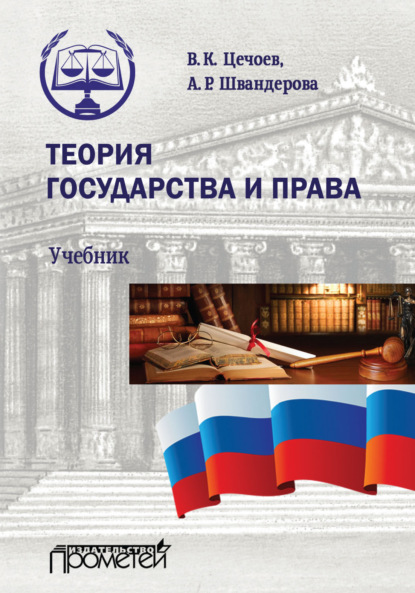Мистика Степи
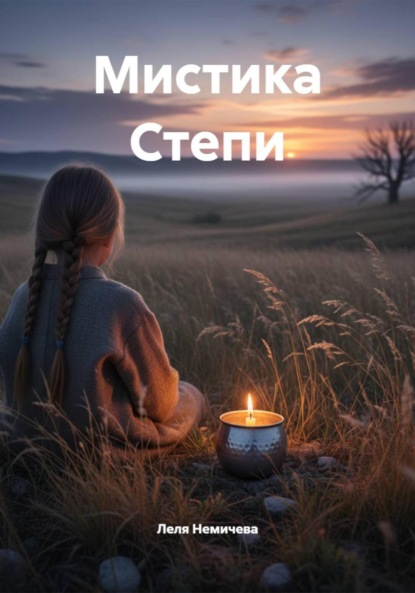
- -
- 100%
- +

Пролог
Город Элиста – удивительное место на земле. Осознание этого пришло ко мне спустя многие годы. А в пору моего детства это был просто небольшой, пыльный от степных ветров городок, где бок о бок жили и трудились люди самых разных национальностей. О нём почти не слышали в большой стране, зато мы знали каждый его уголок, каждый переулок, хранящий тихие истории своих обитателей.
Сегодня об Элисте слышали если не все, то многие. Путешественники едут сюда, чтобы увидеть буддийские храмы и бескрайние степи, прочесть о её истории можно в путеводителях или статьях. Но я хочу рассказать вам не о том, что можно увидеть глазами или прочесть в книгах. Я хочу поведать мистические истории, услышанные мною за те годы, когда я жила там. Ведь в каждом уголке нашей необъятной родины под покровом обыденности таится своя магия – то, что не поддаётся научному объяснению и рациональному взгляду. Эти истории мне рассказывали самые обычные люди – бабушка, друзья, случайные знакомые.
А уж верить им или нет – решать только вам.
История 1
Из воспоминаний бабушки Анфисы.
Как сейчас помню: печка потрескивает, бабушка Анфиса шьёт на старой машинке «Зингер» – той самой, что досталась в приданое ещё её матери. Я, устроившись на резном сундуке, качаю ногами и прошу:
– Бабушка, ну расскажи мне про свою Николаевку!
Бабушка была родом из Астраханской области. Сейчас это всего четыре часа езды от Элисты, а тогда мне казалось, что это самый что ни на есть край света. Она поправляла очки, улыбалась и начинала…
– Ну, слушай. Об этом мне ещё моя мама рассказывала. Приехала к ним в село молодая семья – муж с женой и ребёнком, мальчиком лет трёх. Купили они дом на краю села за бесценок – никто не хотел там жить, место дурной славой пользовалось. А у семьи денег не было, они и обрадовались цене, не послушали сплетни.
Стали обживаться. Всё вроде бы ничего, только с мальчонкой твориться неладное стало. Муж днём в поле уходил, жена дома хозяйничает. Ребёнок при ней – спокойный, послушный. Но стоит ей выйти во двор (а дел там – невпроворот!), как заходит обратно – а сынишка рыдает, заливается, не унять.
– Зачем пришла? Опять ты мне уточку испугала! – и никак не успокоится.
И так – каждый день. Мальчик от расстройства даже кушать плохо стал. Родители – в страхе. Ведь если верить ему, как только они за порог – из-под печки вылезала уточка, красивая да ласковая, и играла с ним.
В это сложно поверить, фантазия детей не имеет границ. Но оставить без внимания эту ситуацию не получилось.
Уж и отец его, и соседи-мужики, и даже печник (приводили его специально) – облазили печь со всех сторон. Нет, никакой утки там быть не могло! Сторожили сами: делали вид, что уходят, а сами в сенях прятались. Тишина. Но стоило выйти во двор и через время вернуться – ребёнок опять в истерике.
Тут уж соседки-женщины шепнули адрес бабушки из соседней деревни, чтобы она мальчика посмотрела. Делать нечего – повезли.
Бабушка та их приняла, выслушала, позадавала вопросы ребёнку и говорит:
– Внучек, в следующий раз, когда уточка вылезет, ударь её тихонько по крылышку.
– Не буду я обижать свою уточку! – заупрямился мальчик.
– Уговорите сына ударить утку, – улыбнулась бабушка родителям, – и всё у вас будет хорошо.
Поверили ей отец с матерью, стали сына уговаривать. А он – ни в какую. Дорожил своим другом. Прошло дней пять. Родители во дворе хлопочут, как вдруг слышат – ребёнок ревёт. Кинулись в дом, а сын сидит на полу, весь в слезах:
– Послушался я вас… Ударил уточку… Она сразу пропала!
И в тот же миг из печи вывалился здоровенный кирпич, а за ним – кувшин, полный золота.
Когда они поехали благодарить ту бабушку, она только головой покачала:
– Клад этот был заговорён – мог явиться только ребёнку лет трёх-четырёх. Раньше в том доме подходящих детей не было, вот клад и гнал всех, не давал спокойно жить. А теперь – и дом чист, и вам, хорошим людям, достался.
Говорили, что та семья потом переехала в Астрахань, и жизнь у них наладилась.
А бабушка моя, закончив рассказ, добавляла, глядя на меня поверх очков:
– Вот так, внучка. Не всё в этой жизни видимо глазу, но правда всегда где-то рядом. И доброе слово, да вовремя сказанное, и клад отыскать поможет, и душу успокоит.
И снова принималась за шитьё, а я сидела и думала о той уточке, что была не уточкой, и о кладах, что ждут своего часа где-то под старой печкой. Может, и сейчас не находим мы своего золота, потому что дальше монитора не глядим.
История 2
Двор. Жара под сорок градусов. Воздух дрожит над землёй. Мне лет шесть. Дедушка с бабушкой в старом сарае наводят порядок. Ну, как наводят: бабушка яростно выкидывает вещи и ворчит на деда – зачем он сорок лет хранит этот хлам.
– Ба, а что это такое? – обхожу я странную деревянную штуковину, похожую на большое ведро без ручки.
– Что, что… Ступа это. Вот зачем она нужна? – вздыхает
бабушка, – СТУПА? Как у бабы Яги?!
– Ну, да. В ней зерно молотили. Вот зачем это старьё нужно? – устало говорит она.
– Деда-а-а-а! – ору я так, что куры во дворе встревоженно кудахчут. – Деда, посади меня быстрее в неё!
– Господи, да зачем? – хлопает себя по лбу бабушка.
– Как зачем?! Я хочу знать – удобно ли на ней летать было?!
– Вот, ещё одна выросла, – смеётся дед и заталкивает меня в ступу.
Мои воспоминания: совершенно неудобно. Тесно. Заноза, вон, в палец впилась. Неужели баба Яга не могла что-нибудь поудобнее подобрать? Корыто, например.
Мои гениальные размышления прервало вылетевшее коромысло.
– Деда-а-а, быстрей вытаскивай! Баба-а-а, дай вёдра – мне за водой на речку надо!
Речка, правда, была по колено в то время, но носила гордое название – река Элистинка.
– Господи, убьёшься же!
– Нет! Мне надо!
Тогда к детям было другое отношение. Мне выдали два старых железных ведра, провели инструктаж: «Главное, не убейся». И со вздохом облегчения, что я не путаюсь под ногами, взрослые продолжили заниматься своими делами.
Мои воспоминания: это очень сложная схема. Первые пять раз я потерпела полное фиаско, которое вылилось в ободранные локти с коленками и полностью мокрую с головы до ног одежду и меня. Но я была упёртым ребёнком. Методом проб и ошибок я вывела-таки правильное решение: вода должна быть разлита поровну в каждом ведре и только на донышке. Осторожно цепляешь один край, и… не разбалтывая ведро, поднимаешь его. Потом медленно и, главное, нужно попасть крючком по ручке ведра, цепляешь другим краем второе ведро. И – не спотыкаясь, не раскачивая вёдра, не вертя головой вместе с шеей и лучше вообще не дыша – можно за месяц наносить воды, чтобы сварить борща.
И вот я иду. Солнце палит макушку. Вёдра позванивают. Из-под пяток пыль столбом. А я – герой. Покоритель коромысла и реки Элистинки. Повелитель ступы и будущая знаменитая лётчица-испытательница транспортных средств бабы Яги.
А из сарая доносится ворчание бабушки и смех деда. И этот день кажется бесконечным, как сама степь, а жизнь – ясной, как вода в ведре, которую всё равно расплескаешь до порога.
Из воспоминаний бабушки Анфисы.
Вечер. После жаркого дня и баньки, пахнущей дымом и степными травами, бабушка смазывает мои ободранные коленки зелёнкой. Я шиплю и дёргаюсь – больно же!
– Бабушка, расскажи ещё что-нибудь, а то щиплет эта зелёнка!
– Да я тебе сто раз уже рассказывала всё.
– Ну, ба-а-а…
– Ладно, – вздыхает она. – Слушай. Дед мой рассказывал. Пастух он был хороший – самый лютый бык его слушался.
Село наше было большим, но все друг друга знали, и все были друг за друга. Как одна семья. А началось всё с того, что предка нашего, Николая Ермолова, ещё при царях из Сибири в кандалах привезли и выкинули здесь на вечное поселение. На том месте он сначала хутор построил – Николаевкой его и назвали, – а потом оно разрослось. Полсела до сих пор Ермоловы.
Жила в ту пору одна наша дальняя родственница. Два сына и дочь у неё были. Жили они богато, но характер у неё был скверный, скупой да злой. Вот младший сын её загулял с молодой служанкой. И та забеременела от него. Родственница наша девочку эту выгнала, а сына в Астрахани женила на богатой купеческой дочке. Служанка в родах умерла. От новорождённой девочки все отказались – и отец, и родня. Её забрали в приют.
Время шло. Дети той женщины выросли, уехали в Астрахань, а сама она умерла в одиночестве. Дом её стоял заброшенный – дети разобрали его по брёвнышку, искали золото, что мать припрятала. Долго искали – не нашли.
А дом моего деда был как раз напротив этих развалин. И вот года через три после смерти старухи видит он – стала по ночам свеча гореть в том пустом доме. Точно призрак ходит с огнём. Смекнул дед – знать, золото припрятанное наружу просится. Взял он лопату и пошёл проверить.
Заходит в дом – а свеча горит, но как будто от него убегает, в другую сторону уходит. Понял он – заговорила старуха клад на кого-то другого. Не ему его брать.
Передал он в Астрахань весточку родственникам – мол, золото ваше тут вас ждёт. Те обрадовались, приехали. И началось: кто только ни приходил с лопатой – свеча убегает, и всё. Никак не подпускает. Плюнули они, перестали ездить.
А свеча всё горела каждую ночь. Селяне уже боялись мимо ходить – пугало всех это одинокое пламя в пустом доме.
Тут мой дед и вспомнил про ту девочку, которую когда-то в приют сдали. Внучку той самой старухи. Нашёл он её через знакомых, уговорил приехать – мол, может быть, твоя доля там осталась.
Приехала она – уже взрослая женщина, с усталыми глазами. Зашла в дом… А свеча вдруг ярче разгорелась – так, что всё кругом осветила. Подошла она к ней, а та не убегает, а стоит и словно показывает, где копать. Так и выкопала она из-под порога трёхлитровую банку, полную золотых монет да колец.
В селе все вздохнули с облегчением – свеча больше не горела. Клад достался той, кому был предназначен – не по жадности, а по праву крови и сердца.
И бабушка моя, заканчивая рассказ, добавляла:
– Вот так, внучка. Не всё в жизни решает сила да богатство. Иногда сама правда находит того, кто её заслуживает. И свеча та горела не из-за золота – она ждала, когда наконец-то приедет та, кого обидели, и заберёт то, что по праву ей положено.
И, выключая свет, оставляла в комнате только тихий шёпот ночи за окном. Простила ли та девочка своих родственников? Или не помогло наследство забыть детство без родителей?
История 3
В моём городе частные дома изначально все были саманные. Пахло там всегда по-особенному – сухой глиной, солнцем и полынью. Деревья здесь были на вес золота, поэтому люди месили глину с соломой, лепили кирпичи, сушили их на жарком степном солнце и строили из них свои невысокие, но уютные дома. Почти у всех во дворе стояло по два дома: один маленький – там была кухня со столовой, и другой, побольше, – со спальнями.
Бабушка моя обожала делать ремонт. Каждый год! А белились дома и вовсе два раза в год – к Пасхе и к зиме. Я до сих пор помню этот запах – свежей извести, мокрой глины и только что выстиранных занавесок. Естественно, я, подрастая, стала первой помощницей в этом безумном, вечном движении. Доставалась откуда-то цветная краска, потом придумали обои. Всё это красилось, перекрашивалось, переклеивалось. И высшей гордостью бабушки был момент, когда она снимала в стирку только что повешенные, ещё пахнущие крахмалом шторы. Соседи, проходя с работы мимо нашего дома, обязательно замедляли шаг и заглядывали в сверкающие чистотой окна. А потом, вечером, на лавочке у калитки слышалось доброе:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.