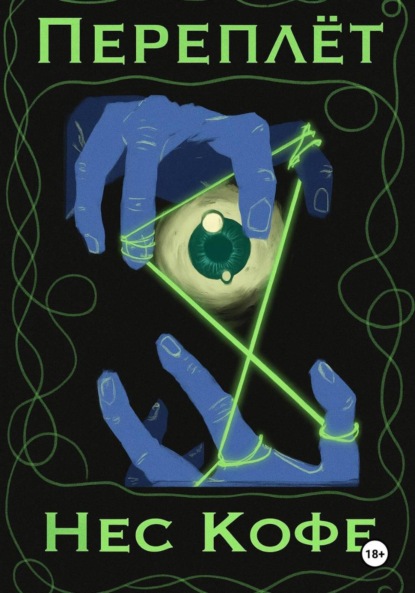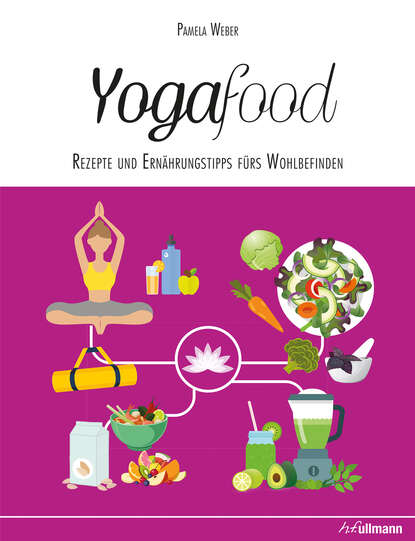- -
- 100%
- +

Порог, о который я ударилась пальцами ног, оказался восемнадцатилетием. Нога споткнулась о клубок неизвестности. Иногда неясность разбавляется разводами кистей других людей. Синтетика или белка…главное, что они добавляют какие-то оттенки.
Первый курс университета подходил к концу. Полотно жизни выгорало и линяло. Даже капли дешёвой краски и последующие потёки не уберегали его от расползания. Нужно всего лишь прижечь кончики…но лучше не переусердствовать: обугленные концы испепеляют ниточки без разбора – и закреплённые между собой, и ослабленные. Моё полотно стало расползаться само по себе; даже осторожные подравнивания пламенем не сдерживали его.
Ступня продавливала сухой дерн жизни с переменой ног. Ни шагу назад, лишь вперёд к удушью и нехватке кислорода. Культура продуктивности. Культура обезличенности. Культура кубизма головного мозга. Шаг за шагом, шаг за шагом. И я иду в университет, чтобы признаться в своей бесхарактерности. Год назад я молилась поступить хоть куда, лишь бы на бюджет в Москву.
Без «стержневости» и сдержанности я продолжала садиться на один и тот же автобус из своего города, ездить по одним и тем же станциям метро, ходить одним и тем же путём до одной и той же рутинной точки. Точки, из которой за год я дорисовывала куб вокруг когда-то невообразимых амбиций.
Я всегда шла через аллею. Не потому, что она была короткой или красивой, а потому, что в этом была своя извращённая закономерность – она давила, как язык на ноющий зуб в надежде, что это утихомирит пульсирующую боль.
Даже днём она была неестественно тёмной: оголённые, обстриженные деревья смыкались над головой, образуя плотный свод, почти не пропускавший свет. В воздухе всегда висел отдалённый гул от машин, из-за чего собственные шаги отдавались эхом слишком тихо.
Мама в детстве говорила мне, что я волшебная. И я верила в грациозные и свободные взмахи своих кистей, но не знала, что со временем сухожилия изнашиваются, как и волоски синтетики с каждым последующим холстом событий.
Возможно, мама скрывала слово «хорошая»: для неё, для отчима, для подруг, для преподавателей. Всю жизнь я старалась быть хорошей, думая, что на самом деле я «волшебная».
Первый курс филологического факультета стал большим разочарованием для когда-то «хорошей» девочки. Родом из посёлка городского типа, за мной по стопам следовал «комплекс маленького города», даже наступал мне на пятки. Я старалась не говорить лишнего, боясь, что кто-то может разболтать мои потаённые мысли.
Когда я впервые зашла в главный корпус своего университета, чтобы подать документы, меня сразу прошибла мысль: «Я хочу учиться здесь». Манекены в платьях Юдашкина и Зайцева томились в стеклянных камерах. Контрастом служил убогий кафельный пол, как в моей музыкальной школе, и самодельные куклы в платьях «на любителя» в кабинете приёмной комиссии.
Конечно, я думала, что буду учиться в центральном здании. Буду, как примерный студент, сидеть в большом лекционном зале со скамьями, идущими вниз, среди кучи студентов. И как же рухнули рамки ожидания прекрасной студенческой картины, когда на следующий день я отправилась в здание филологов, которое походило на частную школу. Стены были отвратительного желтого цвета, скамейки, после которых пятая точка становилась квадратной, и куча студентов свернулась в клочок девичьего царства с двумя мальчиками.
Не то чтобы я надеялась на любовные приключения в вузе – для меня вообще мужская фигура имела последнее место. Если быть откровенной: я презирала мужчин.
Это давняя история, я бы сказала, поколенческая. У моей бабушки первый муж был пьяницей, второй умер от туберкулёза. Мама никогда не была замужем, а мой биологический отец появился в её жизни лишь чтобы зачать меня. Воспитывал же другой человек, которого я и считала своим отцом до момента, когда бабушка по пьяни призналась, что мой 42-й размер ноги генетически достался от другого человека. Тогда мне было 10 лет, и я не понимала, как реагировать на подобного рода откровения.
На парах я вязала крючком. Не то чтобы преподы особо обращали внимание, чем ты занимаешься во время учёбы, а я хотя бы как-то связывала ниточку с ниточкой. За прилипшие к свитеру ошмётки меня и прозвали Крючком.
Итак, у нас было два паренька. Один из них – заядлый любитель радио, но он был чудоковат, поэтому я с ним особо не общалась.
Второй же был незаурядным. Такого кадра я видела впервые. Он мог на паре проглотить банку консервированной фасоли с той же лёгкостью, с какой другие пьют газировку. Собственно, звали его Боб, хотя он был азербайджанец. В основном у него были друзья-девушки, и он мечтал уехать в Америку.
Боб постоянно приносил в универ логически не связанные предметы: сушёные лошадиные копыта, гжельские статуэтки петуха и змеи, церковные свечи, полено (откуда он вообще достал его в Москве?). Этот тип спокойно мог выскочить и напугать проходящих мимо людей, да и вообще никогда нельзя было угадать его следующий шаг. Все думали, что у него аутизм или СДВГ, но после похода к психиатру оказалось, что он абсолютно здоровый человек.
«Зачем жить и жалеть о чём-то?» – говорил обычно Боб. И, собственно, в чём он не прав?
В первый месяц учёбы нас тестировали на уровень языка, чтобы распределить по группам. Я приметила отличное место для одиночки, как я: последняя парта, возле розетки. Нам раздали листы с результатом теста; красовалась двойка. Провалилась. Размазалась, как общажный таракан от шлепка тапком. Английский был моим козырем, единственным прикладным делом, которым я занималась всю жизнь, щитом против всей этой филологической шелухи в виде философии, истории и педагогики. А теперь этот щит оказался картонным.
Я вытащила из сумки клубок – зелёный, как желчь ненависти к себе. Взяла в руки крючок и не могла набрать и первой петли, просто тупила в ядовитую паутину, по щекам ползли предательские паучки разочарования. По аудитории скакал Боб, как неутомимый мотылёк, рыская в поисках хоть немного света у всех поникших. Он тоже провалил тест, но не то чтобы его это заботило.
Он отбросил меня в тень и молча вынул крючок и клубок из оцепеневших пальцев. Его большие, неуклюжие пальцы, привыкшие к тряске сушёными копытами, с комичной серьезностью принялись набирать первый ряд. Получалось «по-бобовски»: петли корявые, разного размера, а цепочка кривая, как моя жизнь сейчас.
– Вот, размял. Теперь твоя очередь.
Я медленно подняла взгляд и недовольно посмотрела на него. Ресницы на нижних веках склеились от слёз, как паутина от росы. «Почему он такой пофигист?» – пронеслось у меня в голове.
– Чего? Че ты сидишь, страдаешь тут? – прыснул он с ухмылкой и толкнул меня плечом. – Это всего лишь тест. Бумажка. Выкинь её, да и всё.
Я сглотнула и сжала кулаки на коленках, чтобы скрыть лёгкую дрожь.
– Тебе легко говорить, – мой голос прозвучал сипло и прерывисто. – Моя мама… она меня не поймет.
– Да почему она вообще должна знать? – Боб поднял бровь. – Мне вообще кажется, в универе мамы уже должны как-то отпустить своих детей. Это ж не школа. Здесь нужно не для мамы учиться, а для себя.
– Ага, а твоя мама как реагирует на такое? – вспылила я, желая найти хоть какую-то зацепку в его броне безучастности.
– Моя мама умерла, – оборвал он и… улыбнулся.
– Извини, – я поникла и сжала кулаки сильнее от неловкости своего невежества.
Он пожал плечами, глядя куда-то поверх моей головы; следы боли утраты смахнулись с его губ.
– Да ладно. Она бы тоже сказала, что не стоит из-за бумажки переживать.
Боб аккуратно вернул мне крючок и клубок. И в этот раз мои пальцы сами нашли первую петлю. Ядрено-зеленая пряжа больше не была пропитана ненавистью.
Однажды я случайно приехала рано на физкультуру и сидела на лавочке, ожидая начала пары. Как гром среди ясного неба, меня оглушило сообщение от мамы: «У бабушки нашли рак. Всё не очень хорошо, уже метастазы пошли по телу, похоже, 3 стадия». У меня были отвратительные отношения с бабушкой, но удар хлыстом всё равно пришёлся прямо в грудь.
Картонный щит в виде неоправдавшихся умений рухнул от осознания собственного бессилия. Синий пошарпанный пол спортивного зала померк, а слишком большая футболка стала слишком маленькой и сдавливала тело.
– Хей, Крючок! – окликнул Боб, наскоками подбираясь ко мне. – Что ты тут так рано?
Горло наполнилось ватой, перекрывая дыхание. Я подняла глаза, и слёзы брызнули так естественно и быстро, что я не успела ни опрокинуть «привет», ни отвернуться.
– Хей, чего ты, что случилось? – с неподдельным беспокойством спросил Боб.
Его глаза резко расширились, скулы напряглись. Мой обессиленный, поникший силуэт застал его врасплох. Я судорожно сглотнула узел в горле.
– У бабушки нашли рак.
Боб жёстко выдохнул, будто получил удар в солнечное сплетение. Казалось, и у него перед глазами размылся пол. Его плечи медленно опустились. Всё же он знал мою бабушку. В течение года я постоянно приглашала его к себе в город, где мы по-студенчески развлекались. Да и бабушка его очень сильно любила, всегда садилась ему на уши, а он только и был рад подставить ей своё плечо, выслушивая истории старой одинокой женщины.
– Мне надо как-то найти деньги на КТ… – Этот вопрос, как пузырь, лопнул у меня в горле, и я вырвала нас из замыленного пространства.
– А свяжи мне 3 балаклавы! – Боб встрепенулся, словно его током ударило от собственной идеи. Он хлопнул себя по колену, и его лицо осветилось широкой, почти детской улыбкой. – Как твоя, которую ты носишь, с ушками! – бодро выпалил он, его глаза блестели бликом азарта.
Я удивлённо посмотрела на него; брови дрогнули, как кузнечики в траве, во рту пересохло. Мне казалось, что вязанные балаклавы вышли из моды, а свою я носила, потому что она была довольно тёплой.
– Да, да, давай, прям 3 штуки, заплачу по 2 тыщи за каждую. – с ещё большим задором сказал он.
Такая милость была мне чужда. Я знала, что он только получил зарплату, но было странно, что он решил раскинуться своими деньгами так бескорыстно. Тем более, я думала, что мои творения столько не стоят. Именно щедрая поддержка Боба стала кирпичом-основанием нашей дружбы.
Боб любил жить на широкую ногу… когда были деньги: водил меня во вьетнамский ресторан и покупал большую порцию супа Фо Бо. А я, привыкшая только к щам и борщу, никогда и не думала, что существует такой пряный суп.
– Вот, попробуй мой, – он перехватил мою руку с палочками, и его большие пальцы мягко направили мои неумелые движения. – Сначала пробуешь бульон. Обязательно возьми рис. И вот этот уксус… – он капнул мне в ложку несколько капель прозрачной жидкости – С имбирём. Поэтапно, понимаешь? Весь вкус раскрывается поэтапно.
Так же поэтапно раскрывались и мы друг перед другом. Как уксус и бульон в сочетании, мы рождали новый, цельный вкус. И в этом столкновении мы помогали проявлять наши потаённые стремления: я вносила ноту собранности в броуновский поток его жизни, а он – ноту хаотичности в мой упорядоченный мир.
***Впереди сверкала первая летняя сессия, а я хотела сверкать пятками, выскочить из образовательных оков и добавить новых оттенков в переплёт своей жизни.
Боб работал в закрытом ивент-агентстве, куда его позвали по знакомству. И вот ему дали возможность организовать вечер. Он так кичился этим, воодушевлённо зазывал всех одногруппников.
– А я вот организовываю вечер игры в плейстейшн, ты же придёшь, Крючок? – Его предложение прозвучало скорее утвердительно, чем вопросительно; он лишь пытался удостовериться, что я помню об этом.
– А экзамен по переводу? – напомнила я с лёгким недовольством. Во мне всё же говорила назойливая тревожность за экзамен, и за результаты Боба я тоже невольно переживала; челюсть напряжённо сжалась.
– Да че те этот экзамен, будто ты будешь вечером сидеть и читать всю эту парашу. Приходи, – он смахнул тревоги одним предложением, в его глазах заискрилось озорство.
И, опять же, в чём он не прав? Я давно хотела разрушить кандалы ботаника и выйти в свет, сплести новый узор жизни. Хаотичность Боба манила меня, как человека, стремящегося вечно к порядку и четким, изученным паттернам.
– А когда?
– 26 мая в 7 часов. Придёшь? – Боб выпалил это так, будто знал, что я уже согласилась, и только для приличия дал мне слово.
– Посмотрим, – кротко бросила я.
Планы у меня всё-таки были: нужно было проверить голову. Примерно месяц назад моё тело начало бесконтрольно содрогаться – резкие импульсы заставляли дёргаться головой, плечом; это иногда пугало рядом сидящих людей, как бывает при синдроме Туретта. Они накатывали приступом, когда в голову пробиралась ядовитая мысль или воспоминание. Мысль о мужчинах. Об отчиме. О бабушке. Меня выворачивало наизнанку, отрава пыталась выйти естественным способом через тошноту и рвоту.
День обследования выдался слегка напряжённым. Я почти не чувствовала тревоги, только сосущее ощущение ожидания, будто сейчас мне скажут то, что я боялась произносить даже в мыслях. Оказалось, что всё в порядке, мой мозг совершенно здоров, тогда вопрос о том, откуда же тики, был открыт.
Как и вопрос: как же я себя поведу на мероприятии? Порой мои волосы завиваются от влаги, но чаще ноги подкашиваются от смущения. Так я и пришла к Бобу со шлейфом отчуждённости.
Рассеянность распространялась, как гриб-паразит на поваленном дереве. Люди вокруг, покрытые налётом неловкостями, деформировались в неуверенные группы саженцев. Воздух был спёртым. Среди этого растерянного леса, взгляд цеплялся за смешки и чужие спины. Я неловко слонялась из комнаты в комнату, пока Боб бегал, координируя ход мероприятия.
И вдруг – тихий звук, перебор клавиш из маленькой комнатушки сбоку, сбил мой пошатанный маршрут. Я подошла ближе и заглянула внутрь.
Там, за пианино, сидел он – администратор агентства, Коля.
Он был невысокого роста; низкий лоб грозно нависал над мрачными глазами; губы – тонкие полоски; тело крепкое, видно было, что он занимается спортом. В нём было что-то нарочито собранное, будто он каждый день убеждал себя в собственной значимости. Его грозная фигура контрастировала с массивностью инструмента.
Очередной самоуверенный парень, наверняка думает, что под его пальцами всё в мире должно звучать правильно. Он ловко наигрывал незнакомую мне гармонию.
– Ты умеешь играть? – спросила я, даже не подумав, зачем.
– Не совсем. – Он был немногословен, сдержан; его голос таил секрет, который он не мог рассказать даже себе.
– Но играешь же.
– Когда не мешают. – Он сказал это с лёгким оскалом, и мне вдруг стало не по себе, будто я вторглась туда, куда не стоило.
Вокруг предплечья у локтя у него была тусклая татуировка виноградной лозы. Она окольцовывала не только его руку, но и его самого, защищала его от опасностей суровой реальности и будто предупреждала других: он держит всё под контролем.
– А что ты играешь?
– Не важно, – больше он ничего не сказал. На разговор он не хотел идти.
Я приобняла тонкий ствол дерева, не боясь пауков, затаившихся в трескающейся коре. Поэтому я села рядом с ним и начала играть японскую мелодию. Зачем – не пойму. Наверное, хотелось как-то самоутвердиться, но я фальшивила.
Его взгляд был тяжелым и неподвижным, будто он не просто смотрел, а сканировал каждый миллиметр моей кожи, и от этого по спине бежали мурашки.
– Извини, я не совсем умею играть. – «И перед кем я тут извиняюсь? Сам играет простенькую гармонию. Ну ладно, прикинусь скромнягой».
– У тебя поставлены руки, да и пальцы гибкие. Просто сноровка нужна. Как давно играешь? – Его взгляд упёрся в меня, а лёгкий энтузиазм в голосе приоткрыл врата в неприступную стену.
Нельзя было угадать, что же он на самом деле думает. Его глаза были словно покрытые пылью стеклянные шарики для декора. Моё мутное отражение в них будило волоски на коже, и они приподнимались от холода его тона. Когда он разговаривал, то не задействовал ни единой лишней мышцы – всё было выверено с миллиметровой точностью. Будто внутри него механизм, который работает безупречно.
– Я закончила музыкальную школу, но это было давно. К инструменту вернулась лишь полгода назад.
– А я бы и не сказал, что у тебя был перерыв. – Он вновь пристально вгляделся в мои пальцы, будто изучал каждый шрамик, родинку и линию.
И всё же в его отчуждённости было что-то притягательное.
– А как ты пришёл к музыке?
– Моя мама – директор музыкальной школы. С её подачи я пел в церковном хоре.
Религиозные занятия всегда вызывали у меня настороженность. Не знаю почему. Я хоть и верю в Бога, но в религию – нет. Поэтому пение молитв насторожило, но в то же время заинтриговало. Мне стала интересна каждая нота скрипа его механизма, каждое дрожание усика мотыльков, сидящих на ветках. Мне захотелось с ним дружить; его закрытость почему-то манила. И почему-то мне страстно хотелось привлечь его внимание.
– Пойдём к Бобу, – оборвал Коля, прекратив изучение моих шрамов и линий.
Мы заглянули в комнату, где проходил турнир по «Mortal Kombat». Коля взглянул на меня.
– Ты умеешь играть?
– Не совсем, – уже зажато пролепетала я. Страх проиграть заиграл на костяшках ключиц.
Мы сошлись в схватке, но я никогда в жизни даже джойстика в руках не держала, поэтому мой проигрыш был очевиден.
Вдруг в комнату ворвалась девочка в розовой шляпе с бахромой. К тому же она была очень… миниатюрной. Метр с кепкой, но при этом – мягкая, точно булочка с корицей, вся такая пряная и уютная. Несмотря на мягкость, черты её лица были поразительно точными – будто талантливый кондитер специальным ножом провёл по тёплому тесту, вырезав идеально ровный нос, острый подбородок и изящную линию скул. И в этой чёткости была своя, женственная и хрупкая, гармония. Глаза её светились оживлённой и влюблённой зеленцой.
Она тут же кинулась в объятия к Бобу. Я её знала, мы даже иногда пересекались на студенческих мероприятиях – она была на курс старше. Все звали её Ляпа – как раз из-за этой розовой шляпы.
– Привет, зай, – сладко сказала Ляпа, чмокая Боба в щёку, и повернулась ко мне. – О, это же ты, Крючок? Боб рассказывал о тебе.
– Ну, да, – пробормотала я в ответ.
Я и не знала, что они встречаются! Вот так новости. Всё от меня скрыл, зараза!
Пока Боб и Коля играли партию в Mortal Kombat, я завела с Ляпой беспонтовый разговор, чтобы заполнить неловкое молчание.
– Часто ходишь сюда на мероприятия?
– Ну, я и работаю, и учусь. Когда свободна – всегда здесь, из-за Боба. Мы живём вместе, – с гордостью воскликнула она.
И этих подробностей я тоже не знала.
– Мы сначала скрывали с Бобом, что встречаемся, – она сняла шляпу и принялась играть с бахромой. – Он не хотел, чтобы в агентстве и в универе пошли слухи.
– А что в этом такого?
– Ну, просто все там друг друга знают… Не знаю, это Боб предложил, – она надела шляпу обратно и поправила её. – Он её мне и подарил. Я так хотела именно такую, теперь она моя любимая.
– Заботливый у тебя парень, – я невольно улыбнулась, искренне радуясь, что бывают ещё парни, которые подмечают детали и интересы своих девушек.
– Да, только цветы не дарит.
– Почему?
– Говорит, пустая трата денег.
Мне это было немного странно слышать. Я всегда думала, что парень, ухаживая за спутницей, просто усыпает её цветами. Хотя, откуда мне знать? Мне их никогда и не дарили.
Пока мы разговаривали с Ляпой, я украдкой чувствовала, что за мной наблюдают. Я окинула глазами комнату и заметила, что время от времени на меня поглядывает Коля. Даже когда он играл, у меня не пропадало ощущение, будто он следит за мной боковым зрением. Наблюдает. Изучает.
Дни шли, и я чувствовала, что мне не хватает в жизни хаотичности, другого узора. Ляпа зацепила меня и потянула за ниточку, распуская старую вязь. Мне хотелось проводить с ней больше времени, и я набрала ей: «Ты где?»
– У Боба на работе. Хочешь, давай к нам.
От этих слов по телу разлилось теплое молоко. Конечно, мне хотелось хаотичности Боба и живости Ляпы. Тем более что на работе меня ждал манящий своей тайной Коля.
Сорвавшись с места, я направилась в Китай-город, где находился офис ивент-агентства. Ляпа встретила меня улыбкой и объятиями, и Боб – тоже. Коля же стоял в стороне и пристально наблюдал за воссоединением нашей компании. Боб шутливо дёрнул Ляпу за нитку на шляпе, и она сморщилась.
– Не трогай меня, понятно? – то ли с раздражением, то ли с игривостью выпалила она. На её лице читалось недовольство, но блики в глазах выдавали азарт.
Ляпа часто вставляла в конце фраз это резкое «понятно?». Поначалу я даже не обращала на это внимания, но потом меня это стало подбешивать. Мне в этом слышалась какая-то наглость. Боб мотнул головой и шепнул мне: «Истерические припадки, не обращай внимания».
Как ни странно, при агентстве работал шахматный клуб, а я какое-то время увлекалась этой стратегической бойней. Коля сдержанно ходил по офису, расставлял столы и готовил всё для клуба, и я решила помочь. Когда пришёл ведущий, гости распределились по парам, а мы с Колей так и остались в стороне.
– Ты умеешь играть? – мой голос прозвучал зажато, с лёгкой дрожью.
– Не совсем, – монотонно ответил Коля.
Он даже не спросил, хочу ли я сыграть, а просто расставил фигуры и выбрал белые. Его вопросы были редкими и точными, как шахматные ходы.
– Ты часто так анализируешь людей? – переставляя слона, спросил он. В его голосе не было любопытства – лишь холодный интерес коллекционера. Казалось, он по крупицам собирал информацию. Но зачем?
– Я вообще не анализирую, просто чувствую, и всё, – отмахнулась я.
Он ничего не ответил, его взгляд был прикован к моим пальцам. Чем они могли его так заинтересовать?
Если с работой Боба никто не мог толком разобраться (он вечно кого-то обзванивал, вальяжно расхаживал по офису и никого не отпускал без «смолтка»), то обязанности Коли знали все. Он следил за помещением, составлял расписание, управлялся на кухне и готовил реквизит. При этом он всегда держался особняком, не вступая в панибратские беседы даже с теми, кто работал с ним бок о бок годами.
– Я бы хотела подружиться с Колей, – как-то раз сказала я Бобу.
– А я вот уже четыре месяца здесь работаю, а подступиться к нему всё не могу, – в его голосе прозвучало лёгкое разочарование.
– Ты? Не можешь? – моя бровь взлетела так высоко и естественно, словно я не верила, что нечто столь приземлённое, как неспособность Боба найти общий язык, вообще возможно.
– Он слишком… мутный. Как тень. Вечно появляется из ниоткуда. Вчера, помнишь, мы с Ляпой у лифта стояли? А он был в другом конце коридора и просто смотрел. Не на нас, а как бы сквозь. Мне кажется, он знает о нас такие вещи, о которых мы сами забыли. Жуть.
– А мне кажется, он просто очень глубокий, – попыталась я оправдать его чудаковатость.
– Настолько глубокий, что поговорить не о чём. Слышал, до меня тут работала одна девчонка, так он с ней вроде дружил. А когда она внезапно уволилась, ему было абсолютно всё равно. Странный тип.
Иногда я видела, как Коля тренируется с гантелями в комнате для персонала, и это меня воодушевляло. В эти моменты он словно спускался с небес, перечёркивал собственную чёрствость и как бы наставлял сверху: «И всё-таки ты способна на чувства». Мне казалось, мы говорим на одном языке. Но я не полиглот.
Мы были ми-бемолем и ре-диезом – одной и той же нотой в разных тональностях. Я чувствовала, что нас объединяет какой-то общий знаменатель, но чем он был, я пока не могла угадать. В его присутствии зудело в груди, то ли от интереса, то ли от непринуждённой тревоги.
Я и сама не могла к нему подступиться. Это было похоже на попытку разобрать механизм старых часов и найти сломанную деталь. Возможно, которой там и не было никогда.
Тик. Тик. Тик.
Так. Так. Так.
Стрелки показывают, только вот…
Не то время. Не то место. Не та шестерёнка.
***Для меня родной город оставался святилищем – тихой гаванью, которая по-прежнему отделяла меня от суетливой московской жизни. На выходные я возвращалась в наш дом, к маме и бабушке, хотя наши отношения трещали по швам. Бабушка не умолкала, сыпля наставлениями, а мама с недоумением качала головой: зачем в восемнадцать лет, когда у меня уже есть университет, заниматься каким-то творчеством?
Но бабушка… Бабушка была единственным человеком, кого я по-настоящему ненавидела. Вся моя жизнь превратилась в попытку соткать себя из хрупких нитей «послушной» девочки, но ей этого вечно было мало. Свой собственный хаос, который она безуспешно пыталась упорядочить в окружающем мире, она выливала на меня едкой, разъедающей душу щёлочью.
Однажды она с торжествующим видом продемонстрировала нам новое приобретение – набор пластиковых органайзеров для чая.