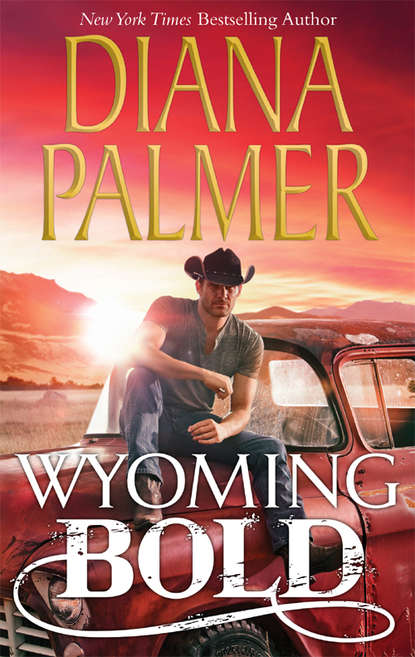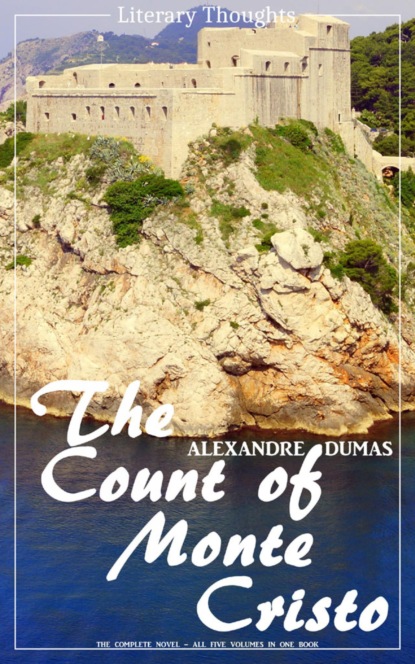Тень двадцатого года

- -
- 100%
- +
«Интересно, что с ней сейчас», – сказал Дима, задумчиво глядя на плакат.
«Скорее всего, уже сгнила в гробу, к сожалению. В тот же год она покончила с собой», – сказал физрук, потушив самокрутку о бетонный пол, после чего встал и отряхнул штаны. «Ну что, пошлите, у вас тут еще работка есть. Нечего тут в прошлое заглядывать, оно может и укусить». Его слова прозвучали как-то мрачно и предостерегающе.
Мы встали, отряхнули пыль с одежды и пошли вслед за физруком, который, казалось, внезапно переменился в лице. Его обычная бодрость и шутливость словно испарились, сменившись какой-то мрачной сосредоточенностью. Он провел нас в соседнее помещение, расположенное в самом дальнем углу подвала. Здесь, как и в предыдущей комнате, стояли коробки, но их было заметно меньше. Физрук буркнул что-то вроде: “Перетаскать их в ту комнату, чтобы тут было пусто”, и его голос звучал как-то приглушенно и нехотя.
Единственное утешение заключалось в том, что коробок было немного. Мы взяли по паре коробок, стараясь не обращать внимания на их вес и пыль, и быстро перенесли их в освобожденное помещение, снова захламив его, но при этом оставив эту комнату пустой. Меня не покидало ощущение, что физрук что-то скрывает, и его поведение казалось каким-то странным и неестественным.
Это помещение отличалось от предыдущих. Помимо того, что оно было абсолютно пустым, в дальней его части стоял пьедестал. Необычный пьедестал, словно взятый из исторического фильма. Он явно не был из советской эпохи, а будто бы из времен царской России, выточенный из темного, полированного дерева и украшенный изящными резными узорами. Мое любопытство, словно магнит, потянуло меня к нему. Что такая вещь забыла в школьном подвале? На пьедестале лежал конверт, обычный белый конверт, без каких-либо надписей или опознавательных знаков, словно его специально обезличили. Он был запечатан старинной сургучной печатью, но мое любопытство одержало верх над здравым смыслом, и я вскрыл его, разорвав пожелтевшую, тонкую бумагу.
Я достал оттуда лишь один листок, сложенный в несколько раз. Развернув его, я увидел, что на нем не было ничего, кроме странного символа, нарисованного черной тушью. Символ представлял собой переплетенные линии, образующие сложный и непонятный узор. Это не было похоже ни на одну из известных мне письменности. Какая-то древняя руна или забытый алхимический знак. Символ словно гипнотизировал меня, заставляя забыть обо всем на свете. Физрук, видя, что я что-то рассматриваю, подошел ко мне, чтобы посмотреть, что тут такого интересного. Его шаги звучали как-то тяжело и настороженно.
Увидев у меня в руке этот листок, он выхватил его из моих рук с такой силой, что я пошатнулся и чуть не упал. Я посмотрел на лицо физрука и готов поклясться, что никогда не видел такого страха на лице человека. Его старое, сморщенное, седое лицо было перекошено от ужаса, будто он увидел самого дьявола. Его глаза расширились от ужаса, а губы дрожали. Он застыл на месте, словно парализованный, и тяжело дышал. Казалось, он увидел саму смерть, стоящую за моей спиной
“Что это?” – спросил я, пытаясь вытянуть хоть какое-то объяснение из оцепеневшего физрука. Но ответа не последовало. Он стоял, неподвижный как изваяние, и смотрел на листок с каким-то нечитаемым ужасом, будто увидел на нем лик самой смерти. Его взгляд был прикован к символу, нарисованному на пожелтевшей бумаге, и казалось, что он провалился в какой-то другой мир, недоступный для меня.
Я подошел ближе, стараясь разглядеть символ, но он лишь вызывал во мне какое-то смутное беспокойство. Я слегка толкнул физрука в руку, пытаясь привлечь его внимание. Он резко вздрогнул, словно очнувшись от кошмара, и посмотрел на меня, но его глаза оставались стеклянными и безумными. Он оглянулся по сторонам, словно боясь, что кто-то нас подслушивает в этом забытом богом подвале, и прохрипел дрожащим голосом: “Так, парни, бегом к себе в кабинет! Живо! А ты за мной”, – сказал он, указывая на меня дрожащей рукой, на которой выступили капельки пота. Его голос звучал хрипло и сдавленно, словно он задыхался.
Пацаны, не задавая лишних вопросов и не дожидаясь повторения приказа, быстро побежали наверх, радостно предвкушая окончание этого неожиданного трудового дня. В их глазах читалось облегчение от того, что им удалось избежать какой-то опасности. А я, с нарастающим чувством тревоги и необъяснимого предчувствия беды, пошел за физруком, который в момент замкнулся в себе и начал что-то шептать под нос. Что он бормочет, я не понимал, но его голос звучал как молитва или заклинание, произносимое на каком-то древнем, забытом языке.
И вот мы поднялись из мрачного подвала в ярко освещенный холл школы. Он, крепко сжимая в руке этот проклятый листок, пошел прямым, быстрым шагом в кабинет директора, что находился недалеко от вахты техничек. Его движения были резкими и дергаными, словно он пытался убежать от чего-то невидимого.
Я шел за ним, чувствуя, как внутри меня нарастает паника. Что происходит? Что это за символ? Почему физрук так напуган? В какой-то момент он резко остановился посреди холла, словно что-то вспомнил, и, посмотрев на меня с каким-то отчаянием и мольбой в глазах, сказал: “Так, слушай, давай ты быстро сходишь к трудовику, скажи ему, что пришло письмо. Скажи кодовое слово – ‘Белая лилия’. Он все поймет, – Его слова прозвучали как отчаянная просьба, не терпящая возражений.
Я, послушно кивнув, развернулся и побежал в левое крыло, где располагались кабинеты труда и технологий. Мои ноги несли меня, словно я участвовал в каком-то важном соревновании. Подбежав к кабинету, я попытался открыть дверь, но она была заперта. Сердце бешено колотилось в груди. Из-за двери доносился приглушенный смех техничек и трудовика, словно у них там своя тайная вечеринка. Я постучал сначала тихо, потом еще сильнее, но реакции не последовало. Казалось, они специально меня игнорируют, делая вид, что ничего не слышат. Что происходит? Почему они не открывают? Не понимая, что происходит, и чувствуя, как время утекает сквозь пальцы, я развернулся и побежал обратно к физруку, который уже стоял у вахты с директрисой. Они что-то тихо обсуждали, склонившись друг к другу, и их лица были напряжены и взволнованны. Казалось, они решают судьбу всего мира.
Как только я переступил порог двери, отделяющей холл от левого крыла школы, словно по какому-то зловещему сигналу, двери с оглушительным грохотом захлопнулись, отрезая меня от остального мира. Двери в правое крыло школы, что располагались прямо напротив, тоже с лязгом закрылись, словно ловушка захлопнулась, отрезая пути к отступлению. Двери на лестничную площадку, ведущую на второй этаж, а также двери, что вели в столовую и спортзал, оказались намертво заперты, словно вся школа внезапно превратилась в гигантскую, зловещую клетку.
Резко на улице усилился дождь, превратившись в яростный, неистовый ливень. Капли барабанили по окнам, словно кто-то отчаянно пытался пробиться внутрь. Свет внутри помещения начал мерцать, то вспыхивая ярче, ослепляя, то угасая, погружая холл в зловещую полутьму. Лампы издавали противный, раздражающий треск, нагнетая и без того напряженную атмосферу. Я, охваченный паникой и ужасом, подбежал к физруку и директрисе, не в силах сдержать крик: “Что тут за херня творится?!”, полностью плюя на нормы морали, субординацию и школьный этикет. Но ответа не последовало. Они стояли, словно парализованные, застывшие в немом оцепенении, и молчали, уставившись в одну точку с выражением неподдельного ужаса на лицах. Казалось, они видят что-то, чего не вижу я, какую-то жуткую, невообразимую угрозу.
Внезапно листок, который физрук так крепко сжимал в своей дрожащей руке, вырвался из его пальцев, словно его унесло порывом шквального ветра, хотя в холле не было ни малейшего дуновения. Листок пролетел несколько метров вперед, словно ведомый невидимой силой, кружась в воздухе, как осенний лист, после чего плавно опустился на пол, прямо посередине холла. И тут произошло нечто невообразимое, не поддающееся никакому логическому объяснению. Из листка, словно из портала, внезапно выпрыгнул неизвестный человек, словно он был сложен вдвое, в старомодном и крайне странном костюме, словно сошедшем со страниц исторического романа или с театральной сцены. Под костюмом была белоснежная рубашка из тонкого полотна с высоким кружевным воротником. Поверх рубашки надета расшитая золотыми нитями “веста” – жилет из бархата, а поверх весты надет сюртук из темной шерсти, плотно облегающий худощавую фигуру. На ногах у него были обтягивающие узкие “килоты” – бриджи из кожи, заправленные в высокие кожаные сапоги на каблуках. Его фигура была внушительной, но не громоздкой, а скорее статной, как у человека, привыкшего держать себя в руках и отдавать приказы. Он был высокого роста, с широкими плечами и прямой спиной, что придавало ему какую-то природную власть. Голос его, низкий и бархатистый, когда-то казался мне успокаивающим, но теперь приобрел зловещие оттенки, наполненные холодом и решимостью.
Лицо Абердина было, пожалуй, его самой яркой чертой. Оно было вытянутым, с острыми чертами, как у хищника, выслеживающего добычу. Высокие, скупые на эмоции брови придавали его взгляду какую-то вечную настороженность. Глаза – глубоко посаженные, серые, словно два осколка льда, – смотрели пронзительно, изучая и оценивая. Его губы были тонкими, всегда сжатыми, редко растягивались в улыбку, а если и делали это, то улыбка эта была пустой и безжизненной. Волосы, коротко стриженные, цвета пепла, добавляли ему строгости и некоторой аскетичности.
Фигура резко выпрямилась и встала напротив нас, грациозно и низко поклонившись. В одной руке он держал изящную трость с серебряным набалдашником, которую прижал к своей груди, а другую руку демонстративно убрал за спину. Приняв эту театральную позу, он с притворной вежливостью произнес: «I’ve been looking forward to meeting you…», после чего, словно спохватившись, добавил с легким акцентом: «Ой, извините, я хотел сказать – я ждал встречи с вами».
Закончив эту небольшую театральную паузу, он выпрямился во весь рост, поставил трость перед собой, упершись на нее обеими руками, и продолжил своим слащавым голосом: «40 лет прошло с нашей последней встречи. Вы, мисс Елизавета, похорошели с годами, а вы, господин Илия, однако постарели и поседели».
Директриса, заметно нервничая и стараясь не выдать свой страх, резко откашлялась и, собравшись с духом, начала свою речь: «Здравствуй, Абердин, действительно давно не виделись. Вы разве не завтра должны были явиться?»
Фигура, которого назвали Абердином, перехватила трость в правую руку и, поигрывая ею, ответила с холодной улыбкой: «Мой господин хотел провести крупный эксперимент, и для этого нужно было много людей, а тут такой неожиданный подарок ему представился. Вот мы и решились устроить его прямо сейчас». Закончив говорить, он бросил на меня мимолетный взгляд, словно оценивая, и спросил с наигранным любопытством: «А кто этот юноша? И почему он здесь, а не в кабинете?»
Физрук, словно защищая меня от опасности, поспешно встал передо мной, закрывая своей широкой спиной: «Парень тут случайно оказался. Просто помогал с уборкой».
Абердин наклонил голову набок, внимательно рассматривая меня, словно сканируя, после чего, пожав плечами, произнес: «Ладно, не буду об этом спрашивать. В конце концов, все случайности не случайны».
Он перекинул трость снова в другую руку с каким-то изящным, почти танцевальным движением и резко спросил, прожигая взглядом физрука и директрису: «Кстати, Илия, Филя, Лиза здесь, а где Ваня? Он среди вас самый разговорчивый, да и благодаря ему вы вернулись сорок лет назад».
Я стоял, словно в тумане, и не понимал, что тут происходит. Чувство нереальности происходящего давило на меня со всех сторон. Такого страха я еще никогда не испытывал, но мое животное нутро мне отчаянно кричало, что нужно бежать, бежать как можно дальше от этого странного человека, от этого места, от всего этого безумия.
Фигура, не получив ответа, повысила тон и еще раз спросила, на этот раз с явной угрозой в голосе: «Где Ваня? Или он в школе больше не работает?»
Директриса, явно пытаясь выиграть время и перевести тему разговора, задала встречный вопрос фигуре: «И что теперь? Что ты и твой хозяин задумали… Не удивлюсь, если ту бедную девушку вы же и свели с ума, подтолкнув ее к самоубийству».
Фигура, казалось, начала терять свою холодность и сдержанность в общении. Ее голос стал повышаться, выдавая скрытое раздражение: «Для начала вам нужно ответить на мой вопрос, иначе это некультурно с вашей стороны. Потом, мы ничего не делали, вы сами собрали детей здесь, мы лишь выждали подходящий момент. Да и я могу сказать, что хозяин не хочет детям зла, они просто поучаствуют в эксперименте, как вы когда-то».
Физрук, который стоял и преимущественно молчал, наблюдая за происходящим с хмурым видом, внезапно вмешался в диалог, и в его голосе звучала неприкрытая ярость: «Безобидный эксперимент? Такой же, через который мы прошли? Да я те дни вспоминаю как самые худшие в жизни. Мы из-за вас убили нашего товарища, Костю, и вы хотите опять невинных детей вплетать в свои какие-то опыты?»
Фигура, выслушав гневную тираду физрука, с презрением посмотрела на него и в повышенном тоне ответила: «Вы, ничтожества, буквально и одной сотой процента того эксперимента не прошли. Мой господин просто вас пожалел, проявил милосердие, которого вы не заслуживаете»
Физрук, явно не горя желанием продолжать этот бессмысленный диалог и слушать дальнейшие издевательства фигуры, резко достал из-под спортивного костюма пистолет Макарова и, не целясь, сделал выстрел. Пуля попала в фигуру, и та с гротескной покорностью упала на пол, словно марионетка, у которой перерезали нити.
Физрук, тяжело дыша, повернулся к директрисе и произнес с каким-то триумфальным облегчением в голосе: «Ну вот! Прав был Ваня, царство ему небесное, что эту тварь можно убить освященным оружием».
В этот момент фигура, лежащая на полу, начала смеяться. Смех был неестественным, зловещим и настолько громким, что казалось, будто бы мои барабанные перепонки вот-вот лопнут. Как только Абердин прошелся в своем безумном смехе, он внезапно, словно через рупор, начал говорить, и его голос приобрел какой-то потусторонний оттенок: «ВЫ СЕРЬЁЗНО ПЫТАЛИСЬ МЕНЯ УБИТЬ ОБЫЧНЫМИ ПУЛЯМИ?!»
После этих слов фигура резко, словно по мановению волшебной палочки, встала с пола и, как будто бы ничего не произошло, продолжала свою речь спокойным, даже несколько насмешливым голосом: «Жаль Ивана, хороший был парень. Удивительно, что Филька, которому уже 80 лет, пережил Ваню».
Физрук, понимая свою ошибку и не веря своим глазам, снова выстрелил, но на сей раз Абердин каким-то непостижимым образом поймал пулю в полете, словно она была теннисным мячиком. Удерживая ее между указательным и большим пальцем, с презрительной усмешкой на лице, он отправил пулю обратно физруку. Пуля, словно выпущенная из сверхмощной винтовки, со свистом врезалась в голову физруку, пройдя ее насквозь. Тело физрука безжизненно рухнуло на пол, образовав вокруг себя лужу крови.
Я стоял, не в силах пошевелиться, словно парализованный. В голове эта ужасная картина никак не укладывалась. Все происходящее казалось каким-то кошмарным сном, от которого я никак не мог проснуться. Сердце бешено колотилось в груди, словно птица, запертая в клетке, а руки дрожали, как осенние листья на ветру. Тело физрука лежало пластом, без признаков жизни. Его мозг разбрызгался по стене, словно художник-абстракционист решил создать кровавое полотно, а кровь медленно, но верно покидала тело через образовавшееся отверстие, растекаясь по полу, образуя зловещую лужу. Запах крови, терпкий и слегка сладковатый, расползался по коридору, вызывая тошноту. Мне тяжело было понять, что делать: плакать, кричать, бежать? Но пока я стоял в оцепенении, словно наблюдатель какого-то жуткого и плохого фильма, в котором я невольно оказался главным героем.
Директриса, сломленная горем, упала на колени и, захлебываясь в слезах, подползла к физруку. Схватив его за руки, она начала говорить уже с очевидно мертвым физруком: «Илья! Илья! Вставай!!», – она продолжала произносить эти слова, словно молитву, пока Абердин не перебил ее своим холодным и насмешливым голосом: «Ну же, вы взрослая женщина! Падать на колени и рыдать, как безумная, совсем не подобает вам!». Эти слова, словно нож, били по самому больному, причиняя невыносимую боль не только директрисе, но и мне. Слезы непроизвольно потекли из моих глаз, глядя на эту жуткую картину, на это бессмысленное горе.
Абердин, заметив мои слезы, обратил на меня внимание: «Ну, а вы, юноша, куда? Вы же мужчина!». Эти слова, словно пощечина, вывели меня из роли наблюдателя и заставили вступить в этот кошмар. «Что тут происходит за пиздец? Объясните мне!», – сказал я, и мой голос дрожал, как у ребенка, потерявшегося в толпе. Я был на грани того, чтобы разрыдаться.
«Ой! Прости, если напугал, я забываю, что, несмотря на то, что вы юноша, вы еще ребенок», – Абердин внезапно поменялся в лице и повадках, сменив свой игривый и насмешливый тон на тон словно бы он был обеспокоенный родитель. «Я искренне приношу извинения за этот казус с убийством учителя на твоих глазах, но он пытался меня убить, а я лишь ответил на его выпад! Это была самооборона!», – закончил он, разведя руками в притворном сожалении.
Как только директриса, что все это время безутешно плакала у тела физрука, внезапно встала, выпрямилась и сказала Абердину с ненавистью в голосе: «Ты! Какая же ты мразь! Ты и твой хозяин ответите за все! Я клянусь, вы поплатитесь за это!». После чего она достала из внутреннего кармана пиджака какой-то старинный кинжал с потемневшей от времени рукоятью и книгу в кожаном переплете. Завидев книгу, Абердин очень сильно удивился, его лицо исказила гримаса ярости и страха: «Ого! Это же альманах! Так, все-таки, вы его украли в тот раз! И что теперь, будешь меня изгонять? Думаешь, это поможет?». Произнеся последние слова, на лице Абердина появилась улыбка, чут ли не до ушей.
Директриса, охваченная паникой, лихорадочно листала старинную книгу, словно ища в ней спасение от наступающего кошмара. Абердин, с довольной, почти хищной улыбкой на лице, наблюдал за её метаниями, наслаждаясь её беспомощностью. Он наслаждался каждым её нервным движением, каждым сдавленным вздохом. Прошло всего несколько мгновений, но казалось, прошла вечность. Наконец, она нашла нужную страницу. Дрожащей рукой она поднесла пожелтевший лист к глазам, пытаясь разобрать незнакомые символы. “Эго дико а те…” – с трудом начала она, её голос срывался от волнения. Её глаза метались по строкам, но освещение в холле было ужасным, тусклый свет ламп лишь подчёркивал мрак вокруг. Очки, без которых она обычно не могла обойтись, остались где-то в кабинете, и теперь буквы расплывались перед её глазами, сливаясь в неразличимые пятна.
“Ест паст…” – выдавила она из себя, всё ещё борясь со слезами и собственным страхом.
Как вдруг Абердин, словно устав от её беспомощности, или, возможно, желая усилить её мучения, прервал её, едко заметив: “Вам дорогу, Елизавета, очки подать? Неужели за столько лет вы ещё не выучили этот простой отрывок наизусть? Неужели так сложно запомнить пару строк?”
Но директриса, игнорируя его язвительные слова, сосредоточила всё своё внимание на книге, на том единственном шансе, что она ещё видела. “Диаблус обертинус…” – прошептала она, нараспев, её голос был едва слышен.
Абердин вновь вмешался, его голос звучал как насмешка, полная презрения: “А вы знали, уважаемый директор, что для того, чтобы мольба была услышана, необходимо правильно произносить латинские слова? Ваша латынь, признаться, просто больно слушать. Как будто ребёнок пытается выучить новый язык”.
Ещё три строчки, и директриса закончила чтение. Она замерла в ожидании, словно затаив дыхание. Но ничего не произошло. Никакого магического вмешательства, никакого спасения. Тишина повисла в воздухе, только мерцающий свет ламп и приглушенный звук дождя снаружи нарушали её. Абердин, явно уставший от этой сцены, или, быть может, просто решив, что момент для продолжения настал, спросил с показным нетерпением: “Это всё? Или у тебя ещё что-то осталось? Неужели это все?”
Директриса, не ответив, словно обезумев, отбросила книгу и с кинжалом в руке, бросилась на Абердина. В её глазах горел огонь отчаяния и ярости. Но Абердин, с ловкостью, которой можно было бы позавидовать, одним молниеносным взмахом трости выбил кинжал из её ослабевших пальцев. “Мой господин уже устал ждать, – произнёс он, его голос звучал как приговор. – Пора начинать эксперимент. А для вас, увы, роли там не найдется.”
После чего, другим концом трости, он с ужасающей силой ударил её в грудь. Раздался хруст, и директриса, издав предсмертный хрип, упала на пол. Трость, словно острый меч, пронзила её насквозь. Абердин резко вынул её, и тело директрисы, из которого продолжала сочиться кровь, обмякло. Лужа крови мгновенно образовалась под ней, а она, находясь в таком положении, ещё пыталась ползти к телу физрука, словно ища у него хоть какое-то утешение, хоть какую-то защиту в последние минуты своей жизни
Абердин, невозмутимо, словно завершив какую-то мелкую формальность, достал из кармана своего старомодного костюма аккуратный платочек. Им он тщательно, с видимым отвращением, вытер свою трость, обагренную кровью. Я же, стоявший рядом, уже не плакал и не пребывал в панике. Наступило какое-то странное, гнетущее спокойствие. Я просто ждал своей участи, наблюдая за происходящим как сторонний наблюдатель.
Он посмотрел на меня, его взгляд был холоден и отстранен, но в нём промелькнула какая-то доля… снисхождения? “Вот так вот, юноша!” – произнес он, и в его голосе не было ни тени раскаяния. “Бывает же, живешь себе спокойно, никого не трогаешь, а потом тебя убивают – и на этом жизнь обрывается! Но не переживай, ты еще поживешь!”
После этих слов он щелкнул пальцами. И тут же я почувствовал, как мир вокруг меня поплыл. Мои собственные ноги подкосились. Я потерял контроль над телом, словно кукла, у которой перерезали нити, и упал плашмя на пол. Стараясь не закрывать глаза, чтобы сохранить последние проблески сознания, я смотрел перед собой. Передо мной, в своей неизменной позе, стоял Абердин, наблюдая за мной с той же холодной улыбкой. Перед моими глазами, которые уже начинали тускнеть, лежали два тела. Два человека, которых я знал, чьи голоса еще недавно звучали в этом коридоре, но которые теперь стали лишь бездыханными оболочками. Два человека, ставших жертвами неведомой силы. В конце концов, веки мои сомкнулись, погрузив меня во тьму, в последнее, что я увидел, было расплывчатое пятно крови на полу, над которым возвышалась безучастная фигура Абердина.
Первый день во тьме.Тьма. Только тьма и отголоски слов физрука и директрисы звучали в моей голове, словно призрачные эхо прошлого. Тяжесть и безысходность окутывали меня, и я не мог понять, где я, что произошло. Но вот среди этой кромешной темноты появился резкий свет, пронзивший мрак, и чей-то крик, громкий и настойчивый: “Вова, вставай!”
Я резко вздрогнул, открыв глаза. Голова раскалывалась, словно после глубокого наркоза. Я сидел где-то на полу в какой-то темной, сырой комнате. Лишь тусклый лунный свет, пробивающийся сквозь грязные окна, освещал это мрачное помещение. Я медленно обернулся и увидел людей, которые так же лежали на полу, словно выбитые из жизни. Среди них был лишь один человек, который, как и я, сидел, обхватив голову руками, словно пытаясь удержать её от разрыва.
Я медленно, ощущая головокружение и легкую тошноту, поднялся на ноги. И тут меня осенило. Люди, лежащие рядом, это мои одноклассники. А тот человек, сидящий вдали, сгорбившись и держащийся за голову – Антон Винокуров. Всё стало на свои места, и ужас этого осознания накатил новой волной.
Медленно, преодолевая неведомую слабость, я обернулся. И увидел их. Людей, лежащих на полу, словно выбитых из жизни. И среди них – одного, кто, как и я, сидел, обхватив голову руками, в позе абсолютного отчаяния. Антон Винокуров.
Сложно было пошевелиться. Тело отказывалось подчиняться, словно было наполнено свинцом. Мокрота в горле, как ком ужаса, мешала произнести хоть слово. Я попытался откашляться – и этот звук, глухой и надтреснутый, привлёк его внимание. Винокуров поднял голову. Его глаза, в которых ещё недавно читалось лишь школьное любопытство, теперь горели страхом и отчаянием. Он нерешительно попытался встать. Казалось, это было для него непосильным трудом. Я же, пошатываясь, как маятник, утративший равновесие, тоже медленно поднимался.
Антон, собрав последние силы, ковылял ко мне. Каждый его шаг был мучительным. Он старался не наступать на лежащие на полу тела наших одноклассников, словно боясь разбудить их, или, быть может, боясь прикоснуться к тому, что осталось от них. Наконец, он оказался рядом.
“Где мы?” – прошептал он, его голос был хриплым, словно пересохшим от ужаса.