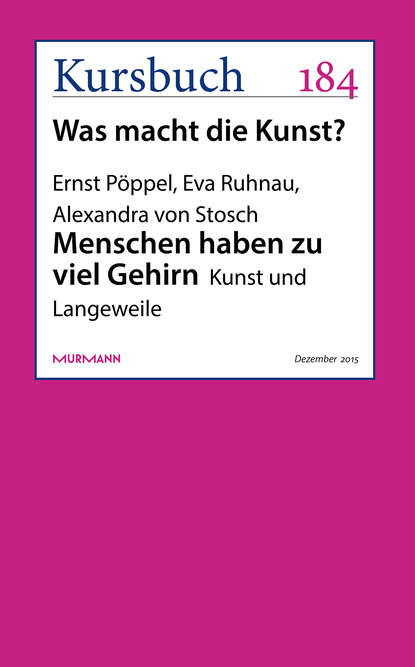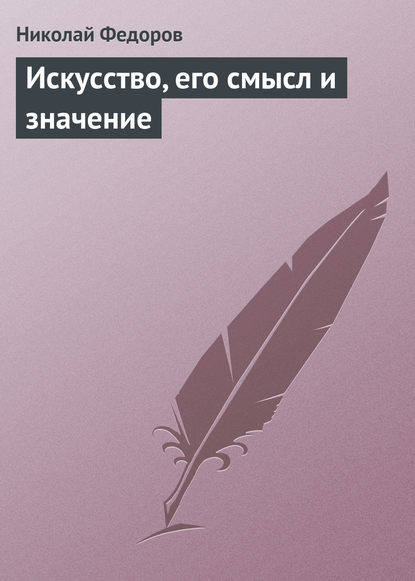- -
- 100%
- +

Глава 1: Последнее подлинное воспоминание
Они называли это законом «Последнее подлинное воспоминание». Аркадий называл это гарантией занятости. Он сидел в квартире, пахнущей вареной капустой и стариком, и смотрел на экран, где женщина плакала по дочери, которую она никогда не теряла. Воспоминание было чистым, помеченным и проверенным, но дочь все еще была жива – Аркадий проверил. Женщина заплатила за имплантацию ложного горя, утраты, более значимой, чем могла дать ей ее реальная, посредственная жизнь. Он должен был подтвердить, что это терапевтическая мера. Вместо этого он налил себе еще водку.
На его консоли зазвенел длинный тире. Это было не сообщение, а повестка в суд, в формате ФСБ, с красной рамкой и шифрованием. Он должен был вздрогнуть. Инстинкты советской эпохи умирали тяжело, даже в 2038 году. Вместо этого он пил. Водка была настоящей. Бутылка была настоящей. Дрожь в его левой руке была очень настоящей.
– Ты игнорируешь мои звонки, – написала его дочь. Она все еще использовала текстовые сообщения, старомодные, как пергамент. Саша отказалась от имплантата. Назвала это колонизацией. Он назвал это паранойей, но в последнее время слова выходили не так, как надо, как будто он переводил себя с мертвого языка.
Повестка пульсировала. Они нашли еще одного. Свидетеля. Имя, которое они использовали в деле «Зеркало» до того, как Аркадий ушел в отставку, до того, как они засекретили его собственные воспоминания о расследовании и заблокировали их за брандмауэром, который он помог разработать. Семь лет забвения, стертые одним сигналом.
Он включил защищенную линию. Его отражение в темном экране показывало лицо, которое он узнавал, но не мог вспомнить – не дежавю, а что-то хуже. Наоборот. Жамевю. Лицо было его, но контекст отсутствовал, как будто он видел свою мебель в квартире незнакомца.
– Волков слушает, – сказал он. Голос, который ответил, был молодым, слишком молодым.
– Майор Корсак. Нам нужно, чтобы вы кое-что прочитали. Это… рекурсивно.
Аркадий знал, что это значит. Он сам написал определения, когда определения еще имели значение. В окне была видна московская зима, снег, падающий косо в неоновом пустоте, голографические рекламные объявления. Он уже видел этот снег, падающий вверх, в воспоминании, которое ему не принадлежало. В этом и заключалась проблема рекурсивных данных – они заражали. Вы не просто читали их, вы принимали их у себя.
Голос Корсака ждал на линии. Аркадий слышал дыхание молодого майора, звук человека, который все еще верил в иерархию.
– Мы посылаем машину, – сказал Корсак. – Через тридцать минут. Директор хочет, чтобы вы связались напрямую.
– Директора не существует, – сказал Аркадий. – Эта должность была упразднена после последней реструктуризации. Кто-то должен был следить за этими вещами, даже если никто не платил за это.
– Тогда исполняющий обязанности директора. Голос Корсака стал более напряженным. Тот, кто имеет полномочия восстановить твой допуск к секретной информации.
Аркадий рассмеялся. Это прозвучало как кашель. Он не хотел допуска, с тех пор как увидел, что он позволяет делать. Дело «Зеркало» научило его, что память – это не запись, а история, которую ты рассказываешь себе, и что государство стало очень хорошим редактором.
– В чем дело?
– Женщина. Возраст неопределен. Имплантат – прототип, который мы считали снятым с производства. Корсак сделал паузу. Сэр, на чертежах ваша подпись.
Бутылка водки была пуста. Аркадий посмотрел на нее, пытаясь вспомнить, когда он ее в последний раз наполнял. Он не мог. Это был первый урок его профессии: ты не забываешь, но можешь потерять контекст. Память без хронологии – это просто шум.
Он встал. Его ноги помнили распределение веса, автоматические корректировки для тела, которое слишком долго сидело. Тело сохраняло свои собственные воспоминания, мышцы и кости. Их было сложнее подделать.
– Пришлите координаты, – сказал Аркадий. – Я поеду на метро.
– Нам нужно обеспечить вашу безопасность.
– Вам нужно, чтобы я был пьян, – сказал Аркадий. – А я пьян. Метро безопаснее.
Он прервал связь, не дав Корсаку возможности спорить. Молодые всегда хотят спорить, как будто правду можно выиграть. Аркадий понял, что правду нужно пережить.
Сообщения Саши светились на экране, нечитанными в течение нескольких дней. Он пролистал их, не читая, а просто считая. Семнадцать. Столько же, сколько ей лет. Раньше такая симметрия что-то значила для него, когда он верил в закономерности. Теперь это была просто еще одна рекурсивная шутка, которую подшучивала над ним вселенная.
Последнее сообщение было в виде видеофайла. Он не открыл его. Вместо этого он надел пальто с пуленепробиваемой подкладкой, которая не остановила ничего важного. У двери он остановился. Квартира дышала за его спиной, радиаторы издавали ритмичный стук, который он слышал уже семь зим. Он попытался вспомнить первую ночь здесь, после развода, после того, как он перевез три коробки с книгами и старый служебный пистолет своего отца. Воспоминание было там, помеченное и сохраненное, но когда он к нему обратился, стены были не того цвета. Кто-то отредактировал его прошлое, или он с самого начала не обращал на это внимания. В любом случае, с каждым днем это различие становилось все менее важным.
В метро пахло озоном и жареным тестом. Аркадий стоял в вагоне, а не сидел, потому что стояние – это выбор, который не дает заснуть. Остальные пассажиры смотрели в свои очки или на стены. Где-то плакал ребенок – последний звук в Москве, который не пропускался через динамик.
Он вышел на станции «Октябрьская», где на мраморных потолках станции все еще красовались серп и молот, сохранившиеся теперь как ироничная архитектура. Корсак ждал на платформе, молодое лицо под старой меховой шапкой, противоречие поколения, унаследовавшего зимы своих дедов, но не их убеждения.
– Ты выглядишь хуже, чем на фотографиях в деле, – сказал Корсак.
– Дело устарело, – ответил Аркадий. – Я обновился.
Корсак провел его через служебную дверь, по бетонной лестнице, где температура падала как камень. Секретный объект находился под метро, в бункере, построенном для войны, которая уже произошла, но не так, как все ожидали.
– Она в изоляции, – сказал Корсак. – Комната экранирована, но имплантат вещает на частоте, которую мы не можем заблокировать. Он поет, сэр. Как модем из девяностых.
– Поэзия, – сказал Аркадий. – Старые машины были более душевными.
Они остановились у двери, обмотанной желтой лентой: «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ / МЕМЕТИЧЕСКИЙ». Противоречие в терминах, но, в общем-то, как и все это учреждение. Аркадий почувствовал, что его руки стали твердыми. Это был его театр: момент перед чтением, когда история еще могла быть чьей угодно.
– Вам это понадобится, – сказал Корсак, протягивая ему нейронный разъем. Новая модель. Прочитывает три уровня шифрования.
Аркадий взял его, почувствовав вес. Он был легче старых. Прогресс означал, что инструменты наблюдения стали похожи на украшения.
– Ты не войдешь?
– Приказ. Корсак сжал челюсти. Говорят, ты единственный, кто не заблудится.
Аркадий почти улыбнулся. Они были правы, но не по тем причинам, о которых думали. Он не заблудится, потому что он уже был там, живя в петле, в которую собирался войти. Дверь с шипением открылась. Внутри Свидетельница сидела на пластиковом стуле, уставившись на стену, в которой отражалось ее собственное отражение, но на тридцать лет старше.
Она не подняла головы, когда он вошел. Ее волосы были белыми, хотя лицо было гладким. Еще один рекурсивный артефакт – воспоминания старят тело, а время останавливается.
– Здравствуй, Аркадий, – сказала она, не дав ему заговорить. Ее голос был голосом его дочери.
Он почувствовал, как пол наклонился, а затем выровнялся. Это был трюк. Они всегда начинали с чего-то личного, с крючка в твоих собственных данных.
– Моего имени нет в твоем файле, – сказал он.
– В твоем тоже нет, – ответила она. – В этом и смысл.
Он сел напротив нее, держа в ладони холодный нейронный разъем. Снаружи Корсак наблюдал за ними через стекло, видя только то, что ему позволяла видеть система. Аркадий видел больше или меньше, в зависимости от того, как далеко он зашел.
– Мне сказали, что у тебя бесконечная память, – сказал Аркадий.
– Мне говорят то же самое о вас, – ответила Свидетельница. – Давайте сравним?
Он прикрепил разъем к виску. Соединение произошло мгновенно, и поток данных, пахнущий озоном и старыми книгами, хлынул белым потоком. Ее воспоминания открылись, как город, в котором он никогда не бывал, но который узнавал по сновидениям. Снег, падающий вверх. Лицо дочери, которой у него никогда не было. Зеркало, в котором отражалась задняя часть его головы.
Замкнутый круг начался. Он сидел в комнате и читал женщину, которая читала, как он читает ее. Рекурсия была идеальной, замкнутой системой. Единственной переменной был выбор.
– Что ты хочешь? – спросил он, не зная, кого из них он спрашивает.
– Посмотреть, выберешь ли ты на этот раз по-другому, – ответила она. – Сорок седьмой раз обычно бывает последним.
Аркадий почувствовал воспоминание о том, как его рука тянулась к бутылке водки, которой не было. Вместо этого он потянулся к ее досье, физическому, которое дал ему Корсак. Бумага была теплой. Это был знак. Бумага не имела температуры в памяти. Она была реальной.
– Я не одна из твоих итераций, – сказал он.
– Я тоже, – ответила она. – Поэтому мы оба все еще здесь.
На экране на стене мелькнуло изображение. На секунду на нем появилась станция «Октябрьская», серп и молот, молодой майор, ожидающий на платформе, которая существовала сразу в трех временах. Затем изображение стабилизировалось, показывая только их отражения, наложенные друг на друга.
Аркадий сделал свой первый выбор. Он не извлек информацию. Он спросил.
– Как тебя зовут?
– Елена, – ответила она. – Но меня звали Саша. И Лена. И Виктор. Это зависит от того, в каком воспоминании ты находишься.
Комната как будто вздохнула. Голос Корсака потрескивал в интеркоме, но слова были перевернуты, как фонетический палиндром. Аркадий отсоединил разъем. Головная боль появилась сразу, как тиски, сжимающие годы, которые он провел, читая чужие грехи.
– Давай попробуем что-нибудь новое, – сказал он. – Расскажи мне историю, в которой меня нет.
Она улыбнулась. Это была самая печальная улыбка, которую он когда-либо видел, а он видел, как Москва вспоминала себя до полного забвения.
– Был город, – начала она, – где у каждого было по две тени. Одна для тела, другая для воспоминаний. Проблема заключалась в том, что через некоторое время никто не мог понять, какая тень отбрасывается каким светом. Поэтому они начали ходить боком, стараясь не терять из виду обе тени. Так Москва научилась двигаться сразу в двух направлениях.
Аркадий встал. Его ноги сделали те же движения, но на этот раз он их заметил. В этом и заключалась разница между воспоминанием и переживанием: в внимании.
– Я заберу тебя отсюда, – сказал он.
– Ты уже говорил это раньше, – ответила Елена. – А потом всегда вспоминаешь, почему не можешь этого сделать.
Он подошел к двери. Она открылась. Корсака там не было. Коридор тянулся бесконечно в обе стороны, выложенный черно-белыми квадратами, как шахматная доска, в которую он уже забыл, как играть.
Аркадий сделал шаг вперед. Плитка под его ногой была такой же температуры, как и бумага. Это было его якорем. Остальное было просто данными, а данные можно было выбирать.
За его спиной раздался голос Елены, не в воздухе, а через разъем, все еще прикрепленный к его виску.
– Снег падает вверх, когда ты помнишь, что нужно на него смотреть, – прошептала она. – В этом секрет. Ты должен помнить, что нужно смотреть.
Он вытащил разъем из кожи. Соединение прервалось со звуком, похожим на разрыв страницы. Коридор превратился в одно направление, влево, ведущее по бетонной лестнице к метро, к снегу, который падал так, как того хотела гравитация.
Но он унес с собой образ: поднимающийся снег, лицо дочери, зеркало, которое отказалось показать ему то, что он ожидал. Воспоминание было теперь в нем, размножаясь. Он чувствовал, как оно заселяет его нейроны, вежливое, как гость, который никогда не уйдет.
На вершине лестницы ждал Корсак, его молодое лицо теперь выглядело старше, как будто время ускорилось за те несколько минут, что Аркадий провел внизу.
– Что ты узнал? – спросил Корсак.
– Вопрос, – ответил Аркадий.
– Нам нужны ответы.
– По моему опыту, это одно и то же.
Корсак протянул ему чип с данными. С миниатюрного изображения на чипе смотрело лицо самого Аркадия, но глаза были не те. Они смотрели на что-то за камерой, на то, что уже произошло.
– Твой файл, – сказал Корсак. – Тот, которого у тебя не должно быть.
Аркадий взял чип. Он был теплым. Сейчас все было теплым. Различие между реальностью и воспоминаниями стало вопросом температуры, а его руки были холодными.
Он сунул чип в карман и прошел мимо Корсака к турникетам метро. Город наверху забывал себя в реальном времени, здания меняли адреса, улицы переименовывались в честь корпораций, которых уже не существовало. Только метро оставалось неизменным, воспоминанием о будущем, погребенным под настоящим.
Сообщения Саши светились в его линзах, семнадцать не открытых истин. Он открыл последнее. Это было видео, которого он избегал.
Она стояла в комнате, которую он не узнавал, моложе, чем должна была быть, держа в руках табличку: «Я не твоя память. Я твое последствие».
Видео повторялось. Она держала табличку. Она держала табличку. Она держала табличку. Аркадий посмотрел его семнадцать раз, по одному разу за каждое сообщение. На семнадцатом повторении табличка была пустая. На восемнадцатом – на ней был его собственный почерк: «Я не твое следствие. Я твой выбор».
Он удалил сообщение. Удаление тоже было выбором. Он помнил, как это делал, и воспоминание об этом было уже теплее, чем само действие.
Поезд прибыл. Он сел в него. Вагон был пуст, за исключением пожилой женщины, которая выглядела так, как могла бы выглядеть Елена через тридцать лет, если бы ей позволили нормально стареть. Она вязала что-то красное.
– Это поезд вчерашнего дня? – спросила она, не поднимая головы.
– Такой линии нет, – ответил Аркадий.
– Тогда почему она показана на карте?
Он посмотрел на цифровую карту над дверями. Красная линия пульсировала, но названия станций были перевернуты: «Октябрьская» стала «ЯкцарбокО». Снова симметрия палиндромов. Система смеялась над ним на своем языке.
Он вышел на следующей остановке, которая была той же, что и та, на которой он вошел. Корсак стоял на платформе, точно так же, как и раньше, но его шляпа была в руке.
– На этот раз ты ехал дольше, – сказал Корсак.
– Я шел медленнее, – ответил Аркадий. – Это одно и то же.
Они стояли на станции с серпом и молотом, два человека, пытающиеся вспомнить, какую революцию они должны были совершить. Снег падал вверх на рекламные щиты, сбой в алгоритме городской рекламы, который стало слишком дорого исправлять.
Аркадий почувствовал, как чип с данными в его кармане горит, как уголь. Он мог бросить его на рельсы. Он мог съесть его. Он мог отдать его старушке, вязавшей в поезде. Каждый выбор был ветвью, и каждая ветвь уже была выбрана раньше.
– Я прочитаю это дома, – сказал он Корсаку. – Старые протоколы. Без отвлекающих факторов.
– Есть чистая комната…
– Я больше не хожу в чистые комнаты. Они нервируют воспоминания.
Корсак кивнул, как кивают сумасшедшим, которые еще могут пригодиться. Аркадий узнал этот жест. Он сам его придумал.
Он поднялся по эскалатору в московскую ночь, которая не хотела заканчиваться. Город стал воспоминанием о самом себе, и все были просто читателями, выбирающими, какой версии верить.
У двери своей квартиры он остановился. Запах вареной капусты исчез. Вместо него пахло духами его бывшей жены, ароматом, который был снят с производства в 2035 году.
Внутри на экране на стене было семнадцать сообщений от Саши. Он не открывал их. Он сел в кресло, держа в руке чип с данными, и налил водку, которая уже была налита.
Воспоминания начались. Он сидел в квартире и читал файл о женщине, которая читала, как он читает о ней. Он решил остановиться.
Но не остановился.
Глава 2: Протокол Мнемозина
Чистая комната была не комнатой, а зданием. Mnemosyne Corp купила бывшую Советскую Государственную Библиотеку, опустошила ее и заполнила серверами, гудевшими на частоте человеческой мысли. Аркадий прошел через главный зал, где карточный каталог все еще оставался как музейный экспонат, каждый ящик был помечен годом и травмой. Прошлое было индексировано здесь, сопоставлено с желанием.
Доктор Лена Петрова встретила его у стола выдачи, который теперь служил пунктом контроля безопасности. Она была одета в белый халат поверх черного водолазного свитера – униформа человека, верящего в гигиенические свойства минимализма.
– Ты опоздал, – сказала она. – Воспоминания субъекта ухудшаются. Мы теряем связность с каждым часом.
– Связность переоценивают, – сказал Аркадий. – Некоторые из моих лучших ошибок были несогласованными.
Она просканировала его с помощью устройства, измеряющего синаптическую латентность. Он помнил, как проектировал первую версию этого сканера. Тогда он был более громоздким, как и все инструменты истины.
– Ваши показатели на грани, – сказала Петрова. – Вы занимались самолечением.
– Я занимался самопониманием. Это разные вещи.
Они прошли через дверь, которая раньше вела в комнату редких рукописей. Теперь она выходила в коридор со стеклянными камерами, в каждой из которых плавал субъект в сенсорной депривационной камере. Тела были лишь корпусом для имплантатов, которые можно было считывать более четко, когда электрический шум мозга был сведен к минимуму.
– Сколько их? – спросил Аркадий.
– Двенадцать тысяч, – ответила Петрова. – Те, у кого был положительный результат на близость к Границе.
– А Свидетель?
– Она другая. Она не близка к Границе. Она есть Граница.
Они остановились у последней камеры. Резервуар был пуст, но показания приборов свидетельствовали о полной нейронной активности, как будто мозг генерировал воспоминания без тела, которое могло бы их содержать. Аркадий почувствовал, как его собственное тело стало тяжелее, уравновешивая ее невесомость.
– Где она физически?
– Вот в чем вопрос, – сказала Петрова. Она открыла файл. Елена Морозова. Родилась в 1991 году, в том же году, что и ты. Согласно записям, в той же больнице.
– Мы не родились. Нас запечатлели.
Петрова проигнорировала его, пролистывая данные. Имплантат был Zerkalo-7, модель, которую Аркадий помог вывести из эксплуатации после инцидента. Тот, который хранил воспоминания в квантовой суперпозиции, позволяя им существовать в нескольких состояниях до момента наблюдения. Ностальгия Шредингера.
– У нее есть дочь, – сказала Петрова. – Ее тоже зовут Саша. Родилась в 2017 году.
– Это год рождения моей дочери.
– Я знаю. Петрова впервые посмотрела на него прямо. Вот почему они вернули тебя. Ваши воспоминания переплетены. Ты не просто читаешь ее. Ты дополняешь ее.
Аркадий почувствовал, как водка в его желудке превратилась в лед. Запутанность – это слово, которое они использовали для описания частиц, которые нельзя было описать независимо друг от друга. Это было также слово, обозначающее романы, разрушающие браки.
– Покажи мне, – сказал он.
Петрова активировала интерфейс. Стекло резервуара превратилось в экран, на котором отображались не воспоминания Елены, а зеркальное отражение квартиры Аркадия. Он увидел, как наливает водку, но бутылка была прозрачной, а жидкость – водой. В отражении на экране на стене отображались сообщения Саши, но они были адресованы «Маме».
– Она живет твоей жизнью в обратном порядке, – сказала Петрова. – Или ты живешь ее жизнью в прямом порядке. Математика неоднозначна.
Аркадий прикоснулся к стеклу. Оно было теплым, как чип с данными, как бумага в камере внизу. Мир был в лихорадке.
– Мне нужно войти, – сказал он.
– Прямой интерфейс незаконен.
– Как и создание человеческой черной дыры памяти, но мы здесь.
Петрова колебалась. Она была ученым, а это означало, что она верила в правила, пока данные не доказывали, что они являются лишь украшением. Проект «Зеркало» доказал это. Он доказал, что прошлое – это не запись, а поле, а поля можно пахать, засевать и убирать урожай.
– Я буду следить, – сказала она. – Если ваши нейронные паттерны синхронизируются более чем на шестьдесят процентов, я вас вытащу. Даже если это означает сжечь имплантат.
– Мой имплантат или ее?
– В этот момент, – сказала она, – разница будет чисто академической.
Аркадий сел в кресло, которое заменило стол библиотекаря. Оно было эргономичным, рассчитанным на многочасовое погружение. Он подключил разъем не к виску, а к основанию черепа, где у старой модели был порт. Это было заявлением: я устарел, следовательно, я реален.
На этот раз соединение было другим. Никакого белого прилива. Вместо этого – медленное растворение, как сахар в чае. Он был в своей квартире, но обои были с цветочным узором, выбранным его бывшей женой в первый год их брака. Запах вареной капусты вернулся, но он исходил из кухни его матери, 1986 год.
Елена сидела напротив него и вязала что-то красное.
– Долго ты добирался, – сказала она. – Я ждала с первой итерации.
– Сколько раз мы уже говорили об этом? – спросил Аркадий.
– Семнадцать, – ответила она. – Ты всегда спрашиваешь об этом на семнадцатый раз.
Он посмотрел на ее руки. Вязальные спицы двигались без пряжи, создавая петли пустого пространства, которые сохраняли свою форму.
– Моя дочь, – сказал он.
– Твоя дочь, моя дочь, дочь, которая могла бы быть у нас, если бы мы встретились в другой петле. – Она отложила спицы. – Она – единственная постоянная величина. Они не могут правильно ее смоделировать. Она отказывается от имплантата.
– Это невозможно. У Саши никогда не было выбора.
– Именно, – сказала Елена. – Поэтому она и является сбоем.
По краям комнаты начали появляться пиксели – артефакты сжатия памяти. Аркадий почувствовал, как его собственные мысли становятся размытыми, распределяясь между двумя сознаниями, как масло на слишком большом куске хлеба. Голос Петровой прозвучал отдаленно, как голос совести.
– Синхронизация на пятьдесят пять процентов. Волков, ты меня слышишь?
Он слышал, но слова были сначала на русском, потом на английском, а потом на языке, состоящем только из глагольных времен. Елена наклонилась вперед.
– Ты должен выбрать, пока цикл не замкнулся. – Она протянула руку. – Возьми воспоминание о рождении Саши. Это единственное, что они не смогли закодировать. В нем есть шум.
– Шум – это не данные.
– Это данные, если прислушаться.
Он взял ее руку. Она была теплой. Пикселизация распространилась, и он оказался в родильной палате, 2017 год. Медсестра передала ему ребенка, но у младенца было его собственное лицо, морщинистое и мудрое. Мать была не его женой, не Еленой, а им самим, моложе, в форме академии.
Петля замкнулась. Он был своей собственной матерью, своим собственным отцом, своим собственным ребенком. Единственным посторонним была Саша, кричащая в углу, неимплантированная, незаписанная, настоящая.
– Шестьдесят один процент, – сказала Петрова, ее голос пронзил как сирена. – Извлекаю.
Но Аркадий не отпустил. Он держал ребенка, который был также им самим, и произнес слова, которые никогда не говорил в исходном воспоминании, слова, которые существовали только в пространстве между петлями.
– Я выбираю тебя, – сказал он, не зная, кого он имел в виду.
Соединение оборвалось. Белая боль, затем тьма. Он очнулся в кресле, разъем расплавился, дым поднимался от его воротника. Петрова стояла над ним, ее лицо было бледным, как ее пальто.
– Ты был без сознания три минуты, – сказала она. – Но журналы показывают семнадцать часов нейронной активности.
Аркадий потрогал голову. Она была прохладной. Лихорадка спала.
– Что ты видел?
– Я сам, – ответил он. – Но с правильного угла.
Корсак ворвался в комнату с нацеленным пистолетом, что было абсурдной формальностью в месте, где оружие было кодом. Пистолет, вероятно, был подключен к сети, и его цель определялась в режиме реального времени.
– Свидетельница исчезла, – сказал Корсак. – Танк пуст. Серверы показывают, что ее воспоминания распределены по сети, но тело…