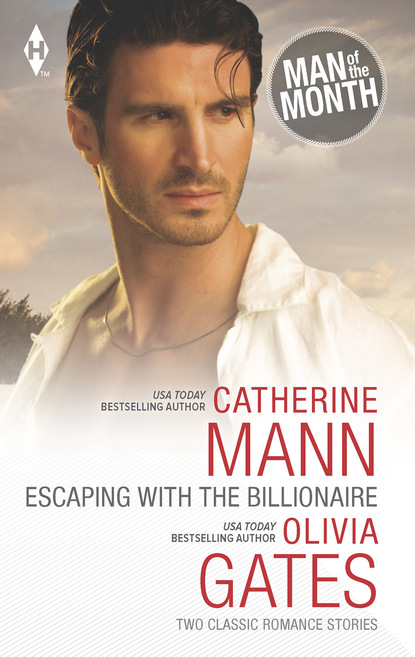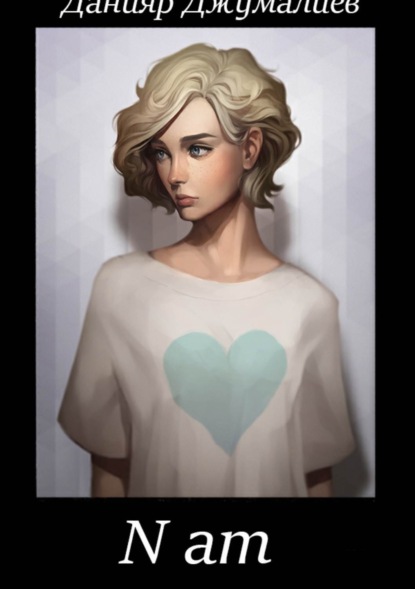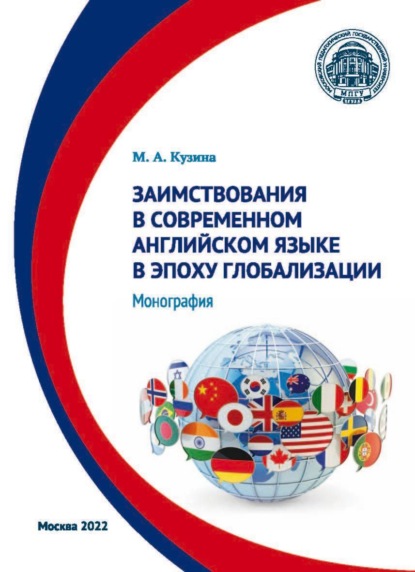Коттеджный посёлок
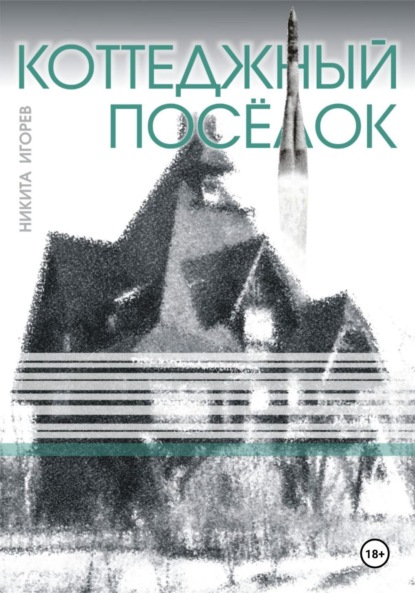
- -
- 100%
- +

Наш мир, хотим мы этого или нет, пронизан рекламой вдоль, поперёк и, даже по диагонали. Реклама, к сожалению, везде, рекламой прерывают всё, что можно, от новостей и олимпиад, до фильмов Тарковского. Реклама нас раздражает, часто бесит, разрушая психику. Доходит до того, что останавливают фильм, чтобы его же прорекламировать. Но, так или иначе, книга пишется в наши дни, и чтобы не показаться старомодным и не выпадать совсем уж из потока, скажем в 19 век, а также быть в тренде, автор придумал прерывать повествование, фрагментами текста на отвлечённые темы. Чтобы было совсем привычно, они будут начинаться на ту же букву, что и реклама. Возможно, это пришло мне в голову от не реализованной идеи блогерства, возможно от чего-то, ещё, например, от лени написания следующих книг. Так или иначе, у автора и читателей теперь есть подстраховка, ведь, если кому-то не понравится роман, может быть, увлекут отступления… Постараюсь не умничать, хотя не уверен. А вот то, что не буду описывать берёзку, осинку или речку с лёгкой пеленой тумана, на десяти страницах, гарантирую.
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК.
Фантастический роман.
«Тут случилось то, чего я никак не ожидал:
мысль, что я сошёл с ума, успокоила меня.»
Станислав Лем. «Солярис».
12 апреля 2008 года
Солнце выходило из «молока» и шансов сфотографировать то, что я хотел, в мягком рассеянном свете практически не оставалось. Придется щёлкать с падающими тенями, а для съёмки архитектуры это не всегда хорошо, нарушается пластика формы, исчезает воздушная перспектива, и т.п.
Я повернул с автострады направо, а это значит, что ещё километров пять, и появятся дома. Я давно здесь не был, но помню всё так, как будто это было неделю или две, назад. Воспоминания нарушила мысль о том, что по радио давно не было ни рекламы, ни новостей. Предпочитаю ездить с радио, а не с цифрой – под радио уснуть невозможно: с его новостями-ужасами и маразматической рекламой. А в награду за всё это бывает неплохая музыка. А тут… Последний раз новости передавали, когда я выезжал из города. Не было и рекламы, не было вообще ничего…
Начало. Бабье лето.
15 сентября 2003 года
С Виктором встретились в кафе в понедельник. Заказ на проектирование, который он нашёл для меня, был прекрасным поводом увидеться. Он был одним из немногих одноклассников, с кем я поддерживал, пусть редкие, но всё же, отношения. Мы жили в одном городе, в отличие от большинства ребят, которые остались там, где мы все учились в школе. Стояла осень, не знаю насчёт «золотой» (в городе это определить порой невозможно), но то, что очень тёплая для середины сентября – это точно. Такая погода делит людей на две группы, первая из которых утверждает, что это и есть «бабье лето», а вторая – что оно наступает значительно позже. То есть пессимисты спорят с оптимистами, причём прогноза погоды в это время как будто не существует.
Не найдя меня в зале, Виктор ворвался на террасу со словами:
– Привет, дружище, давно не виделись! Клёвая погода! Как считаешь, это «бабье лето» наступило, или еще рановато? Убедившись, что мы не входим ни в ту, ни в другую часть населения, мы заказали по «Цезарю» и по зелёному чаю со льдом.
Из слов Виктора я понял, что семье, с одним из членов которой он работал, нужен дом. Дом должен быть большой, поскольку жить в нём будет несколько поколений. Количество людей Виктор точно назвать не смог, как не пытался. Но получалось где-то 12-16 человек. Да это и не важно. Договорились, что на следующей неделе он организует встречу с заказчиком, и я уточню детали.
Спустившись к парковке, мы обнаружили, что тёплое осеннее солнце успело раскалить машины так, что садиться сразу в них не хотелось. Включив кондиционеры, мы вышли, чтобы обняться. Я поблагодарил Виктора за заказ, он ответил избитой шуткой, что «спасибо не булькает», но вдруг стал серьёзным и почти шёпотом промолвил:
– Я ещё кое-что не сказал. Дом-то они затеяли, это хорошо, целый замок получается, только кто-то из них друг с другом вообще не общается. Какой-то внутренний конфликт. Так что входов, наверное, будет несколько. Вот и «фишка!» – подумал я, будем проектировать «Санта-Барбару»!
Кухня сестры и «кухня» проектирования…
Загородный дом, без интриги (сейчас это называется фишка) проектировать нельзя, точнее, проектировать можно, а профессионально и качественно, чтобы потом не было стыдно – практически невозможно. Необходимо за что-то «зацепиться», как в следствии. Это может быть рельеф местности, пропорции участка, материал или необычное желание заказчика. Бывает, что и этого нет. Тогда приходится придумывать эту фишку самому. Это я понял ещё до поступления в институт, на посиделках дома у сестры с её друзьями – коллегами. Она меня старше, к тому времени уже закончила архитектурный и давно работала в проектном институте. В гости тогда ходить было принято, поэтому часто по вечерам можно было послушать кого-то из однокашников сестры по институту или коллег по работе. Эти встречи на кухне в её однокомнатной квартире на первом этаже, дали мне больше, чем вся будущая учёба.
Я вообще не помню, чтобы в институте кто-нибудь из преподавателей нас учил проектировать. Как нельзя проектировать – это да, сколько угодно! А как надо? Учились друг у друга. Кто-то был силён в композиции, кто-то в цвете, кто-то просто был талантлив. И, конечно, журналы. Особенно так называемые «валютные». Говорили, что они действительно приобретались за валюту, и буквально поштучно распределялись по проектным институтам и то не по всем. Их иногда приносила сестра с работы на один день, а чаще на одну ночь. Это было окном в другой мир. Кто имел возможность хотя бы минут десять их полистать, становился «посвящённым» и серятину уже делать и видеть не мог. Это срабатывало надолго, как правило, на всю жизнь.
А, иногда, бывает так, что, помогает случай или удачное наблюдение, абсолютно безотносительное, и не имеющее никакого отношения к творчеству, вообще, и к архитектуре в частности, но, после которого, впору кричать- Эврика, или что-то ещё, в этом роде.
Когда я работал над дипломным проектом, в какой-то момент, для меня наступил ступор. Концепция, уже была, принципиальная схема планировки тоже, но не было главного. Не было архитектуры. Как сейчас помню, что, тогда, в очередной раз, я зачем-то, вышел из аудитории, вероятно, от беспомощности… Два парня, с младших курсов, в коридоре дурачились, размахивая руками и ногами, изображая на их взгляд, восточное единоборство. Но, когда один из них, встал в стойку и зафиксировал ногу и обе руки определённым образом, меня осенило, и я понял, что мне надо сделать в проекте. Ворвавшись в аудиторию, на планшете с разрезами, я начертил три разноуровневые террасы, расположив их каскадом, с пологими пандусами для спуска к бассейнам и водным аттракционам. Это, естественно, сразу же повлияло и на планы, и на фасады, и на общее композиционное решение, всего моего водного спортивного развлекательного комплекса.
«Рабство».
Было ещё кое-что, о чем стоит рассказать отдельно. Назовём это традицией, которая отличала наш архитектурный от всех остальных институтов города. Более того, когда я рассказывал об этом знакомым ребятам из политеха, универа или горного, они, конечно, из вежливости, выслушивали, но абсолютно не понимали меня. Тогда, пожалуй, я впервые ощутил смысл выражения «разный менталитет».
Так вот, этой традицией было «рабство» и заключалось оно в следующем. Студент-дипломник на завершающем этапе работы над проектом, приглашал других студентов с младших курсов в помощь. Иногда это были знакомые ему ребята, иногда нет. Некоторых приглашали заранее, некоторых – в последнюю ночь перед защитой. В помощи нуждались практически все, поскольку заполнить чертежами, цветными фасадами, перспективами, интерьерами десять квадратных метров экспозиции, а также сделать ещё и макет, надо было каким-то образом умудриться. Кого-то звали, а кто-то приходил сам! Потому что, для студентов с младших курсов это было не просто полезно. В эти дни и ночи аврала они оперялись профессионально буквально на глазах, поскольку им доверяли работы, которые на их вторых-третьих курсах и не снились. Например, покрасить с кем-нибудь более опытным в паре фасады здания или его интерьер, сделать макет или вычертить стильно планы с разрезами и всё красиво подписать. Это можно сравнить, по тем временам, с возможностью потренироваться начинающему хоккеисту с ЦСКА.
Особенно ярко это проявлялось в последнюю ночь, когда дипломник или дипломница уходили домой или в общежитие, чтобы привести себя в порядок и главное выспаться, поскольку последнюю неделю они, как правило, не выходили из института и спали в аудитории на столах. Кому-то давались абсолютно чёткие инструкции на всю ночь до утра, а кому-то говорилось: «Ребята, вот здесь надо что-то сделать, подумайте сами, я пошёл…»
Но были и так называемые «золотые рабы», заманить их к себе было практически невозможно. Будучи прекрасными рисовальщиками, они могли из любого проекта, даже с отсутствием качественной архитектуры, сделать произведение искусства за счёт антуража: деревьев, кустов, машин, людей и т. п. Могли, но не хотели. И их можно было понять: серость и бездарность они спасать не собирались, а толковые ребята могли обойтись собственными силами.
Главное, что приобреталось в «рабстве» – это уверенность и профессиональная «наглость», которые позволяли студентам уже не дрожать над своими курсовыми проектами и не паниковать, а спокойно и здраво оценивать и распределять свои силы. Это было, своего рода, путёвкой в жизнь, поскольку авралы перед сдачей проекта будут сопровождать архитекторов всегда, даже, когда появится компьютер.
Поскольку «рабов» было принято кормить, на дипломника в этот период накладывались дополнительные хлопоты и заботы: чтобы чай, портвейн и бутерброды, по возможности, не заканчивались. И ещё в аудитории, особенно ночью, должна была обязательно звучать музыка, для вдохновения и чтобы не уснуть. Соответственно, мы были рады любой кассете с магнитной лентой. Но, по моим наблюдениям, наиболее яркие проекты рождались под Pink Floyd. После защиты дипломного проекта пиршество, естественно, было более серьёзное, происходило оно, как правило, в аудитории и ребята – помощники из «рабов» плавно превращались в хороших добрых друзей новоиспечённого дипломированного архитектора. В это время можно было с «барского плеча» на память получить всякие презенты – от циркуля до компрессора или даже аэрографа.
А потом часто срабатывал принцип взаимности: вчерашние дипломники, уже работая в проектных институтах или оставаясь на кафедрах, приходили по вечерам к бывшим «рабам», чтобы помочь, и самим на время вспомнить молодость, тем более что в первые годы после окончания очень тянуло в alma mater. Помню, как я сделал макет атомной станции к дипломному проекту своему приятелю курсом старше. Каково же было моё изумление, когда ровно через год, в период моего дипломного аврала я увидел Владимира, который, служа в армии, умудрялся каждый вечер в течение недели приходить и клеить макет уже мне.
Раньше…
…Раньше, чтобы стать дизайнером и им называться, (design – проектировать, чертить, проект, план, рисунок) необходимо было поступить на факультет промышленного искусства или промышленной эстетики при каком-нибудь архитектурном институте или академии с огромным конкурсом, проучиться около пяти лет, сдавая каждую сессию по проекту, (это помимо всех экзаменов и курсовых), пройти все необходимые производственные практики, сделать и защитить диплом. А потом, оказавшись на предприятии и проработав несколько лет, доказать себе и людям, что ты действительно можешь так называться, поскольку, при твоём непосредственном участии были разработаны стильные по форме и цвету промышленные изделия: возможно это была шариковая ручка, а возможно скоростной поезд или автомобиль.
Сейчас, чтобы так называться, достаточно приколоть бейджик с этим словом и ты вполне уважаемая часть персонала какой-нибудь конторы или магазина. Если, бродя по торговому центру, Вы вдруг услышите: – Вам помочь? – знайте, – где-то поблизости не дремлет человек с надписью «дизайнер», готовый в любой момент заговорить с Вами и предложить, например, кольца для штор, или унитаз. Бейджики можно встретить и на больших толстых дверях в виде табличек, но это уже другая история. Главное отличие настоящего профессионального дизайнера от остальных – отсутствие бейджика.
Раньше…
…Раньше людей интересовало всё, что касалось вселенной, солнечной системы, а также нашей планеты. Например, такие события, как затмения. Интернета не было, телевидение только развивалось. Конечно, было радио, но там почему-то об этом старались не говорить. Видимо считалось, что астрономические события такого масштаба мало продвигали общество к коммунизму. Но были отрывные календари, и висели они в каждом доме, в каждой квартире, вот в них то и было все написано с точностью до минуты: когда, где и сколько продлится то или иное астрономическое действо. И люди заранее коптили стекла, приносили с работы различные светофильтры, рентгеновские снимки и т.п. И ждали. Ждали все – и мал и велик. И когда вдруг, средь бела дня начинало темнеть, иногда полностью, иногда слегка, и глядя на солнце через тёмные стекла, можно было разглядеть нюансы этого явления, что-то происходило с людьми. Во всяком случае, принадлежность к космосу, к огромной вселенной, чувствовал каждый.
Более того, еще раньше, одни люди доказывали, что Земля – сфера и вращается вокруг Солнца. Другие же, сомневаясь, возражая и не найдя достойных аргументов в обратном, как правило, сжигали их за это. Но, тем не менее, равнодушных к вопросам Вселенной – не было!
Сейчас, сказать, что это никого не волнует – ничего не сказать. Последние затмения, как солнечные, так и лунные, а также различные метеоритные потоки не вызывают, особенно у молодежи, никакого интереса. Если бы Челябинский метеорит не наделал столько бед, его тоже никто бы не заметил. При этом, находясь на улицах, во дворах деградирующие земляне продолжали «пялиться» в свои телефоны и гаджеты, но не для того, чтобы узнать какие-нибудь новости или подробности о событии. Нет.
Как-то, по весне, минут за десять до начала затмения Солнца, выйдя во двор с предварительно подготовленным биноклем, с надетыми светофильтрами, я проходил мимо группы подростков, окруживших скамейку и склонившихся над телефоном, который держал, что-то демонстрируя, один из них. Услышав знакомое «Здрасте», я понял, что соседский мальчишка среди них и можно подойти. Зная всю степень своей наивности, я всё равно надеялся, что ребята смотрят что-то, связанное с затмением. Возможно, это репортаж с МКС, возможно ещё что-то. То, что это было ещё что-то, я оказался прав, только к космосу это не имело ни какого отношения. Подойдя поближе, я услышал из их шипящего телефона какие-то вопли, девичьи крики и отборный мат. Вдруг компания громко заржала, после чего, видимо досмотрев до конца, разбрелась по своим делам. На скамейке остался мой знакомый мальчуган Данила, который явно не принадлежал к их обществу, как по возрасту, так и по воспитанию, он просто гулял во дворе и случайно оказался в центре событий.
– Здравствуй, что это вы такое «интересное» смотрели?
– Не такое уж и интересное, не сразу ответил малыш. Похоже, увиденное произвело на него неприятное впечатление. – Просто девчонки из их школы дрались сегодня, а парни засняли всё. Там даже до крови дошло.
– Не надо такое смотреть.
– Я знаю, просто не успел убежать. Дядя Жора, а можно в бинокль посмотреть?
– Можно, Данила-мастер, и даже нужно.
Фото в рамке, на письменном столе.
Вот уже минут сорок я пил чай и ел на редкость вкусные оладьи, макая их в четыре вида варенья, и при этом, рассматривая фотографии на стенах и в альбомах, которые перелистывала хозяйка квартиры, – милейшая женщина; несмотря на преклонный возраст, живой, с удивительно ясными и добрыми глазами человек. У нас, кроме всего вышеперечисленного, было ещё одно занятие: мы ждали главу семейства, её мужа, с их дочерью, которые попали в «пробку» или что-то в этом роде.
Ожидание мужа для Анастасии Сергеевны было делом привычным – из этих ожиданий, пожалуй, и состояла вся её жизнь. Василий Фёдорович Силин долгие годы был генеральным конструктором-ракетчиком, возглавляя крупнейший НИИ нашего города. Заслуги в формировании военного щита нашей Родины были колоссальны. Это я понял по количеству орденов и лауреатских значков на фотографиях в альбомах. Но главные снимки висели на стене в кабинете, куда Анастасия Сергеевна тихонько завела меня. Их было немного, с них смотрели на меня люди в широкополых шляпах и каракулевых папахах, в габардиновых пальто и генеральских шинелях, в просторных пиджаках и облегающих кожаных куртках на фоне пусковой установки и просто на фоне стены в коридоре, во дворце культуры и на природе.
Но одна фотография, которая стояла на столе, меня потрясла до такой степени, что я, как будто, утратил на какое-то время, чувство окружающей действительности или, наоборот, приобрёл ощущение другой, новой. На ней Василий Фёдорович, мой будущий заказчик, стоял в окружении людей, которых я всех знал. Я-то ладно, их знала вся наша страна, а некоторых – весь мир: С.П. Королёв, Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов, М.В. Келдыш, Н.П. Каманин, Р.Я. Малиновский.
Когда мы вышли из кабинета, я понял, что абсолютно не готов к встрече. Что-то сломалось внутри. Мне захотелось домой или хотя бы на свежий воздух. «Больших» людей среди заказчиков было у меня предостаточно. Только уважаемых до такой степени, среди них не припомню. Поэтому алгоритм первой встречи с ними всегда был примерно одинаков. Распустить хвост: это демонстрация портфолио, перечисление их предшественников, желательно с именами погромче, несколько умных слов (с этим надо быть осторожнее – некоторых это настораживает и даже отпугивает), и главное – умение назвать цену.
А здесь… Для того, чтобы такому человеку что-либо предложить, надо стать как профессионалу в плане ответственности, самоотдачи, дисциплины, работоспособности, и таланта, в конце концов, практически им. Но это невозможно. И отказаться тоже нельзя. Люди преклонного возраста пока найдут нового архитектора… Так или иначе, я понял, что это заказчик, который бывает раз в жизни, и то не в каждой, и то, что надо как можно скорее закончить все текущие заказы.
Как только мы вышли из кабинета и оказались снова в гостиной, в дверь позвонили. Анастасия Сергеевна поспешила в прихожую, а я остался со своими мыслями, к которым добавилась еще одна: остаться в гостиной или пойти навстречу. Если оставаться в гостиной, то, какое место занять? Мои сомнения были прерваны довольно быстрым появлением Василия Фёдоровича и Нины Васильевны, которая держала в руках подозрительный рулон ватмана. Василий Фёдорович, после короткого, но сильного рукопожатия, промолвил:
– Когда здесь закончите, зайдите ко мне, я буду у себя в кабинете, Вас проводят.
Я остался в обществе двух дам и рулона ватмана, который Нина Васильевна развернула на столе. Там, скорее всего, были нанесены мысли многочисленного семейства. Хуже всего для архитектора, когда заказчик начинает проектировать. Но ничего, в данном случае попробую это пережить.
– Понимаете, наша семья довольно большая, – начала Нина Васильевна, – и, чтобы Вам не пришлось выслушивать каждого взрослого члена нашей семьи, мы решили, что связь поддерживать Вы будете со мной. Я не работаю, поэтому это будет удобно и разумно. С папой и с мамой Вы, конечно, поговорите обязательно.
Анастасия Сергеевна провела руками по и без того идеально расправленной скатерти и, улыбнувшись, заметила:
– А мы с Жорой уже поговорили. Но, правда, не о доме…
– Не о доме? А о чем же тогда? – спросила Нина Васильевна скорее из вежливости. Она была увлечена рассматриванием того, что было изображено на ватманском листе формата А1.
Я успокоился, поскольку ни планов, ни фасадов там не было. Скорее, это напоминало генеалогическое дерево, состоящее из кругов с цифрами, площадями, поясняющими надписями. Чувствовалось, что это плод многодневного коллективного труда, хотя весь текст был написан одной рукой.
– Мы это изобразили для себя. Нам кажется, что учли всё. Вероятно, для Вас это будет полезно. Как это назовём: памятка, перечень пожеланий?
– Может быть – техзадание?
– Замечательный термин. Георгий, это, к сожалению, единственный экземпляр…
– Не волнуйтесь, когда поедем на место, я захвачу фотоаппарат, а Вы – этот лист.
– Прекрасно! Так и сделаем. Нина Васильевна склонилась над схемой.
Осей, у здания обычно много, сколько-то с цифрами, сколько-то с буквами. Но, есть, ещё одна, и она – главная, это та, которая платит и всё решает. Я сразу понял, кто является «осью» дома, в данном случае.
– Так вот, Георгий…
Когда я вошел в кабинет, Василий Фёдорович встал из-за стола и указал мне на кожаное кресло. Поблагодарив, я расположился в старом, но по-прежнему удобном произведении мебельного искусства, а хозяин кабинета вернулся за письменный стол. Я поймал себя на том, что продолжаю, не отрываясь, смотреть на рамку с фотографией, хоть и обращённую ко мне задней стороной. Осознав, что ещё немного, и я могу выдать наш с Анастасией Сергеевной секрет посещения кабинета, я перевёл взгляд на Василия Фёдоровича. В свете настольной лампы черты лица его несколько изменились, как мне показалось, стали более мягкими и доверительными.
– Молодой человек, буду краток. В доме должен быть точно такой же кабинет, все габариты – сантиметр в сантиметр, обои – подберите максимально похожие, я думаю, сейчас это не проблема. Насчёт ориентации посмотрите сами. Здесь одно окно. Если получится, пусть оно выходит на восток. Всё остальное мне не важно. Извините нас за то, что пришлось подождать. Я обычно никогда не опаздываю, но дочь повезла меня на место, которое выбрали для строительства. Когда ехали обратно, попали в «пробку» из-за внезапно начавшихся ремонтных работ. Вы за рулём или Нине довезти Вас?
– Я на машине, не беспокойтесь.
– И ещё, Георгий, позвоните обязательно Олегу. Олег – мой сын. Он хороший парень, без него нельзя начинать. Сейчас Олежек в Питере и он ждёт Вашего звонка. Вот его номер телефона. А барышень моих выслушайте, но делайте по-своему, как надо. Спасибо и всех благ!
– Спасибо Вам, Василий Фёдорович, и, получается, не только от меня.
Было уже совсем темно, когда я сел в машину и завёл двигатель. Все-таки встреча меня вымотала: слишком много информации, на фоне специфичности заказа и отношений в их семье. Решил ехать не спеша, чтобы прийти в себя и одновременно получить удовольствие от остатка «бабьего лета» с его тёплым, даже по вечерам, воздухом, сухим, а стало быть, светлым и безопасным, дорожным асфальтом, на котором отчетливо виден каждый упавший осенний листок. Я полностью открыл окно и включил негромко радио. Pet Shop Boys исполняли It’s A Sin. Сделав погромче, я поехал домой.
Из рассказа Анастасии Сергеевны я понял, что инициатива постройки загородного дома принадлежит Олегу, но, только он предлагал родителям купить готовый, чтобы не тратить время, и поселиться где-нибудь под Питером. Но этот вариант с переездом в другое место поддержки со стороны Василия Фёдоровича и Анастасии Сергеевны не получил. Тогда появилась идея купить или построить дом просто за городом. Идея была принята, но с условием, что туда переедет всё многочисленное семейство. А раз так, то вариант с приобретением отпал сам по себе.
У Василия Фёдоровича и Анастасии Сергеевны трое детей: Нина, с которой я уже был знаком, Галя, и Олег, который ждал моего звонка. Нина закончила ин.яз, и как старшая, привыкла всё за всех решать, и, по совместительству, являлась главным «опекуном» отца. Замужем она была за человеком, в своё время посвятившим себя науке. Сейчас, работая в структуре на базе бывшего института, он регулярно приносил неплохие деньги, но при этом был человеком скромным и немного замкнутым. В семье ходила версия, что «замкнула» его Нина Васильевна, давно, раз и навсегда. У них есть сын, который женат, и у них растет дочь.
Галина всего на год младше Нины. Посвятила себя сразу после университета музейному делу. Сейчас она галерист, одна из лучших в городе. Мне кажется, что её я даже знаю. Нас когда-то давно познакомила на открытии выставки импрессионистов наша общая хорошая подруга Римма. Муж Гали преподаёт в университете, который они оба закончили, и в котором, собственно, познакомились в конце семидесятых. Их две дочери-близняшки замужем за музыкантами. Галина обожает родителей, но видится с ними реже, чем Нина. С Ниной встречаются два раза в год на днях рождения родителей.