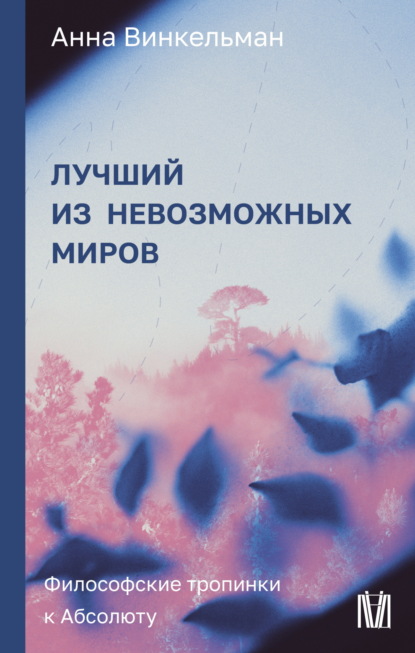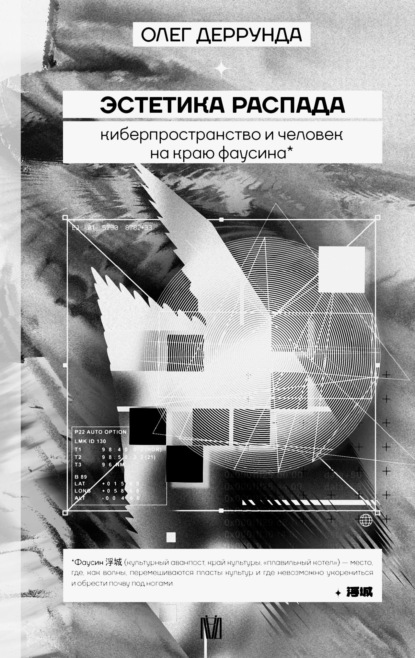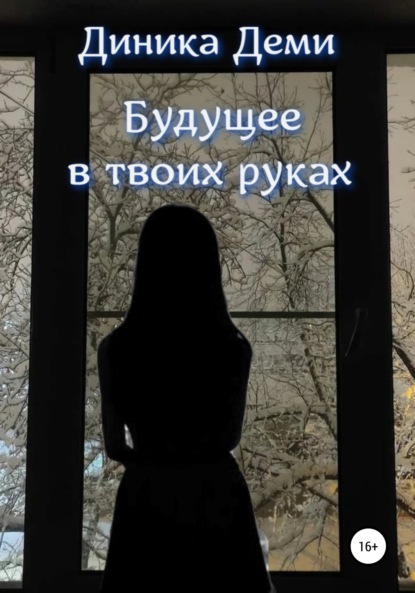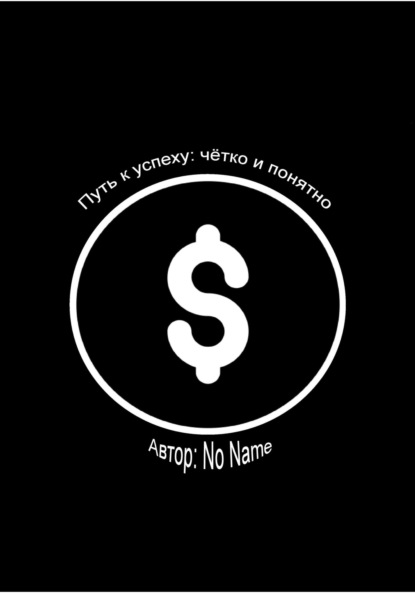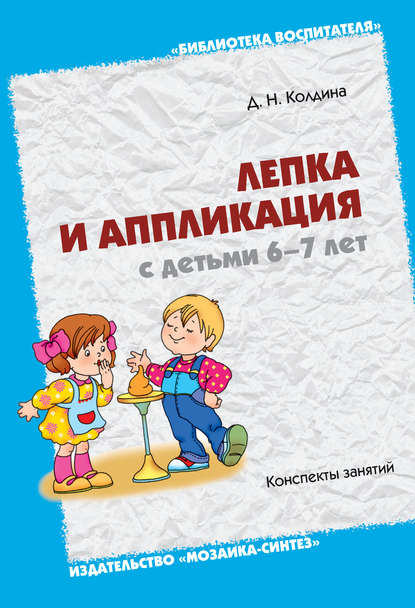Русская философия в 7 сюжетах. «Немота наших лиц»
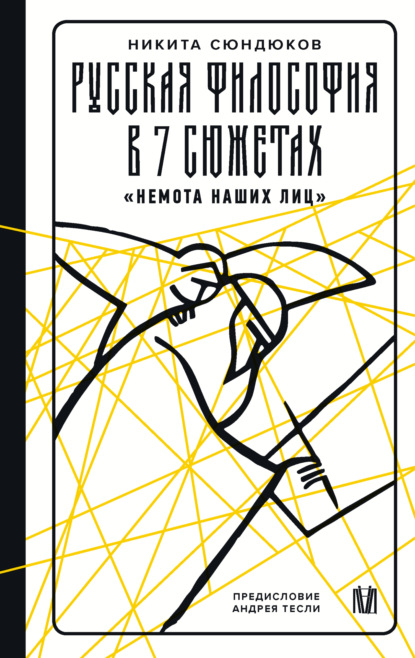
- -
- 100%
- +

Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается
© Н. К. Сюндюков, 2024
© А. А. Тесля, статья, 2025
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025
* * *Посвящается моей жене Юлии
Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь.
Л. Толстой. Война и мирВечный спор
Существует ли русская философия? Это один из «вечных» вопросов. Ровно оттого, что «философия» не вещь, по поводу нее невозможен спор того же рода, что о существовании или отсутствии стола (излюбленного примера из философских лекций, на котором какие только теории не излагались).
В споре о существовании или несуществовании «русской философии» сразу несколько пластов. Во-первых, это спор о самой природе философского знания: может ли оно быть привязано к тому или иному национальному, культурному контексту, можем ли мы говорить о множественности философий – или же философия едина и если и есть русские философы, подобно тому как есть немецкие или были древнегреческие, то это лишь обстоятельства места и времени, случайная подробность, которая значима для биографий и интеллектуальных историй, но в сугубо философском разговоре не существенна.
Во-вторых, в ином ракурсе это спор о том, возникло ли, сформировалось ли некое целое, которое именно в философском смысле можно рассматривать как обладающее своей собственной историей и связностью. Здесь уже (и это, кстати, не исключает первого ракурса – то есть если мы ответим радикальным согласием на тезис о единстве философии) вопрос состоит в том, можем ли мы выделить русскую философию подобно тому, как выделяем, например, средневековую или древнегреческую (и обратите внимание на то, как меняются здесь критерии выделения). Иными словами, есть ли в этом целом свой собственный философский сюжет – или же объединение множества авторов в «русскую философию» оказывается внешней рамкой, где существенно совершенно другое: например то, что одни – гегельянцы, а другие – лейбницианцы (и разумнее тогда, быть может, окажется рассматривать первых в рамках общего понимания гегельянства, а вторых – вместе с испанскими или бразильскими лейбницианцами).
Можно попытаться утвердить существование «русской философии», отождествив ее с философствованием на русском языке. И автор, кажется, к этому близок, настаивая: «Мы философствуем на своем родном языке» и «Всякая попытка философствования вынуждена быть национальной, мы из этого не выскочим». Легко привести возражения, вспомнив хотя бы о средневековой философии, ведь университетская латынь не была родным языком ни для Фомы Аквинского, ни для Бонавентуры, да и греческий не был родным для Марка Аврелия, если вспоминать времена еще более давние. В Московском университете защищали диссертации на латыни еще в первые десятилетия XIX века, на ней же многое писал Лейбниц, а стремясь говорить о важнейшем, то есть оправдывая Бога, всемогущего и всеблагого и тем не менее создавшего мир, в котором есть зло, переходил на французский. И Чаадаев напишет свои философские произведения по-французски, равно как по-французски будет написана та брошюра Хомякова, где вводится понятие «соборность» (появившееся в посмертном переводе на русский). И здесь перед нами очевидная трудность – ведь ни Хомякова, ни Чаадаева мы из истории русской философии (по крайней мере так, как ее понимает автор) никак не исключим, – и сам автор настаивает, что история последней (или ее классической эпохи) начинается именно с Чаадаева. Выходит, что русская философия явно не тождественна философии на русском языке – и не только потому, что совершенно не очевидно, всех ли авторов, писавших по-русски, следует в нее включать, но и потому, что к ней принадлежит целый ряд текстов, написанных на иных языках.
И как раз пример Чаадаева позволяет нам увидеть другую сторону и другую возможность – ведь, написав свои «Философические письма» на рубеже 1820–1830-х годов, написав по-французски, он настойчиво пытается их опубликовать, и опубликовать именно в России. Речь идет именно о том, чтобы донести их до «публики», говоря языком того времени – не некоего неопределенного круга читателей, а именно до русского образованного общества. Иными словами, даже написанные на разных языках, эти произведения так или иначе учитывают, обращаются, отталкиваются от определенного сообщества – авторы не говорят «в вечность» (или, по крайней мере, говорят не только в нее), но надеются быть услышанными другими, возражают, соглашаются, продолжают их. В этом смысле философия, разумеется, ничуть не обязана быть национальной – как и сказано выше, история дает нам массу примеров других устройств философского общения. Но там, где возникают национальные общности модерного типа, то есть национальные литературы, национальные образовательные пространства, национальные рамки оказываются зачастую первостепенными. То есть зачастую оказывается возможным рассказывать историю национальной философии как имманентный процесс, «изнутри»: внутренние связи, смены поколений, реакции на вызовы и проблемы национальной жизни оказываются намного существеннее, чем внешние факторы.
И наконец, русская философия существует уже потому, что было и есть некоторое количество людей, которые воспринимали себя и воспринимались окружающими в качестве русских философов – и потому, что существует вереница текстов, описывающих и анализирующих русскую философию. Ведь каждая «история русской философии» не только выступает описанием, но одновременно и создает свой собственный предмет.
В первом сюжете автор прямо говорит, что выбираемые им способ и ракурс изложения обусловлены стремлением рассказать историю – то есть нечто, имеющее начало, середину, конец и внутреннюю связность. История в этом смысле – нечто регулярно переписываемое, ровно потому, что дальнейшее движение вновь и вновь порождает вопросы: 1) остаются ли ее смыслы актуальными для нас; 2) не привнесло ли дальнейшее иного понимания предшествующего; 3) является ли минувшее частью нашей нынешней, «своей» истории – или же оно стало чужим и, быть может, чуждым. Со многим сказанным в книге мне трудно согласиться – и многое, с чем я согласен, хотелось бы сказать иными словами. Но предисловие не то место, где спорят с автором, уже хотя бы потому, что оно предшествует книге. Она уже написана, но ее лишь предстоит прочесть, а автор предисловия находится в сложной роли, располагая свой текст сразу в нескольких перспективах: в предположении, что читатель либо подчинится порядку страниц, продвигаясь от титульного листа к последней странице, и, следовательно, предисловие действительно будет прочитано первым, либо нарушит последовательность, сначала обратившись к книге, а лишь затем поинтересуясь предисловием, соотнеся его с собственным восприятием текста, или, бегло прочитав вначале, вернется к нему уже после. Но все-таки главная роль предисловия – сказать, отчего и зачем стоит читать книгу, которая перед вами. А читать ее стоит потому, что эта «история в семи сюжетах» – попытка всерьез философствовать на основе того, что автор называет «классической русской философией», то есть воспринять ту мысль прошлого как живую, как длинный разговор, к которому мы причастны, утверждая тем самым единство истории.
Андрей ТесляПредисловие
Некоторое время назад в одной петербургской академии прошла презентация нового научного журнала под названием «Русская философия». Когда началось время вопросов, один из слушателей выразил недоумение по поводу дизайна журнала: «Почему слово “русская” на обложке дано крупнее, а “философия” – мельче? Ведь главное – это философия, любовь к мудрости и истине, а не национальная принадлежность!»
Этот вопрос вызвал в моей памяти строчки монолога Чацкого «Французик из Бордо»:
Как европейское поставить в параллельС национальным – странно что-то![1]На первый взгляд, у Чацкого речь совсем о другом: об отношении народов, а не проблеме философской идентичности. Чтобы оправдать предложенное сопоставление, я вынужден обратиться к трюизму. История философии, как мы ее знаем, – это история европейской философии, а потому указание на то, что национальную принадлежность любви к мудрости необходимо воспринимать как нечто вторичное по отношению к самой мудрости, видится мне как минимум не бесспорным. Национальная традиция не должна неметь перед лицом универсальности.
Так или иначе, указанные строки из монолога Чацкого – великолепная пародия на строй мысли русских людей, которые жили 200 лет тому назад. Национальное, то есть свое, не может стоять в параллели с европейским, то есть с общечеловеческим (а именно так в то время русские воспринимали Европу), но только в подчинении последнему. Национальное рассматривается как нечто, что заведомо проигрывает в прямой конкуренции с европейским, то ли по причине того, что русские всегда находятся в позиции догоняющих, то ли потому, что европейское – это рамка для русского национального и оттого их нельзя ставить в параллель друг другу, как нельзя уподоблять меньшее и большее.
Наблюдая публичные дискуссии последних лет, я понимаю, что противоречие между национальным и европейским не разрешено и 200 лет спустя после написания «Горя от ума». Оно может облекаться в совершенно разные одежды: национальное становится евразийским или имперским, европейское – либеральным или республиканским, но результат всегда будет один: попытка поставить эти феномены в параллель друг другу, то есть сравнить и тем самым уподобить друг другу, всегда будет казаться чем-то странным.
Это отвлеченное, более политическое, нежели философское рассуждение имеет тем не менее самое прямое отношение к теме этой книги. Как примирить единство философии как истории поисков универсальной истины с вопросом национальности? Здесь мы встаем перед развилкой. Или мы вынужденно отказываемся от всякого большого нарратива в отношении философии, и тогда на руках у нас остается не универсальная история, а многообразие национальных историй, косвенно связанных друг с другом; или же мы занимаем отчаянно ретроградную позицию и настаиваем, что да, история философии творилась только в Европе.
Однако историю русской философии не удовлетворяет ни первый, ни второй вариант. Русские философы всегда мыслили себя в качестве продолжателей именно классической европейской традиции, но при этом настаивали на том, что юная русская мысль должна отвоевать свою самобытность. Вот уже 200 лет кряду муссирующаяся на наших просторах весть о скорой «смерти Европы» стала смыслообразующим мифом русской интеллектуальной традиции. Осмелюсь утверждать, что Иван Карамазов, который собирается ехать в Европу, чтобы навестить родные его сердцу могилы европейских интеллектуалов, – это архетип всякого русского философа, даже если сам конкретный русский философ никогда не захочет в том себе сознаться.
Русскую философию не просто не смущает параллель национального и европейского – она рождена этой параллелью. Своеобразие происхождения вынуждает русскую мысль раз за разом возвращаться к своим истокам в попытке зацементировать тот разлом, из которого она проистекает. Стоит ли говорить, что попытки эти обречены на провал, ибо снятие вопроса о параллелизме национального и европейского, то есть окончательное разрешение одного из основных вопросов русской философии, равнозначно уничтожению источника ее существования. Если угодно, Европа должна вечно находиться при смерти, но никогда не умирать окончательно для того, чтобы русская мысль оставалась сама собой.
Данное выше рассуждение может ввести читателей в заблуждение, что книга, которую они держат в руках, посвящена теме взаимоотношений России и Европы. Это не так. Основная тема этой книги – русская религиозная философия. Вопрос соотношения России и Европы служит здесь не более чем фоном. Тем не менее я посчитал важным бегло обрисовать этот фон именно здесь, в предисловии, дабы уже не касаться – или почти не касаться – его в дальнейшем.
Но зачем очередная книга по русской философии? Ведь у нас есть классические исследования Зеньковского и Лосского, не потерявшие своей актуальности по сей день; есть труды представителей современных школ истории русской философии, каждая из которых замечательна по-своему. Это действительно так, и в конце книги любопытный читатель найдет список рекомендованной литературы. Однако цель этой книги несколько отличается как от целей классического научного исследования, так и от целей сугубо учебных. Я бы хотел предложить читателю научно-популярную историю русской философии, сознавая всю спорность любых попыток популяризации.
Что я подразумеваю под научно-популярным изложением?
Прежде всего, в своем рассказе я не стремился к системности, как бы странно это ни звучало. В основе книги лежит переработанный курс лекций, читанный для широкой аудитории в петербургской библиотеке имени Маяковского; как и в лекциях, в книге мне хотелось заострить внимание лишь на тех эпизодах русской мысли, которые волнуют лично меня, чтобы по возможности передать это волнение читателям. На мой взгляд, это лучший способ введения в ту или иную тему.
Этим же стремлением объясняется то, что я избегал чрезмерного использования цитат и ссылок, оставляя пространство для плавного, живого рассуждения. Как сказал один мой старший товарищ, «хочешь заинтересовать студента в своей теме – упоминай как можно меньше имен».
Далее, по моему искреннему убеждению, в настоящем философском повествовании на первом плане должны находиться идеи философов, а не их личности и судьбы. По этой причине я счел возможным не вдаваться в биографии русских мыслителей, ограничившись лишь некоторыми, наиболее характерными, на мой взгляд, деталями.
Наконец, выбор героев книги – Чаадаев, Достоевский, Соловьёв, Мережковский, Бердяев, Шестов, Булгаков, Флоренский – может показаться несколько субъективным, если не сказать произвольным. Неужели этот набор отражает все содержание русской мысли? Разумеется, нет; как писал Бердяев по несколько иному поводу, русская религиозная философия лишь один из этажей русской философской культуры, наряду с которым существовали этажи русского марксизма, просветительства, нигилизма, ученого богословия. Однако в произвольности выбора героев и тем и заключается пафос книги. Мне хотелось рассказать свою личную историю русской философии, потому что, как научил меня все тот же Бердяев (а еще Марсель Пруст), настоящая история только и бывает личной; мне хотелось предложить читателю сквозной интеллектуальный сюжет, не отвлекаясь на его побочные ответвления; сюжет, который имеет начало и конец, который развивается от мыслителя к мыслителю, раз за разом приобретая новые черты и новые оттенки.[2]
Придирчивый читатель обратит внимание на подзаголовок книги: «Русская философия в семи сюжетах». Однако в сущности эти семь сюжетов – повторение одного и того же вечного русского сюжета, только взятого на разные лады. Сюжета, об углы которого разбивались умы не одного поколения русских людей. Его сердцевину вернее всего схватил Тургенев в своих воспоминаниях о Белинском – пускай слова русского классика станут напутствием любезному читателю:
Бывало, как только я приду к нему, он, исхудалый, больной (с ним сделалось тогда воспаление в легких и чуть не унесло его в могилу), тотчас встанет с дивана и едва слышным голосом, беспрестанно кашляя, с пульсом, бившим сто раз в минуту, с неровным румянцем на щеках, начнет прерванную накануне беседу. Искренность его действовала на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала; но, поговорив часа два, три, я ослабевал, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде, сама жена Белинского умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминала ему предписание врача… но с Белинским сладить было не легко. «Мы не решили еще вопроса о существовании Бога, – сказал он мне однажды с горьким упреком, – а вы хотите есть!..»[3]
Cюжет первый
Существует ли русская философия?
Существует ли русская философия? Это первый вопрос, который будет нас волновать в рамках этого сюжета. Вопрос извечный, проклятый. Второй вопрос вытекает из ответа на первый: если русская философия существует, то когда она началась?
Последовательное рассмотрение ответов на эти вопросы и будет планом нашего сегодняшнего разговора. Первую часть мы посвятим существованию или несуществованию русской философии, очерчиванию ее границ. Мы постараемся понять, что вообще такое философия и как философия может быть русской. Вторую часть мы посвятим рассмотрению предтеч русской мысли, обсудим, что происходило с ней до того, как в начале XIX века случился Петр Яковлевич Чаадаев, которого я, равно как и многие другие исследователи, считаю зачинателем русской классической философии.
Итак, почему вообще возникает вопрос о существовании русской философии? Казалось бы, вот они – русские философы: Хомяков, Соловьёв, Бердяев, Флоренский, Булгаков. И тем не менее, когда между людьми, более или менее погруженными в философский дискурс, заходит разговор о русской философии, очень часто можно услышать, что никакой русской философии нет. Не существует ее. Есть русская литература, русская культура, русская публицистика, которая затрагивает те или иные философские вопросы, но русской философии как таковой нет.
Самый популярный аргумент, который приводят против существования русской философии, заключается в том, что философия – это линейный процесс, развивающийся через вереницу конкретных дискуссий, которые поддерживают конкретные люди, ссылаясь друг на друга. Начинается он, разумеется, с греков, а вот кем заканчивается (и заканчивается ли) – зависит от традиции, к которой принадлежит критик. Например, сторонники классической идеалистической философии считают, что философия закончилась в XIX веке на имени Георга Гегеля. Для них философия – дело целиком и полностью рациональное, и довести эту рационалистическую линию до конца, осмыслить бытие силами одного только разума удалось именно Гегелю. Все, что идет после, – это уже так называемая неклассическая философия или не философия вовсе, а нечто околохудожественное или околонаучное, тщащееся найти себе место на стыке социологии, политологии, психологии и лингвистики. Строгого имени «философия» оно не имеет права носить.
В эту когорту «неклассической философии» попадает и русская традиция, как лишь философствование, размышление на тему, но не философия в строгом смысле слова. Русская философия якобы не занимается философскими предметами, строго очерченными определенной корпорацией людей, которые называют себя философами. Это, повторюсь, точка зрения классиков от философии, гегельянцев, которые поддерживают идею единства истории философии. Почему их мнение так важно для нас? Дело в том, что русская философия возникла в очень своеобразный исторический момент. Это вторая четверть XIX века. Гегель уже написал свои самые важные произведения и самолично объявил, что поставил точку в истории философии. Дальше можно либо мыслить по Гегелю, либо не мыслить вовсе. Сегодня такая самонадеянность может показаться смешной, но в то время влияние Гегеля на интеллектуальные круги было огромным. Более того, немецкий философ полагал, что создал не просто совершенную философскую систему, но такую систему, которая развивает идеи всех предшествующих философских гениев начиная с Фалеса и заканчивая Кантом и Фихте. То есть спорить с Гегелем было все равно что спорить с философией как таковой. Гегель ее апроприировал. И вот в такой философской ситуации возникает русская мысль. Ей, еще зеленой, неоперившейся, внезапно нужно доказывать право на свое существование, сдерживая титанизм Гегеля. Поэтому ранняя русская философия, прежде всего в лице славянофилов, возникает как реакция на немецкую философию. И поэтому ей очень важна оценка наследников и ценителей немецкой философии. «Сумела ли я доказать свое право на существование?» – как бы вопрошает она. Представители классической линии в истории философии считают, что нет, русская философия так и не состоялась. Отсюда вопрос о существовании русской философии. Это, если угодно, следствие ее родовой травмы.
Здесь есть и второй, менее явный момент. Это европоцентричность. Философия может быть только в Европе. Китайская философия, индийская философия, конечно, присутствуют в учебниках по истории философии, но чаще всего им посвящены главки самое большее в 20 страниц, где перечислены основные школы, основные имена и рассматривается все это скорее в качестве экзотического артефакта: то ли философия, то ли религия, то ли риторика, то ли литература. Так же порой характеризуют и русскую мысль. Вроде как-то философствовали, писали что-то, похожее на нормальную философию, но только похожее. И на самом деле к философии в высоком смысле слова это отношения не имеет.
Помещение национальной, не-западной философии в коробочку, отдельную от «настоящей», западной философии, у которой якобы нет национального окраса, – это достаточно общее место, которое позволяет отрицать и китайскую, и индийскую, и исламскую философии, и в том числе русскую. Согласно этому подходу, философия сформировалась в специфической исторической ситуации в конкретном политическом образовании, в античном полисе, и, соответственно, нигде в другом месте она произойти не могла. Наследие античного полиса переходит в Рим, на обломках Рима выстраивает себя европейская цивилизация – ход событий предельно четкий. Следовательно, философия развивалась только в европейской цивилизации, только европейцы умеют правильно философствовать, строго, наукообразно, логично, придерживаясь определенных правил, методов, закрепленных в европейском философском дискурсе. Все, кто в него не включен, хотя бы чисто территориально, под это определение философии не подпадают. Либо же, если незападный мыслитель все же тщится включить себя в философский дискурс, он вынужден принять определенные правила хорошего тона, сформировавшиеся в чуждой ему цивилизации.
Отсюда вытекает следующий момент. Философия порой мыслится в качестве науки со строгими рамками. Она оперирует понятиями, а не образами, ей важны четкость, конкретность, доказуемость. Все, что под эти критерии не подпадает – а русская философия их минует, она зачастую мечется между литературной и околорелигиозной формой, в известном смысле русская мысль антинаучна или сверхнаучна, – не может проходить по регистру философии.
Выходит, что по указанным двум критериям, а именно – европоцентричности и научности, русская философия философией не является.
Третий момент также тесно связан с указанными двумя. Это специфические свойства русской философии, которые чаще всего выделяют ее авторитетные исследователи, такие как наши петербургские корифеи А. Ф. Замалеев и А. А. Ермичев. Во-первых, это иррациональность русской философии, во-вторых, ее литературоцентричность, и, в-третьих, отсутствие социальных институтов.
Пойдем по порядку. Иррациональность. Русская философия вся завязана на критике рационального и рассудочного: одним умом, дескать, всего не выразишь, мысль изреченная есть ложь и проч. и проч. Человек не сводится к своему разуму, у человека есть более широкий набор инструментов для познания действительности: это сердце, эстетическое и нравственное чувства, любовь, чувство братского единения, дружба. Разумеется, вера. Все эти начала человеческого существования должны быть равноположены с разумом, говорит русская мысль. Классическая философия, напротив, полагает, что указанные начала – это, разумеется, замечательно и прекрасно, но они должны быть подчинены разуму. Просвещенный разум – подлинный источник и чувства красоты, и чувства нравственности, и интуиции, и дружбы, и общения между людьми, и, конечно, религиозной веры. Разум является абсолютным законодателем того, как мы понимаем красивое, как мы любим, как определяем нечто в качестве истинного или неистинного, как мы верим. Русская мысль зачинается как протест против так называемого панлогизма, то есть попытки завязать все многообразие человеческой действительности, человеческого бытия на одном лишь разуме. Но в то же время русская философия не жаждет совсем отказаться от разума. В действительности она не столько иррациональна, сколько холистична, она пытается дать образ цельного человека, в составе которого разум занимает лишь справедливо определенное ему место. Чем определенное? Кто выступает в роли верховного судьи? Это уже следующий вопрос, который будет волновать русских философов на протяжении десятилетий.