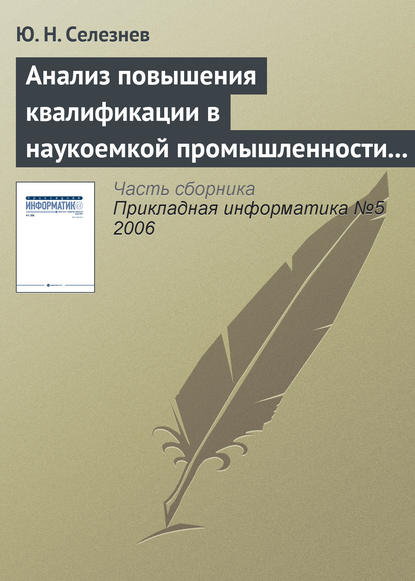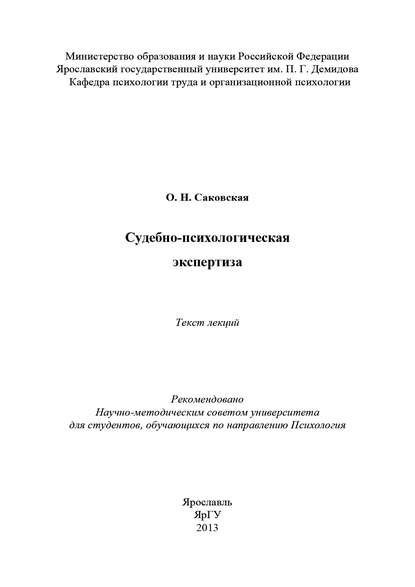- -
- 100%
- +
За честный труд фотография Пидопрыгоры постоянно висела на доске почёта. Его ежегодно по нескольку раз премировали. На собраниях ставили в пример другим. И он на похвалу отвечал титаническим старанием. Куда бы его ни послали, на какую бы работу его не поставили, он безропотно шёл и делал как можно больше, как умел, и столько, сколько позволяли его силы и время.
Однажды Пидопрыгора возвратился с работы в полночь, со второй смены. Морозов уже не было. Но после весеннего холодного дождя и сильного ветра в хлопчатобумажной одежде он сильно продрог. Портянки и лапти его, в которых он трудился, были изношены и промокли насквозь. В общежитии была специальная комната, где рабочие сушили лапти и одежду. В ту ночь почему-то в сушилке было также мокро и сыро, как и на улице.
– Що ж тепер робыты? – затосковал Иван. – Завтра я повынен выходыть на роботу, з першою зминою, – вспоминал он наказ прораба.
– Як же я буду працюваты в такому мокрому одягу? – спрашивал себя честный труженик.
Все спали. Он вспомнил вчерашнюю беседу какого-то агитатора, расхвалившего счастливую зажиточную жизнь рабочих. Он сел на стул, стоявший рядом с его кроватью, поднял голову: перед ним на расстоянии трёх метров висел в тяжёлой раме портрет, исполненный в полный рост маслом. В общежитии это было пятое по счёту изображение нашего вождя, друга, отца и учителя. Пидопрыгора принялся его рассматривать, точно никогда не видел. Затем энергично встал, подошёл к портрету, начал с ним разговор:
– Чоботы то на тоби яки? А костюм – розшытый та розмалёваный. Тобто ты не чоловик, а дивчына. А у нас робитныкив добрых онучив немае. Ты не знаеш, як мы живымо? На, подывысь! – он поднял грязную голую ногу, выругался нецензурно, что бывало с ним очень редко. Под портретом была отопительная батарея. Иван положил на неё свои холодные руки. Батарея была чуточку тёплой. Он быстро пошёл в холодную сушилку, взял лапти и портянки. Лапти он повесил прямо на портрет, а портянки повесил на нижние гвозди, поддерживавшие раму портрета. Не раздеваясь, лёг на койку и натянул на голову солдатское одеяло.
Рано утром его пробудили сильным окриком. Иван вскочил:
– Ты! Что это?! – закричал комендант общежития. Пидопрыгора даже забыл, что он делал в полночь. Только когда ему комендант показал, и он взглянул на портрет, всё вспомнил, быстро подбежал, снял портянки и лапти и недовольно сказал:
– Хай знае, як мы тут жывемо! Мени зараз йты на роботу, що я надину – все мокрэ!
– Чёрт тебя не возьмёт, пойдёшь и в мокром! – комендант рассуждал зло и издевательски.
Неизвестно откуда появился уполномоченный. Он подошёл к Ивану и пренебрежительно объявил:
– Сегодня ты пойдёшь со мною.
– Мени трэба обовъязково буты на роботи, прораб сказав…
– Пойдёшь со мной! Одевайся!
Ничто не помогло и никто не помог – Ивана увезли. До вечера его держали в милицейском участке, а когда на Пидопрыгору из Севастополя получили длинную и узкую бумагу, вызвали «Чёрный Ворон» и увезли. Портянки и лапти его высохли на ногах раньше, чем захлопнули за ним дверь камеры № 17.
Суд над Иваном состоялся до обеда. В течение пяти минут зачитали обвинительное заключение. Свидетелей не было, прокуроров и защитников тоже. За шесть минут опросили Пидопрыгору. Приговор был заготовлен заблаговременно.
– Иван, сколько же тебе дали? – спросил Чечелашвили.
– Висим рокив.
Осуждённый ни на кого не смотрел. Глаза его были обращены в чёрный пол. Говорил он медленно, преодолевая боль и слёзы. Говорил он правду.
«За контрагитацию и пропаганду в рабочем общежитии» его осудили на восемь лет тюремного заключения и пять лет поражения в правах, после отбытия наказания с правом проживания в отделённой местности.
– Иван, расскажи, как всё же проходил суд? – интересовались все его товарищи по камере, переживая с ним бесчеловечную кару. За что и во имя чего этот честный труженик так жестоко был наказан?
– Якый там суд? Ниякого суда нэ було! – говорил Пидопригора без озлобления, но с видимой тревогой и обречённостью в голосе.
Когда он понял, что товарищи действительно интересуются, что их ждёт такая же участь, он изъявил желание рассказать о своём горе. Все его слушали, и никто не перебивал.
– Прывэлы мэнэ в якусь нэвэлычку кимнату. Потим прыйшлы тры чоловика, командыры. Мэнэ заставылы встать. Я встав. Тоди знову посадылы. Потим той, якый сыдив посэрэдыни, довго чытав якусь папэру. Всэ, що вин чытав, дийсна брэхня. Нарешти пытае: «Вызнаеш сэбэ вынным?». «Ни в якому рази», – видповидаю.
На лбу у Ивана выступил пот, глаза часто мигали. В сильном волнении он много раз повторял уже сказанное.
– Тоди той, якый сыдив посэрэдыни й кажэ: «Чому ж ты видмовляешься? Ты образыв нашого вчытэля, нашого вожака». Я не стэрпив: «Пробачтэ мэнэ, тэмну людыну. Я не ображав. Хиба ж такы можна таку вэлику птаху, як Сталин, ображаты? Сталина уси люды шанують. Хиба ж можна йты проты усих людэй?» Тоди пытае крайний: «Нащо ты повисыв онучи та лапти на портрэт?». «Щоб воны там трохы просохлы, – видповидаю и продовжую розмову. – Пид портрэтом була батарэя, вона була трошки тэплэнькою, так я й повисыв». «А що ты казал, коли вишав?». «Пробачтэ, добри люды, – запэкло в грудях и я сказав. – Подывысь, як мы погано жывымо. Онучи посушыть и то нидэ».
Воны почали рыготыть. «Пробачте, – звырнувся я знову. – Вам усмишкы, смиетэся и не знаетэ, що цього вэлыкого чоловика заточылы в Крэмлёвську хортэцю и до людэй не пускають». «Какого великого человека?». «Вы не знаетэ, як жэ вам не соромно! Сталина. Вин, бидолага, нэ знае, як нам, робитныкам, тяжко бувае».
Потим той, якый сыдив посэрэдыни почав чытаты показ свидкив. Я уже и забув, що там воны брэхали. Та й призвыща свидкив якись мэни нэвидоми. Колы воны трошкы порозмолвялы, сэрэдний и каже: «Вам надаеться останне слово». Я довго не миг прызнаты, чому останнэ, алэ потим зрозумив.
В конце своего рассказа Иван Пидопрыгора рассказал о своём обращении к суду. Он просил:
– Уважаемые граждане судьи, я вас очень прошу, пожалуйста, отпустите меня домой. У меня трое детей, старая мать, отца расстреляли махновцы, жена уже третий год болеет и не поднимается с постели. Возможно, я что-нибудь и сказал не так, слишком грубо, но ведь вы же сами видите, что человек я неграмотный и не могу сказать, как люди просвещённые. Извините меня, пожалуйста.
Суд учёл все обстоятельства и просьбы подсудимого и поступил и не по закону, и не по-человечески.
*****
Полищук Никита. Около сорока лет. Бывший политрук команды в тылах. Вёл себя замкнуто. По его словам, он был арестован по доносу своего товарища, увидевшего книгу Бухарина, подложенную под короткую ножку кровати. При обыске из его библиотеки извлекли и брошюру Зиновьева.
*****
Недюжий Ефим. Шестидесятилетний крестьянин. Он родился и большую часть жизни прожил в окраинах города Геническа. В 1930 году был раскулачен. Переехал в Бахчисарай. Работал с семьёй в объединении Симферопольского садвинтреста рабочим. Он был занесён в списки «опасных для советской власти».
За семь лет после раскулачивания, он арестовывался третий раз. Первый раз после ликвидации бухарьевско-зиновьевской оппозиции. Второй – после убийства Кирова, третий раз – в связи с чисткой армии и флота. Этот человек научился молчать и делать всё, что заставят, и, тем не менее, спокойно жить не мог. Судить его не за что было. Он ожидал либо освобождения после завершения кампании чистки, либо по постановлению тройки высылки временной, а, возможно, и постоянной – в отдалённый район страны.
Недюжий рассказал о себе всё. По нарисованному портрету своей жизни, он никогда не был кулаком. Всю жизнь он и его семья жили личным трудом. Но жили культурнее и лучше многих в селе. За это человек и поплатился не только благополучием, но и спокойной жизнью.
*****
Сидоров Яков. Рабочий Морского завода. 49 лет. 33 года проработал в одном цеху. Он был специалистом редкой и высокооплачиваемой специальности. Он уже арестовывался и сидел в тюрьме 15 месяцев по делу 22-х или иначе, как именовали органы, по делу контрреволюционной партии Лойко.
В начале 30-х годов неумелая, без научных расчетов начатая коллективизация сельского хозяйства обернулась голодом не только для крестьян, но и для рабочего класса. В марте 1931 года рабочие Морского завода имени Орджоникидзе несколько дней не получали продуктов питания.
Начальник одного из цехов завода инженер Лойко написал жалобу в горком партии. Сидоров под жалобой собрал 22 подписи. Жалоба носила ультимативный характер: «Если рабочие не будут ежедневно получать хлеб, то он (Лойко) остановит цех».
Через пять дней инженер Лойко был отстранён от руководства цехом, исключён из партии и через два дня был арестован. А спустя три месяца он был и осуждён на три года лишения свободы.
После отбытия тюремного заключения Лойко возвратился в свой цех. Рабочие его встретили с цветами и требовали от руководства заводом восстановить Лойко в прежней должности начальника цеха. Администрация была вынуждена исполнить требования рабочих.
К сожалению, начальник цеха инженер Лойко не прекратил агитации против руководства заводом. Вокруг него начали группироваться такие же недовольные рабочие, как и он. Вскоре, на одном из своих собраний, рабочие постановили: «Предложить администрации завода снять с должности главного инженера завода и на его место поставить инженера Лойко».
Руководство заводом и городом серьёзно встревожилось, и снова пригласили на помощь НКВД. Вторично Лойко осудили на пять лет с высылкой после отбытия срока наказания в отдалённые районы страны.
События 1937 года распространялись не только на армию и флот. Они с такой же жестокостью обрушились и на рабочий класс, крестьянство и интеллигенцию.
Все 21 человек, примыкавшие своими убеждениями к Лойко и подписавшие с ним письмо, были арестованы и рассредоточены по камерам тюрьмы. Сидоров оказался в камере № 17. Организатор составления письма инженер Лойко был возвращён в места заключения и водворён в камеру-одиночку.
В годы самодержавия Сидоров был профессиональным подпольщиком. Принимал активное участие в Февральской и Октябрьской революциях. В первых рядах шёл при провозглашении Советской власти в Крыму. И как можно было судить арестантам по камере, был человеком смелым, решительным и справедливым.
*****
Прошло двенадцать дней, как Химича водворили в семнадцатую камеру. По закону обвинение полагалось предъявить в десятидневный срок. Но почему-то с вызовом зенитчика не торопились. Химич, задумываясь, спрашивал товарищей:
– Почему не вызывают?
– Тысячи арестованных. Не успевают, – высказывал предположение грузин.
– Нет достаточного материала. Собирают по крупицам. Ищут хоть что-нибудь, – рассуждал Крижжановский, не возражая Чечелашвили.
– А я думаю – и то и другое, не исключено и третье. Господа из НКВД позабыли законы. Права то ведь, какие им даны? – это говорил Сидоров. Он, кружась на двухметровом пятачке у самой двери, про себя рассуждал, не обращая внимания на остальных. Неожиданно он остановился, поднял голову и внимательно посмотрел на товарищей.
– Сидел в этой тюрьме в камере одиннадцатой в 1916 году, обвинение предъявили в положенный срок.
– Расскажите, пожалуйста, так было в 1916 году? – кто-то спросил из лежавших на нарах.
– Так никогда не было. Пидопрыгору в шестнадцатом году, если бы он повесил портянки на портрет Николая II, суток бы на пять посадили в карцер, при условии, если бы он был офицером. Но так как Пидопрыгора является гражданином, то пожурили бы. Попробовали бы разъяснить: «Ведь так нельзя! Он – царь-батюшка!».
Высказавшись, Сидоров возобновил топтание на крохотном пятачке у двери. Не поднимая головы, он долго думал и неожиданно снова принялся рассуждать:
– Это только подумать – восемь лет тюрьмы. За что?! – он почти закричал, лицо в судорогах задёргалось. – Да поймите же, Пидопрыгора – неграмотный человек. Для него портрет Сталина и вешалка для шляп мало чем отличаются! Это что же, газеты с портретами нельзя использовать в туалетах, выбрасывать в урны? Ну и порядки… Вероятно, скоро заставят молиться на портреты вождей, – он остановился в глубокой задумчивости, долго качал головой, не обращаясь к товарищам, снова возмутился. – Это особый метод террора. Это особый метод запугивания. Этими путями решили заставить молчать, превратить людей в послушную толпу, в стадо животных!
СВИДЕТЕЛЬ БОГДАНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Когда Малюк и Алёхин получили повестки явиться на Пушкинскую улицу в качестве свидетелей, накануне вечером было проведено внеочередное комсомольское собрание 78 батареи. На собрании в числе других вопросов стоял и вопрос «О сожжении комсомольских дел по приказанию бывшего командира батареи Химича». Сообщение сделал член бюро. В своём выводе он предложил собранию объявить Алёхину выговор за нарушение правил хранения комсомольских документов и завести дубликаты вместо утраченных дел.
Батарейный писарь Богданов в это время нёс караульную службу по охране позиции. Узнав о решении собрания, он немало был удивлён:
– Как же так, – рассуждал писарь, – командир батареи приказывал мне сжечь мусор, собранный в шкафу. Комсомольские дела он не приказывал сжигать. И они не сожжены. Они извлечены из хлама и спрятаны. Почему же меня не опрашивают об этом?
Писарь Богданов правильно мыслил. К тому же, он был не только удивлён, но и оскорблён.
После возвращения из караула в казарму он открыл шкаф, посмотрел в журнал боевых действий батареи. Четыре дела, фигурировавшие на собрании, как утраченные огнём, лежали в журнале на том месте, куда он их положил в авральную субботу.
Но когда Богданов узнал, что Алёхину дали выписку из протокола и политрук её заверил, о том, что он получил выговор от собрания за четыре комсомольских дела, которые были сожжены по приказанию бывшего командира батареи, писарю всё стало понятным. Собирался материал для обвинения бывшего командира батареи.
До службы на флоте Богданов Владимир учился на втором курсе юридического факультета заочно. До этого он окончил школу юристов. Призывался на флот из Министерства юстиции СССР, где он работал свыше двух лет. Отец, мать и дедушка работали там же. Семья, в которой вырос Владимир, была интеллигентной, высоко культурной и безупречной честности.
С семнадцатилетнего возраста Богданов – бессменный руководитель комсомола в Министерстве. Владимир знал комсомольскую работу в совершенстве и любил её.
Когда политруком 78 батареи был ещё Задорожный, Химич просил его рекомендовать собранию комсомола батареи Богданова. Задорожный согласился, однако Ткаченко возразил. Комиссар полка дал указание Задорожному избрать секретарём не служащего, а рабочего. Так была отведена кандидатура опытного комсомольского вожака и всплыла на поверхность кандидатура малограмотного, ленивого безынициативного Алёхина.
Извлекая комсомольские дела из мусора, Богданов ждал, что его спросят, не находил ли он пропавших дел? А Богданов, как человек буквы закона и опытный, честный и аккуратный намеревался спросить: «А кто дал право бросать комсомольские дела в запущенный шкаф? Если есть специальный сейф, где они должны были храниться». К сожалению, подобный разговор не произошёл.
В ближайшее воскресенье Богданову разрешили увольнение в город. Походив два часа на Историческом бульваре, на обратном пути он решил зайти в НКВД. Встретил его дежурный по управлению. Богданов объяснил, кто он и что его привело к ним. Дежурный распорядился провести краснофлотца к начальнику третьего отделения, шефу КУРа старшему лейтенанту Грабченко.
Несмотря на воскресный день, управление работало как в обычные дни. Его сотрудники давно позабыли о существовании выходных дней.
Сопровождавший Богданова помощник дежурного открыл дверь и представил посетителя начальнику отделения Грабченко. Старший лейтенант в это время, развалившись в кресле, дремал. Ворот белого кителя на нём был расстегнут. На его висках ещё не успели высохнуть ручейки пота, бежавшие через скулы к шее. Волосы были всклочены, местами слиплись в колтуны. Глаза были воспалённые и непроизвольно закрывались. Он только что закончил на карусели 32-часовой допрос бывшего командира КУРа Суслова. Начальник отделения, подняв на Богданова красные воспалённые глаза, спросил:
– О Суслове что-нибудь знаешь? – и голова его тот час, подобно подрубленному кочану капусты, свалилась вперёд и набок.
Гость стоял, вытянувшись, думая уже о другом: «Зачем я сюда пришёл?» – однако, не робея, мобилизовал на помощь ясное сознание, что в подобных случаях так важно. Он давно убедил себя – правда должна торжествовать над ложью! Давая себе отчёт, что поступает правильно, смело сказал:
– Товарищ старший лейтенант, согласно процессуальному кодексу, я, как гражданин Советского Союза, обязан помочь следствию, изложив всё известное мне о бывшем командире батареи Химиче.
– О, вундеркинд! Спасибо. Благодарю, – Грабченко собрал оставшиеся силы, встал, шатаясь, взял стоявший у стены стул, подставил его Богданову.
– Садись, – сказал старший лейтенант.
Богданов сел.
Не садясь на прежнее место и не сводя с гостя пытливого взгляда, следователь изменил прежнее решение и пересадил краснофлотца ближе к своему столу. Сам, молча, тоже занял своё место в кресле за столом.
– А о Суслове ничего не знаешь? – вдруг спросил следователь вторично.
Богданов сидел спокойно, сопровождая смелым взглядом все движения Грабченко, смело ответил:
– Нет, я могу сделать показание только о Химиче.
– Молодец. Было бы больше таких как ты. Быстрее расправились бы с этой сволочной дрянью.
Богданов молчал, испытывающе продолжал наблюдать за начальником отделения. Ему казалось, что сидевший перед ним командир сию минуту закончил марафонский бег.
– Ну, давай о Химиче, – сказал следователь, продолжая осматривать гостя как какую-то вещь, понравившуюся на прилавке магазина.
Свидетель не торопился с рассказом, и когда начальник отделения готов был его слушать, спросил:
– Товарищ старший лейтенант, дело Химича ведёте вы или кто-то другой?
– А тебе зачем?! Я начальник отделения, – почти закричал Грабченко. Чёрные лохматые брови его сбежались и низко спустились на глаза. Рот сжался. Левая щека начала подёргиваться.
Богданов встал. И снова попросил разрешения объяснить, зачем он пришёл. Когда получил разрешение, он тихо принялся объяснять:
– Во-первых, вы не должны мне тыкать – мы находимся на службе. Причём в учреждении и не торговом, и не в коммерческом, в учреждении особом, где нормы отношения людей регламентированы законом. Во-вторых, вы должны взять дело Химича, взять бланк опроса свидетеля, занести в него мою фамилию, имя, в общем всё, что требуется в таких случаях, что требует процедура, и записать мои показания, я их подпишу и потороплюсь на батарею, так как срок моего увольнения уже истекает.
Монолог краснофлотца Грабченко терпеливо выслушал. То ли из-за симпатии к гостю, а всего вернее из-за усталости не перебивал его. Наконец, не повышая тона, промолвил:
– Значит, пришёл меня учить?
– Нет, зачем же? Я набрался смелости и напомнил азы уголовно-процессуального права, и вам, как начальнику, и себе, как свидетелю.
– Ты кто будешь?
– Я краснофлотец 78 батареи, батарейный писарь, товарищ старший лейтенант. На батарее веду журнал боевых действий, по профессии – юрист.
Грабченко долго думал, продолжая гипнотизировать стоявшего перед ним добровольного свидетеля. Лицо его постепенно принимало нормальный человеческий облик, успокаиваясь, он спросил:
– Хочешь, дам сигнал, сегодня же оформим, и завтра же приступишь у нас работать?
– Нет, не хочу, – спокойно ответил батарейный писарь, поясняя. – Остался ещё год службы. После демобилизации уеду в Москву на прежнюю работу в Министерство юстиции.
Грабченко недовольно сконфузился. Он понял – перед ним стоял человек грамотный, умный и настойчивый. В душе он его спокойствию, логическому мышлению завидовал.
Неожиданно открылась дверь – в кабинет вошёл тот же помощник дежурного.
– По вашему вызову, помощник оперативного дежурного по управлению прибыл! – доложил сержант.
– Этого друга, кивнул он в сторону стоявшего Богданова, – в предварилку. Пусть ждёт Чепака.
Из дежурной комнаты вели пять дверей. Центральная дверь – служебная, для сотрудников и доставки под конвоем подследственных. Две правых вели в маленькие изолированные комнаты – это предварилки. В эти комнаты закрывались подследственные, доставленные из тюрьмы и казематов и ожидавшие вызова следователями. И две двери – с противоположной стороны: одна вела в большую комнату-ожидалку для свидетелей, вторая – служебная – для конвоиров и суточного наряда.
Никто не может объяснить, почему шеф КУРа распорядился Богданова водворить в предварилку. Вероятно, действия и поступки свидетеля не понравились. Да что ему, этому грубияну-начальнику? Грабченко мог засадить в карцер без вины и родную мать.
НАЧАЛЬНИК ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛЕНИЯ ГРАБЧЕНКО
Старший лейтенант Грабченко Вениамин Маркович, 29 лет. Начал свою карьеру с первого курса артиллерийского училища с должности осведомителя. Вращаясь в курсантской среде, он клеветал и доносил на своих товарищей, все их недовольства и возможные несогласия с бытовавшими порядками. После года службы командиром взвода на береговой батарее был послан на годичные юридические курсы сотрудников НКВД. Окончив их, пятый год работал следователем. В следственной работе показал себя настойчивым вымогателем признаний. За умение выявлять новых «врагов» год назад получил повышение по службе и стал начальником Третьего отделения, шефом Крымского Укреплённого района.
Он был высок, пропорционального телосложения. Чёрные брови и вьющиеся волосы дополняли приятную внешность. Недурные манеры вежливого обращения с дамами делали его обаятельным, располагающим к себе. Женщинам он нравился. На службе он становился совсем другим. Густые и широкие брови его почти всегда были нахмуренными. Карие глаза недовольно и зло сверлили всякого, кто сидел перед ним. Неизвестно от каких причин у него временами сжимались челюсти, искривлялся рот и часто скрипели зубы.
По малейшему недовольству он спускал трёхэтажную нецензурную брань. По пустякам он волю своим рукам не давал. Он бил обречённых методически и так изощрённо, что жертва теряла сознание тот час.
Грабченко был женат. Жена растила дочь. В то лето она с дочерью четвёртый месяц проживала у родителей в Мелитополе. Семейная жизнь супругов Грабченко была непрочной, с глубокими изъянами, хотя и жила в материальном достатке.
Грабченко имели двухкомнатную квартиру, со вкусом обставленную дорогой мебелью. Причиной частых семейных ссор было поведение главы семьи. По любым пустякам он из нежного и любящего мужа и отца превращался в брюзжащего, деспотичного и всем и всеми недовольного человека.
Особенностью следственной практики старшего лейтенанта Грабченко было умение в разговоре с подследственным выявлять, с кем последний дружил, кого обожал, кого ненавидел и почему. За два часа он мог изучить все связи и взаимоотношения подследственного со всеми близкими и далёкими знакомыми ему людьми и родственниками.
В своей следственной практике Грабченко не опирался на улики, нет. Зачем? Да он и не понимал, что значит «уличить виновного в преступлении». Он обычно ссылался на уже якобы сказанное раньше подследственным или кем-то из людей, авторитет которых является безукоризненным. Его любимое изречение: «Вчера (или несколько минут назад) ты говорил так, а теперь уже передумал». Он доставал из ящика своего стола пучок полевого кабеля, собранного, как собирают бельевые верёвки, поднимался всей своей могучей фигурой из-за стола и с бычьей силой опускал на голову и спину сидевшего перед ним подследственного.
Грабченко придумал горбатый стул. Сидение у горбатого стула к середине плавно поднималось, образуя сантиметров в пять-шесть горб. Никто из жертв более пятнадцати-двадцати часов сидеть на таком стуле не мог: терял сознание. Когда подследственный, сидя на горбатом стуле, двигался вправо или влево, чтобы облегчить боль запечатанного гузна, Грабченко неистово орал:
– В карцер захотел? – и снова поднимался и бил тем же жгутом телефонного кабеля.
Грабченко усовершенствовал «карусель», изобретённую московскими следователями. Карусельный допрос был самым страшным и бесчеловечным в следственной практике тех лет. Его суть была в следующем.
Начальник отделения в помощь себе приглашал ещё двух-трёх следователей. Допрашиваемого усаживали на горбатый стул и поочерёдно допрашивали в течение двух-трёх суток без перерыва. При карусельных допросах за портьеры ставили несколько человек рядовых солдат. Когда подследственный терял сознание и падал, рядовые приводили его в чувство, поливали водой и шлёпали по щекам. Когда подследственный, не стерпев обиды, поднимал кулак против следователя, из-за портьеры выскакивали те же рядовые. Они жертве скручивали руки и с высоты груди бросали на пол, от чего подследственный тоже терял сознание.