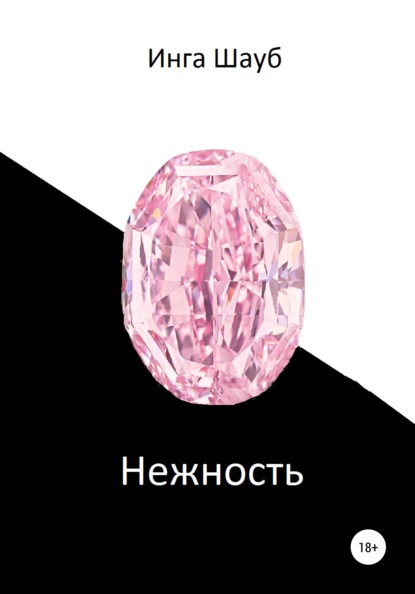- -
- 100%
- +
Панкрат чуть пригубил налитый в расписную глиняную чашку молочный напиток и уже хотел отставить в сторону, но Григорий только хмуро повел бровью:
– Пей до дна, обидишь!
– Цаган, цаган, цаган.., – улыбаясь во весь рот, защебетал старый калмык и что-то резко сказал по-своему старухе.
Та тут же прошмыгнула наружу, злобно сверкнув глазами на гостей, маленькой желтой ладонью плотно задвинувши за собой полог из сшитых между собой хорошо выделанных овчин.
– Дотур! Пей карашо! Дотур кушать надо, дотур! Велел принести.
Григорий, приторно сладко улыбаясь, зачмокал губами и, покачивая головой, стал нахваливать хозяина:
– Эх! Хороший у тебя цаган, Басан! Эх, ну какой же хороший… Давно такого не ел!
– Ай, хороший! – тут же живо подхватил Панкрат.
– Хто мы будем? А… Мы пастухи, хозяин. Да-а-а… Да вот, тут… Из колхоза в слободке, в Воронцовке… Беда у нас! Вот, вчера сорвали волки трехлетку меринка, да и погнали в степь. Ты не встречал, часом… меринка? Гнедой такой меринок, тонконогий, с такой вот узенькой белой отметинкой на лбу? Чулок на передней правой? – Гришка, живо описывая «пропавшего» коня, сделал страдальческое лицо, скис картинно и уже потише продолжал:
– Тут ведь какое дело-то… Не найдем меринка, так под статью загреми-и-м!.. В гэ-пэ-у!! Враз посо-дю-ю-ть! – и отрешенно провел ребром ладони по горлу.
Басан сокрушенно покачал головой с никогда нечесаными космами спутанных седоватых волос:
– А-я-яй! Беда, правда. Волки – плохо, беда! А-я-яй… Тюрьма, однако, плохо, беда-а-а…
Помолчали.
– А как же ты, Басан… Небось то же… волки шкодять-то у тебя? – Григорий, поджавши ноги под себя, уселся поудобнее, принимая из рук порозовевшей молоденькой калмычки дымящуюся чашку с бараньим дотуром, – как вот, к примеру, ты… Спасаешься? Мы вон, – он кивнул на разомлевшего в тепле раскрасневшегося Панкрата, – пробовали из ружья стрельнуть, да и повесить его с под-ветру. Сперва, вроде как и помогало, а потом… Ничего не боится… Режеть, сукин сын овец! Вор!
– Э-э-э, не-е-т! – хитро улыбаясь, погрозил толстым коротким пальцем Басан, – она не вор! Вор, однако, берет чужое… Так? Так… А волк думает, што тут, в степи, она хозяин. Берет свое, думает! Не ворует, просто – то, што степь ему дает, она кушает!
– Ишь ты, – ухмыльнулся Григорий и, нарочито развеселясь, слегка кивнул напарнику:
– А ну, браток, пойди-ка напои коней. По сторонам хорошо погляди… Да доставай там… у меня в правом подсумке… пару бутылок «рыковки». С таким добрым хозяином и погулять не грех!
Едва только Панкрат разбил белую сургучовую пробку, Басан плавно выхватил бутылку из его руки и с торжествующим видом слегка сбрызнул на огонь:
– Цог! Цог! Цог!
-Ты че… фраерок, водяру портишь.., – запнулся было Панкрат, но Григорий тут же прицыкнул:
– Заткнись!.. Это он… Злых духов отгоняеть. Цог, Басан, цог!
– Эх! Хоро-ш-ша, зар-раза! – Панкрат сочно крякнул, поставил стакан, вытер пальцами губы, – ну так што ж, Басан, чем же ты волков-то отваживаешь?
– Э-э-э! – тот лукаво улыбнулся, очень довольный от выпитой водки, -винтовка не-е-т! Ружье не-е-ет! Зачем она? Басхан, однако, есть! Ка-ро-ший есть! Басхан…
– Бас-хан? – переспросил Панкрат. Григорий посерьезнел:
– Собака. Волкодав. Я таких встречал по ихним стойбищам. Добрый собака? Волка береть?
– Ай, как берет! – Басан, простодушно улыбаясь, поставил свой пустой стакан перед Панкратом, красноречиво указав на него глазами-щелками, – ка-ра-шо берет! Волк ночью подходит – Басхан не спит, слышит. Волк хочет овца резать – Басхан не дает! Басхан не трус! Волк это видит! Волк в камыш уходит… Злой, голодный.
– А ежели и не уходит? Ну… Опять полез? – Панкрат, пододвинувшись поближе, изобразил крайний интерес, раскрыв рот и расширив глаза.
– Тогда Басан, моя, говорила Басхану: – Все! Болхо! Иди, Басхан, в степь, иди, болхо! Убей волка! И Басхан на час-другой уходит и убивает волка, однако живая она… уже не… стала!
– А… Покажи нам своего… Басхана, друг ты наш Басан! – Григорий выставил мутные стаканы в рядок, медленно наливая их до половины.
– Ай! Ка-ро-ший! Чох-чох-чох! Ай, нету! Третьево дня ушла она… Волк подкралась… Раскопала тепляк, шибко резала три овцы, а подушилась еще вот, – он показал две растопыренные ладони, – десяток! Скоро придет, однако! Долго не бегает она… Найдет. Убьет, точно будет!
– А если он, к примеру, – Гришка облизнул сухие губы, – на целую стаю наткнется? Они ж ево…
– Э-э-э, не-е-т…, – Басан повернулся к молодице и сунул проснувшемуся ребенку в рот кусочек дотура, ласково улыбаясь и любовно причмокивая губами, – она сама от своей стаи Басхана и… уведет! Хитрая, однако! Поведет-поведет… Далеко поведет! Заманит и кинется! А Басхан… шея она… хрясь! И бросала на снег! Крови нет! Волка нет…
– Ай, да молодец же твой волкодав, Басан!
– Водка наливай… Борцыки кушать будем! Ай! Ка-ро-ший человек… Ма-ла-дец моя Басхан! Отпускала она на час – сплю, однако, спокойно месяц! Водка, водка еще… неси!
Уже в серых морозных сумерках вывели из тепляка обсохших и отдохнувших лошадей, стали седлать. Басан, еще с минуту назад изображавший в дым пьяного человека, слегка умывшись свежим снегом, вдруг преобразился и тихо сказал, глядя сквозь прищур хитрых бегающих глазок в упор в глаза Григорию:
– Те волки, што ты искала, командир, тут… Недалеко и… кошуют, однако.
Гришка, уже занеся было ногу в стремя, опешил, развернулся к нему, с тревогой в голосе только и выдавил:
– Командир? Откуда знаешь?..
Тот помолчал, пристально всматриваясь в белый сумрак степи, опять, озорно улыбнувшись, погрозил толстым коротким пальцем:
– Э-э-э! Басан не обманешь! Басан всяких людей видала… Ты – командир, а не пастух.
– А я из каких? – удивленно спросил Панкрат.
– А ты из таких…– вдруг потупил взгляд Басан, засопел обиженно, – ты серебряная ложка… однако, зачем в сапог положила? А-я-я-я-яй! Эта ложка Басан в Ростове забрала… В двадцатом году забрала, когда с Семеном да Ока… Иваныч и сам Ростов… забрала!
– Панкра-а-ат, – укоризненно покачал головой Григорий, нарочито нараспев выговаривая слова, – ты у кого, дурья башка, ложку спер? У нашего товарища, у красного конника, у буденновца ты ее спер… Нехорошо!
– Ладно-ладно… Ну не знал, не знал, – виновато растопырил ладони Панкрат и аккуратно положил на снег большую потемневшую ложку.
-Ты зла не держи, Басан. Этот парень не только в этом деле мастак, -Григорий примирительно похлопал улыбающегося калмыка по плечу, – ты в Четвертой был, а я, правда твоя, в Шестой дивизии, у Тимохи. И.., – он внимательно всмотрелся в тускнеющую даль, – жди нас вскорости обратно, ежели чего… С гостями жди!
Басан посуровел, разгладил жиденькие, свисающие ниже лица усы, и, повернувшись в степь, махнул рукой на восток:
– Ты нынче… Вдоль берега этого ручья держи. Версты три-четыре будет старая колодец… От того колодец поверни на полуночную луну, однако. Строго туда иди! К утру упрешься в Баруновский аймак! В крайнюю от балки хату он ходит, там учитель, русская женщина живет. Шибко красивая. К ней ходит.
– Кто ходит, Басан?
– А тот, кого ты хочешь… найти, однако! Иди! Только под ноги смотри… Хорошо смотри!
Он отвернулся, махнул рукой на стоящее вдали на склоне одинокое и громадное голое дерево:
– Во-он… Видишь? Там повесила! Она повесила… Вашего товарища повесила! Ге-пе-у повесила! Она просился, шибко плакала… Не слушала, все равно повесила!
Григорий угрюмо поглядел на дерево. Панкрат сухо матюкнулся:
– А што ж ты… Буденновец ты сраный, не отбил его?
– Как отбила? Как?! Их к Басану сотня заходила. Моя старуха… то же… чуть-чуть не повесила!
– Э-ге! А твою старуху-то за што? За красную морду?
Басан подошел поближе, взялся рукой за стремя:
– Моя старуха, – он робко оглянулся, – вас, однако, не любит! Коммунисты… Хурул на Яшкуле закрыли… И их, банду, тоже, однако, не любит! С дивами она знается! Гелюнги и багши к ней приходят! До-о-л-го шепчется! Ворожит, гадает, все видит, все знает! А… Он сказал: скажи мне, старуха, где смерть моя? Где приму свою пулю? А та говорила: и девять дней не пройдет, как и ты сам будешь там, – Басан показал на одинокую шелковицу, раскидисто чернеющую вдалеке не опавшей сухой листвой, – как та собака висеть!
Тронулись. Отдохнувшие за целый день кони живо пошли под ровный белый бугор, покрытый редкими сухими вениками прошлогоднего черного бурьяна. Степь под снегом уже промерзла и гулкий стук копыт по земной тверди радостно полетел вслед за ними. Вскоре по левую руку показалась маленькая круглая луна в тонком ярко-золотом обруче. Где-то не так далеко тоскливо завыл одинокий волк.
– Матерый голосит, – Панкрат наконец нарушил долгое молчание, – не подстава ли часом этот… красный калмык, Григорий Панкратыч?
Тот не оборачиваясь, сухо бросил через плечо:
– Та не-е… Были у нас и еще наводки на эту бабенку… А ты еще р-раз вспомнишь старое!.. По морде дам! На ложку он позарился! Э-эх, босота!..
– А это я ево… классовую сознательность хотел проверить!! – тут же нашелся Панкрат и, пришпорив коня, вырвался вперед.
– И што…, – усмехнувшись, крикнул вслед Григорий, тоже ускоряя бег жеребчика, – проверил?
– А то! Гнида! Куркуль! Пережиток… старово режима! – долетело из белой снежной круговерти сквозь дробный топот копыт.
Как и научил Басан, от старого, почти засыпанного снегом колодца, повернули строго на юг, ориентируясь по компасу. Часу в четвертом мороз придавил покрепче, дорога пошла низиной и снег стал поглубже, кони стали заметно сдавать, выбиваться из сил. Где-то впереди, с подветра, вроде бы забрехали собаки. Всмотревшись в засеревшуюся темень, разглядели под косогором едва различимую кустарниковую поросль.
Спустились пониже, спешились перед занесенным свежим снежком густым диким терновником с редкими приземистыми деревцами маслин.
– Побудь с лошадьми, а я пройдусь, поглядю, што там. Ближе нельзя… Ветер оттуда тянеть, ежели там где-сь кони объявятся, то наши тут же нас и выдадуть. И… ежели к восходу не дам знать – уходи.
– Без тебя, Панкратыч, не уйду.
– Знаю.
Григорий бросил повод Панкрату и растворился в молочном низовом тумане.
По самому дну широкой балки протянулся замерзший ручей, заросший по берегам густыми, едва шуршащими камышами. Через ручей был перекинут едва заметный под снегом мостик из пары широких досок. «Конь никак не пройдеть… Значить, кони ихние тут кошуются…» Вдруг он услыхал близкий дух костра и едва уловимый запах конского пота. Снег, схваченный крепким предутренним морозцем, весело и предательски хрустел под сапогами.
Впереди, на небольшой поляне, над самым берегом, блеснул сквозь заснеженные заросли терновника огонек костра. В его отблеске Григорий рассмотрел привязанную к низенькому деревцу заседланную лошадь, угрюмо склонившую шею, рядом еще одну и человека в тяжелом бараньем кожухе, неподвижно сидящего над самым костром. Казалось, он дремлет.
Григорий внимательно поглядел по сторонам. Ближе уже не подойти, он может услыхать шаги.
Решил обойти вокруг, осмотреться. По своему следу отошел назад, взял по бугру, где снега поменьше, влево. Спускаясь к ручью, наткнулся на хорошо притоптанную конскими копытами тропу. Пригнувшись, пошел на запах костра, тихо, по-кошачьи ступая по мягким и чуть примерзшим, растоптанным яблокам конского навоза.
Сонная, крайняя от костра молодая кобыла испуганно чуть раскатила влажные лиловые глаза и уже отвалила черную губу, оголив ряд ровных желтых зубов. Ее резкий тревожный храп совпал с Гришкиным ударом.
Человек со стоном повалился лицом вниз, прямо в затухающий костерок. Григорий тут же откатил его в сторону и, наваливаясь, развернул лицом к себе, с силой заталкивая тряпошный кляп в сведенный судорогой рот. Перехватил руки, вывернул назад, стянул загодя приготовленной широкой шворкой. Переждал, пока успокоятся лошади, прислонил обмякшее тело с безвольно болтающейся головой спиной к дереву.
На вид ему было лет под сорок и его темное, заросшее недельной щетиной лицо с воспаленными от недосыпа веками, говорило о долгой и тяжкой кочевой жизни. Русые, с обильной сединой, раскосмаченные волосы низко спадали на широкий, в глубоких морщинах лоб. Григорий растер снегом его обвисшие щеки, шею. Врезал ладонью пару раз по щекам. Он дернулся, хрипло застонал, медленно поднял голову, дико озираясь, повел глазами, задвигал плечами, силясь освободить связанные за спиной руки.
– Не старайся, ничево не выйдеть, дядя, – Григорий встал напротив, растопырив ноги и пристально всматриваясь в незнакомца, – у меня супонь крепкая, из яловой кожи. Ты хто такой будешь? – и выдернул кляп.
Тот поднял заблестевшие глаза, облизнул треснувшие губы:
– Дай мне, браток.., снега чуток, пересохло горло…
– А не укусишь? – Григорий зачерпнул пригоршню снега и, едва поднес ее к лицу незнакомца, как тот вдруг резво вскочил на ноги, всем корпусом и головой шибонул Григория в лоб и бросился бежать, шумно ломая грудью сухой мерзлый кустарник.
Григорий отлетел в снег, но, быстро вскочив, догнал его не сразу, свалил ударом ноги, придавил в снег, поднес к горлу нож:
– Молись, с-сука! Последняя минута твоя!.. Кто такой?!! Где твой хозяин, гнида, Киселев где?!
Тот вытаращил белесые глаза, замотал головой, прохрипел:
– Нету!.. Нету… здесь никакого… Киселева! Сдох… Убит твой Киселев… давно…
– Как это… убит? – Григорий, едва переведя дух, внимательно всмотрелся в раскрасневшееся широкое лицо беглеца, – а… кого ж ты… стережешь-то?
Тот усмехнулся в мокрые усы, поднялся, сел, сдувая иней с мокрых усов, его круглые глаза живо блеснули:
– Это ты, товарищ… ге-пе-ушник, стережешь… меня в данный момент. А я…
Он дернул плечом, опустил голову, сказал сухо:
– Ладно, слово офицера. Твоя взяла! Веди обратно! Пришел ты… зачем? А впрочем…
Когда он сел снова на свое место, прислонившись к дереву, коротко спросил:
– Который теперь час? На свои котлы не могу я… дотянуться.
– Без четверти пять… утра. Как урка ты выражаешься, а еще офицер.
Пленник поднял широкий подбородок, вздохнул глубоко, устало прикрыл глаза, его темное щербатое лицо вдруг расплылось в кислой улыбке:
– А я и есть урка. А теперь… Все! А как же все… Прекрасно начиналось! А? В Семеновском полку служил! Блестящие молодые офицеры… Дамы с милыми и такими манящими улыбками… Вечера… Беседки на прудах… Интриги, интриги… А потом… Эта проклятая война. С Баратовым ходил… А потом – Даешь Учредительное собрание! Ур-ра!! Свобода!!! И вот – пес, лакей! «Где твой хозяин»! Да я самого… Думенко! Гнал через Маныч! Да я… Буденного… Я…
– Хорош трепаться! – грубо перебил густо покрасневший Григорий, – ты мне дело говори, коли еще пожить охота.
– А вот жить-то мне, товарищ Эн-Ка-Вэ-Дэ…, как раз и неохота. Совсем. Ни капельки. Все! – он повернул спокойное лицо, посерьезнел, – он ровно в пять появится. Будет через этот мостик идти. Там оглобля поперек лежит, это знак, убрать надо, а то вспугнешь.
– Один?
– Один, он же от крали своей. Он еще… крикнет слово парольное…
– Какое слово?
– Спросит: Распекай! На месте? Это я… Распекай. Да! Я… Не представился, прошу прощения, это ведь было несколько… неудобно-с, – он совсем по-штабному, даже как-то картинно склонил голову:
– Штабс-капитан его Величества Семеновского полка Распекаев! Прошу лю…
– Дальше! – злобно рыкнул Гришка.
– А я должен ответить: – На месте, да замерз как собака! И тогда он пройдет дальше… Через мостик. К нам то есть.
– Понятно, – Григорий поднялся, тревожно всматриваясь через ручей, там, на той стороне, в темени опять затявкала собачонка, – так а… Кого ждем-то? Киселева?
– Ну… какого Киселева? – уже громче вскрикнул Распекаев, – я ж говорю… его уже года три, как ваши же и застрелили. В Астрахани!
-У нас он пока проходит, как живой и здоровый. Это точно?
– Совершенно точно, совершенно… Я сам его и закапывал. Вот этими, – он хотел поднять стянутые за спиной кисти, повел плечами и криво усмехнулся, – руками. Ну, а теперь отрядом заправляет такой… Сеня Романцов. В германскую урядником служил. Оглоблю ты… убери. Скоро будет. Вспугнешь.
– Ваша банда за последние три года столько… нашкодила! – Григорий, скоро вернувшись от мостка, последнее слово выдавил с нескрываемой злобой и отвернулся.
– Эх… А вы? За все держать ответ перед Господом…
– Ну… вы сперва тут за все ответите… Милиционера на днях, на стойбище калмыка Басана – этот Сенька Романцов повесил?
– Так точно.
– Ладно, по тебе разговор особый будет. Попробую чем-то помочь, ежели што… Но и ты…
– А не надо мне милостей от твоей Совдепии, начальник. Устал я, хватит. Весь в человеческой крови, как палач… Никто и нигде меня не ждет… уже. Но… Тебе, начальник… Я помогу. Мне самому этот… урядник… Сколько унижений, боже мой… Револьвер дашь? С одним патроном? Потом?
– Дам. Тихо!.. Идет вроде!
Скупая зимняя зорька несмело засерела по белой низине, но тут же косматые клочья тяжелого тумана стали быстро заволакивать сухие заросли камыша и дикого терновника. Костерок уже погас и только малая искорка все еще слабо тлела где-то в его глубине.
Где-то недалеко гулко расхохоталась ночная птица. Застоявшаяся вороная кобыла Романцова, почуяв приближение хозяина, приветливо и мирно заржала, кивая гривастой заиндевелой головой и нетерпеливо переминаясь на тонких передних ногах.
– Эх! Хороша! – Гришка блеснувшим краем глаза провел по ее округлой шее.
Он сбросил тяжелый кожух, оставшись в одной гимнастерке, и затаился за широкой фигурой Распекаева, вынул и поставил на взвод револьвер, но нож все же приставил к сонной артерии на темной шее штабс-капитана:
– Ты, брат… Не дури только… Мне он живой нужон!
– Слово офицера, сказал.
Романцов в громадной лисьей шапке, насвистывая похабную окопную песенку, быстро шел по качающемуся заиндевелому мостку. На нем поверх черного кожуха был только маузер в громадной деревянной кобуре. В руке он нес какой-то узел.
– Распека-а-ай! Ч-черт тебя подери! Темень-то к-какая!.. А? П-п-римерз, штабс-кап-питан? – злобно крикнул он, едва выйдя на берег, – иди, дурилка, баул у меня… возьми…
– Да… на месте я… Замерз, как собака…
Едва он медленно поднялся на скользкий заснеженный берег, как Григорий одним прыжком сбил Романцова с ног и, навалившись, ловко вывернул его руки за спину, привычно стягивая запястья узкой сыромятной петлей. Урядник, разя самогоном, почти не сопротивлялся, только злобно ругался и мычал что-то бессвязное.
– Пьяный, как собака, – Григорий наконец выпрямился на его спине, перевел дух, оглянулся.
Штабс-капитан сидел под тем же деревом и заразительно хохотал, задыхаясь и скаля ровные ряды крупных белых зубов. Заношенная солдатская папаха свалилась с его головы, обнажая трясущиеся седые космы давно немытых волос:
– Ну, театр! Ну, не могу…
Григорий молча отстегнул кобуру с «Маузером», перевернул Романцова на спину и теперь уже вблизи разглядел его, осветив оскалившееся от злобы его лицо карманным фонариком. Тот по-видимому наконец понял, что попал в руки милиции и его еще довольно молодое лицо исказила судорога.
– Лежи и не дергайся, собака!
Григорий быстро отвязал лошадей, ласково потрепав за гриву покрытую легким инеем романцовскую кобылу, приторочил к ее седлу повод крупного дончака Распекаева, рывком поднял на ноги урядника, встряхнул его, стволом револьвера показал штабс-капитану подойти, а когда тот подошел, связал их обеих одной веревкой и, встав с лошадьми позади своих пленников, медленно повел весь караван в гору.
Солнце уже лениво поднималось над белой холодной равниной. Длинные розовые тени от лошадей и всадников, колыхаясь, спешили за ними. На первом привале, перед старым колодцем, когда кони жадно хватали мягкими черными губами снег, едва Панкрат послабил подпругу на своем жеребце, Распекаев усмехнулся и, покачав головой, сказал тихо:
– А может, еще и поспать завалимся, господа? Банда-то уже небось, на хвосте висит…
– Господа в Парыже, дурак… Што, ваши так шибко любят своево пахана? – сощурился Панкрат.
– Не зна-аю, – штабс-капитан нарочито зевнул и заулыбался чистой и какой-то детской улыбкой, – но у вас в Гэ-Пэ-У любой язык развяжут, а им это надо?
При этом Романцов, висящий поперек седла, дико вращая глазами, истошно мычал, силясь вытолкнуть кляп изо рта.
– Эх, напоить бы коней… Да перебиться некогда! – Григорий, о чем-то быстро размышляя, зорко всматривался в окрестности.
– Может, пойдем по бугру? – Панкрат хмуро кивнул на голый, выметенный от снега темный верхняк, черной полоской уходящий в мутный степной горизонт, – там и следов не будет?
– Вот на бугре они нас как раз и запопашуть… Низом пойдем, по молодой осоке, по отмелям, где волк ходить… Тут часа два до Басанова стойла.
– Развязал бы ты мне руки, начальник, – Распекаев чуть усмехнулся, – неохота вот так-то… Арестантом помирать…
– Как неохота тебе помирать, штабс-капитан? Врагом своево народа? – Григорий, продолжая тревожно осматриваться, вдруг глубоко заглянул в прищуренные глаза штабс-капитана. Тот смолчал, скрипнув зубами.
Когда впереди мелькнули промеж заснеженных оврагов серые камышовые крыши Басановских тепляков и терпко потянуло горелым кизяком, Григорий вдруг поднял руку, спешился с разгоряченной кобылы, достал из приторочки кожаную командирскую планшетку и, раскрыв ее, что-то скоро написал на листке карандашом, свернул вчетверо и протянул Панкрату:
– Давай мимо стойбища, по балкам, как мы сюда шли… Поспешай, слышишь? К полудню ты, брат, непременно должон быть в Воронцовке, у товарища… Шинкаренки. Донесение ему лично в руки, понял? И смотри мне… На тебя, Панкратка, вся моя надежда!
– Во внутрях крутит! Хучь бы… этово… ду-дура ихнево дал… малость погрызть, – обиженно протянул тот.
– Еще погрызем… А ежели там они… уже? И теперь поглядывають на нас через пулеметный целик, как хохол на сало? – Григорий тревожно через полевой бинокль всматривался в сторону стойбища, – увидять, што один конный оторвался – все равно пустятся в погоню! Не упустять! Да и… Себя выдадуть! Потому мы туточки минуток десять постоим. А ты скачи. Во весь рост скачи! Давай, друг! Скажи товарищу Шинкаренке, што б все в точности сполнил, как я ему и прописал!
Панкрат бережно спрятал на груди бумагу и, пригнувшись к луке седла, с места пустился крупным наметом, охватывая Басановское стойло слева, по широкому бугру, правясь в подходящую к нему с запада старую широкую балку. Вскоре он пропал из виду.
Григорий еще раз всмотрелся в темное осунувшееся лицо Распекаева. Молча подошел, полоснул ножом по веревке:
– Ладно, чего уж там… Фору тебе даю, штабс-капитан. Мирную жизнь начать можешь. С завтрашнево дня, правда.
– Что же так, начальник? Я, может быть, прямо сейчас и желаю-с…, – тот разминал затекшие руки.
– Прямо сейчас не получится. Трогаем, вроде бы никого на стойбище нет.
– Эй, Басан – личный друг товарища Буденного! Гляди-ка, кого мы тебе доставили! – Григорий, не спешиваясь, нарочито весело и громко прокричал вовнутрь кибитки, чуть отодвинув полог.
Басан в одной заношенной гимнастерке выкатился на своих коротких ногах и тут же, увидя связанного Романцова, в ужасе обхватив голову руками, свалился на колени, косноязычно запричитал, раскачиваясь и зажмурив глаза:
– О, боги, боги! О, могучий Бурха-а-ан!.. Ой, что наделал вам Басан!!! Чем прогневи-и-ил… Ой, за что вы ево наказали-и-и!.. Прок-ля-ли-и-и… Бедный, бедный Басан…
– А ну!! Хорош тужить, Басан! – Григорий уже соскочил с кобылы и рывком поднял трясущегося от ужаса калмыка с земли, встряхнул его хорошенько и, развернув лицом к себе, прямо в лицо прошипел:
– Пр-р-и-казываю… прекратить! Отставить… причитать, боец!
Теперь Басан уже сидел на пороге кибитки и с опаской поглядывая на то же спешившегося Распекаева, шептал Григорию почти в ухо, от чрезмерного волнения все еще всхлипывая и брызжа слюной: