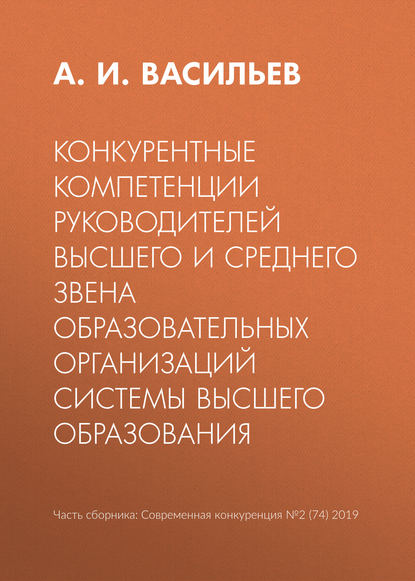Исторический детектив

- -
- 100%
- +
Матросы за столом напряглись, готовые вскочить. Но Жемчужина остановила их движением руки. Её удивление было неподдельным. Этот человек знал слишком много.
– Вы из полиции? – спросила она прямо.
– Я служу истине, сударыня. А она, как известно, редко носит мундир, – уклончиво ответил Лыков. – Князь Мещерский был вашим деловым партнёром. Он помогал вам сбывать контрабандный товар, используя своё положение при дворе. Но он решил присвоить себе нечто ценное. Не деньги. А эту фигурку. Почему она так важна? Что в ней?
Жемчужина молчала с минуту, решая, что делать с этим странным гостем. Убить его было проще всего, но что-то подсказывало ей, что это лишь усугубит её положение. Наконец, она медленно опустила пистолет.
– Вы смелы, сударь поэт. «Или безумны», – сказала она. – Эта фигурка – ключ. В ней, – она постучала ногтем по крошечной палубе, – спрятана карта. Карта тайных фарватеров и мелей Финского залива, которые не нанесены ни на одни лоции Адмиралтейства. Тот, кто владеет этой картой, владеет всей контрабандой на Балтике. Князь решил продать её нашим конкурентам. Мы лишь вернули своё.
– И оставили его в живых, лишив рассудка от страха, – закончил Лыков. – Благородно. Но теперь за вами охотится не только полиция, но и те самые конкуренты, которым князь пообещал карту.
В этот самый момент снаружи, со стороны переулка, раздался пронзительный свист, а затем – крики и звуки борьбы. Один из матросов бросился к заколоченному окну и, посмотрев в щель, обернулся с побелевшим лицом.
– Капитан! Это люди Штыря! Они окружили дом!
Жемчужина выругалась так, как умеют только портовые капитаны. Штырь был её главным и самым безжалостным конкурентом. Он не стал бы ждать, пока князь продаст ему карту. Он пришёл, чтобы забрать её силой.
– Поэт, – она резко повернулась к Лыкову, и в её глазах уже не было холода, а горел боевой огонь. – Похоже, ваша баллада только что обрела весьма драматичный сюжет. Умеете стрелять?
– Стрелять доводилось, – спокойно ответил Лыков, принимая из рук одного из матросов тяжёлый, пахнущий порохом пистолет. – Но предпочитаю слово, оно ранит глубже.
– Сегодня пригодятся оба навыка, – бросила Жемчужина. – Борис, Фёдор, баррикадируйте дверь! И погасите фонарь, нечего делать из нас мишени!
Подвал погрузился в полумрак, едва разгоняемый тусклым светом, что пробивался сквозь щели в ставнях. Снаружи доносились брань и команда Штыря: «Брать живьём! Мне нужна девка и то, что у неё!». Раздался оглушительный треск – нападавшие пытались выломать дверь.
– Через подвал не уйти, там только один выход, и он уже перекрыт, – быстро оценила обстановку Жемчужина. – Есть путь наверх, на чердак, а оттуда по крышам можно добраться до соседнего двора. Но придётся прорываться через первый этаж. Там двое моих людей, но люди Штыря уже, должно быть, лезут в окна.
– Тогда не будем медлить, – сказал Лыков. – Ведите, капитан.
Они бросились к лестнице, ведущей наверх. В этот момент дверь подвала с оглушительным треском слетела с петель. В проёме показались две тени. Раздались два выстрела – один от Жемчужины, другой от Лыкова. Один из нападавших рухнул на пол, второй отступил, укрывшись за косяком.
– Вперёд! – крикнула Жемчужина, и они взбежали по скрипучей лестнице в коридор первого этажа. Здесь уже кипел бой. Двое её матросов отчаянно отбивались ножами и баграми от трёх головорезов Штыря, пытавшихся прорваться в дом.
Появление Лыкова и Жемчужины с пистолетами на миг изменило расстановку сил. Ещё один из людей Штыря был ранен, и нападавшие отхлынули к выходу. Казалось, появилась короткая передышка.
И тут произошло немыслимое. Борис, один из самых верных матросов Жемчужины, тот, что баррикадировал дверь в подвале, внезапно развернулся и ударил своего товарища Фёдора рукоятью ножа в висок. Фёдор без звука осел на пол. Прежде чем Жемчужина или Лыков успели среагировать, предатель бросился к ней.
– Прости, капитан. Штырь платит больше, – прохрипел он, пытаясь вырвать у неё из рук фигурку корабля.
Лыков, не раздумывая, ударил Бориса стволом пистолета по затылку. Матрос обмяк и рухнул к ногам ошеломлённой Жемчужины. Она смотрела на своего поверженного человека, и в её глазах читались боль и ярость.
– Предательство… «Вот чего я не учла», – прошептала она.
– У вас будет время наказать его позже, – жёстко сказал Лыков, хватая её за руку. – Сейчас нужно уходить! Они снова лезут!
Действительно, люди Штыря, воспользовавшись суматохой, снова ринулись в атаку. Путь к чердаку был отрезан. Оставался только один выход – чёрный ход, ведущий во внутренний двор-колодец. Лыков потащил Жемчужину за собой. Они выскочили во двор за мгновение до того, как головорезы ворвались в коридор.
Двор был сырым и тёмным, как дно бутылки. Высокие стены сходились где-то в вышине, оставляя лишь клочок серого неба. И там, у противоположной стены, перекрывая единственный выход в переулок, стоял он. Высокий, тощий мужчина в длинном сюртуке, с лицом, испещрённым оспой. Штырь. В руках он держал пистолет, небрежно направленный в их сторону.
– Какая встреча, Жемчужина, – проскрипел он. – Отдашь мне игрушку по-хорошему? Или твой новый друг-аристократ хочет умереть первым?
Штырь усмехнулся, видя, что его противники оказались в ловушке. Он наслаждался моментом, предвкушая победу. Жемчужина крепче сжала в руке фигурку корабля, её лицо было бледным, но решительным.
– Никогда, Штырь, – процедила она. – Ты получишь её только через мой труп.
– Что ж, это можно устроить, – проскрипел злодей, медленно поднимая пистолет.
Но Лыков, стоявший чуть позади Жемчужины, не выглядел испуганным. Напротив, он был спокоен, как на светском рауте. Он сделал едва заметный шаг в сторону, привлекая внимание Штыря к себе.
– Прежде чем вы наделаете глупостей, сударь, – начал Лыков своим ровным, хорошо поставленным голосом, – позвольте задать вам один вопрос. Вы ведь не думаете, что я пришёл в такое опасное место один и без всякой подстраховки?
Штырь нахмурился. – Что ты несёшь, щеголь? Какая подстраховка?
– Та, что сейчас наблюдает за вами с крыш этого двора, – с лёгкой улыбкой произнёс Лыков и громко, но не крича, добавил: – Господа, полагаю, представление окончено. Будьте любезны.
В тот же миг на крышах, окружавших двор-колодец, появились тёмные силуэты. Человек десять, не меньше. Это были не бандиты и не матросы. Их выправка и слаженные движения выдавали в них людей военных или полицейских. Солнечный блик сверкнул на винтовочном стволе.
– Окружены, Штырь, – раздался сверху громкий, властный голос. – Бросай оружие! Это Третье отделение!
Лицо Штыря исказилось от ярости и изумления. Он был пойман в ту же ловушку, в которую только что загнал своих врагов. Он перевёл взгляд с крыш на Лыкова, в глазах которого плясали насмешливые искорки.
– Ты… ты легавый! – прошипел он.
– Я служу Отечеству, – поправил его Лыков. – И вы, сударь, вместе со своими людьми, только что оказали мне неоценимую услугу, собравшись все в одном месте. Мы давно охотились за вашей бандой. Благодарю за содействие.
Поняв, что всё потеряно, Штырь издал звериный рык. Вместо того чтобы сдаться, он сделал отчаянный шаг: схватил Жемчужину, приставив пистолет к её виску.
– Не подходить! – заорал он, пятясь к арке, ведущей в переулок. – Убью её! Дайте уйти!
Жемчужина не сопротивлялась, но её глаза метнули в Лыкова молнию. Она не знала, что её больше злило: то, что её используют как живой щит, или то, что её «спаситель» оказался агентом тайной полиции.
Лыков не двинулся с места. Он лишь покачал головой.
– Глупо, Штырь. Очень глупо.
В тот момент, когда бандит почти достиг спасительной арки, из темноты переулка выступила ещё одна фигура. Это был тот самый одноглазый старик из трактира. Но сейчас в его руках была не трубка, а тяжёлая дубовая палка. С неожиданной для его возраста ловкостью он с размаху ударил Штыря по ногам. Злодей потерял равновесие, пистолет выстрелил в воздух, и он рухнул на брусчатку, увлекая за собой Жемчужину.
В ту же секунду агенты Третьего отделения, словно кошки, спрыгнули с невысоких крыш сараев во двор. Через мгновение Штырь и его банда были схвачены и обезврежены.
Лыков подошёл к поднимающейся с земли Жемчужине и помог ей встать.
– Вы в порядке, капитан?
Она вырвала у него руку и отступила на шаг, глядя на него с недоверием и гневом.
– Вы… вы всё это время играли со мной. Использовали меня как приманку.
– Вовсе нет, сударыня, – мягко возразил Лыков. – Я действительно искал истину. И нашёл её. А мои люди просто следовали за мной на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Что, как вы видите, и произошло. – Он кивнул на старика, который с невозмутимым видом снова раскуривал свою трубку. – Позвольте представить. Мой верный помощник, Ефим.
Жемчужина молчала, переводя взгляд с Лыкова на своих схваченных матросов, на предателя Бориса, на поверженного Штыря. Её мир, который она с таким трудом выстроила, рушился на глазах. Она крепко сжимала в руке фигурку корабля – всё, что у неё осталось.
Во дворе быстро навели порядок. Агенты Третьего отделения, работая без шума и суеты, уводили схваченных бандитов. Штыря, злобно рычавшего проклятия, и бледного предателя Бориса увели первыми. Матросов Жемчужины, растерянных и понурых, собрали отдельно.
Лыков подошёл к Жемчужине, которая так и стояла, прислонившись к холодной стене. Она больше не смотрела на него с гневом, в её взгляде читалась лишь усталость и горькое смирение.
– Что теперь будет со мной и моими людьми? – тихо спросила она, не поднимая глаз. – Нас ждёт каторга?
Лыков помолчал, глядя на её тонкий, но несгибаемый профиль. Затем он протянул руку.
– Сударыня, могу я взглянуть?
Она с колебанием вложила в его ладонь драгоценную фигурку «Чёрного Нептуна». Лыков внимательно осмотрел её, нашёл потайную защёлку и открыл крошечный тайник. Внутри действительно лежал туго свёрнутый клочок промасленной бумаги – карта.
– Эта карта, – произнёс он, – принесла много бед. Но она же может принести и пользу. Государству нужны верные капитаны, знающие тайные фарватеры Балтики. Особенно те, кто не боится рисковать.
Жемчужина подняла на него удивлённый взгляд.
– Что вы хотите сказать?
– Я хочу сказать, капитан, что ваше дело будет рассмотрено с особым вниманием, – Лыков аккуратно закрыл тайник и вернул ей фигурку. – Вы вернули то, что было украдено у вас, и не пролили крови князя. Вы помогли, пусть и невольно, обезвредить опасную банду Штыря. Ваши люди защищали свой дом. А что до контрабанды… Полагаю, многие ваши «товары» были не более чем французским вином и голландским табаком, которые при дворе и так пьют и курят, не платя пошлин. Я составлю рапорт. И в нём будет сказано, что капитан «Чёрного Нептуна» оказал неоценимую услугу Третьему отделению. Думаю, вам предложат выбор: либо суд, либо служба Короне. На тех же самых фарватерах, но уже под другим флагом.
На её лице впервые за долгое время отразилось что-то похожее на надежду.
– Но почему? Зачем вы это делаете?
Лыков позволил себе лёгкую, почти меланхоличную улыбку.
– Потому что я служу не только букве закона, но и его духу. А дух его – в справедливости. К тому же, – он понизил голос, – негоже России терять таких капитанов, как вы. Отправляйтесь, сударыня. Ефим проводит вас и ваших людей до порта. Будьте на своём корабле и ждите вестей. И постарайтесь больше не попадать в такие переплёты.
Он кивнул своему помощнику. Старик Ефим, докурив трубку, молча указал Жемчужине и её команде путь. Она бросила на Лыкова последний, долгий, полный невысказанных слов взгляд, затем развернулась и, высоко подняв голову, пошла прочь из этого проклятого двора.
Аристарх Петрович Лыков остался один посреди опустевшего двора. Он достал из кармана свою записную книжку, вырвал лист, где было записано имя «Жемчужина», скомкал его и бросил в грязную лужу. Дело было закрыто. Но он знал, что ещё долго будет вспоминать эту дерзкую женщину-капитана и её маленький корабль, ключ к тайнам Балтийского моря. Петербургский ветер донёс с Невы крик чайки, и поэт-сыщик, поправив свой потрёпанный армяк, неспешно побрёл прочь, навстречу новым тайнам и новым стихам.
«Третье отделение души» или «Стихами по Империи»
ГЛАВА I. Где тонко – там бумага
Санкт-Петербург. Январь, 1837.
Аристарх Петрович Лыков родился – как позже с горькой насмешкой говорил о себе он сам – не отца ради, не матери на благо, а исключительно для служебного положения шестого класса и возможности один раз в месяц пить дешёвое бордо под Пушкина.
Официально он занимал должность чиновника по особым поручениям при Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии, что звучало грозно и даже несколько похоронно. Неофициально – был чем-то вроде одушевлённой перьевой ручки, которую втыкали в бумагу, где требовался «разоблачительный, но изящный слог».
Аристарх жил на Малой Мещанской, в квартире, где печь пыхтела, как больной жандарм на допросе, а стены пахли сургучом, рыбьим жиром и канцелярским мраком. У него был цилиндр, в котором он выглядел как загнанный клоп с претензией на франта. И был поэтический сборник – один. Самиздат. Тринадцать экземпляров. Один сожжён хозяйкой («в нём, барин, точно про революцию»), один украден старым приятелем («не хуже Батюшкова»), остальные пылились в ящике с носками.
Каждое утро он надевал чистый вицмундир и готовился к службе, как иной – к повешению. И всё же делал это с грацией человека, который, в сущности, давно уже не в себе.
– Служить – значит прикинуться шляпой, – говаривал он, поправляя пенсне. – Чтобы тебя носили, не зная зачем.
Тем утром его вызвали срочно. Курьер ввалился в три утра, пахнущий морозом и цыганскими духами, с запиской от самого генерала Х-вича. Без титулов. Без оборотов. Лишь: «Прибыть немедленно. Дело тонкое. Не болтайте.»
Аристарх надел самый невразумительный галстук и пошёл – подозревая, что раз «дело тонкое», то пахнет оно, скорее всего, туалетной бумагой и высокопоставленным идиотом.
ГЛАВА II. Где бумага – там и слово
Кабинет генерала Х-вича был оформлен, как будто в нём не мысли рождаются, а ломаются судьбы. На стене висел портрет Государя, грозный, как отчёт по ревизии. На полке – три тома допросов по делу декабристов, украшенные золотым тиснением и унынием.
Генерал, человек с лицом римской статуи, у которой украли нос, встал, когда Лыков вошёл, и тяжело опустился обратно.
– Аристарх Петрович… – протянул он так, словно вызвал не чиновника, а святого с кафедры. – У нас… поэт.
Лыков застыл.
– Позвольте… что у нас?
– Поэт. Крамольный. В высших кругах. Весь город перешёптывается. Стихи. Эпиграммы. Про самого…
Он замолк, покосился на портрет. Аристарх, следуя по траектории взгляда, почтительно вздохнул:
– Святотатство?
– Почти. Глумление! Вот, смотрите…
Он подал листок.
На нём было размашисто, с ошибками, написано:
Сидит он, как идол, во славе и злате,
Но уши – как лапти, и нос – на закате.
Он мыслит указом, он дышит казной,
А жалует грамотой – в ад, с головой.
Аристарх изучил почерк, бумагу, чернила – не глядя, на нюх, как пёс, выученный по университетской части.
– Глупо. Но не без ритма. – Он фыркнул. – Про Господина-Императора?
Генерал зашипел, как кот на святую воду:
– Не смейте! Мы не допускаем даже мысли! Возможно, имеется в виду какой-то… чиновник… с большим носом…
– Ага. Возможно. Или, быть может, просто глупец, осмелившийся рифмовать «злато» и «лапти».
– Вы должны выяснить. Деликатно. Без шума. Без трупов. Но с результатом. Мне – имя. Его – в Сибирь. А вам – благодарность.
Аристарх поклонился. До нужной отметки. Ниже – унижение, выше – подозрение.
– А есть догадки?
– Э… говорят, ходит по рукам у графини Кокошкиной, и упоминал её стишок князь Щепелев, хотя теперь отпирается. Начните с него. Он пустослов, но, словом, пахнет.
Лыков спрятал бумагу и, прощаясь, сказал:
– Генерал, боюсь, вы поручаете мне не расследование, а экзегетику.
– Что это?
– Толкование Священного писания. Только в данном случае – не Священного и не писания.
И, надев нелепый цилиндр, он направился к первому подозреваемому.
Глава III. Где начинается крамола – там обычно заканчивается вкус
Санкт-Петербург, февраль 1837 года
(месяц спустя после неожиданной смерти поэта, которую следовало бы считать дуэлью, если бы не было выгоднее признать – случайностью)
Аристарх Петрович Лыков сидел в тени красного сукна, натянутого на стол допросов, как паук в заснеженном чулане. Он разминал пальцами чернильницу – не от нервов, от скуки. Перед ним ёжился князь Всеволод Аркадьевич Щепелев – фигура светская, узкая в плечах, широкая в самоуверенности, как дверной косяк у плохо построенного особняка.
– Итак, князь, – сухо начал Лыков, не глядя на собеседника, а устремив взор в потолок, словно там был намётан след истины, – вы утверждаете, что не имеете никакого отношения к распространению этого, – он вытащил из кармана листок тонкой бумаги и развернул его, – безобразного, пошлого, бездарного, а главное – крамольного творения.
Князь изобразил нечто среднее между фырканьем и обмороком:
– Я? Эпиграммы?! Государь с рылом в севрюжий хрен? Я… я пишу исключительно акростихи!
– Ах, акростихи, – устало протянул Лыков, наконец-то переводя взор на обвиняемого. – Поэзия для тех, кому бог дал алфавит, но не вдохновение. И всё же… Стилистически, если отбросить слабую рифму, неумелую аллюзию и идиотское сравнение, вы – вполне могли быть автором.
Он встал, прошёлся к окну, глянул на серый, как отвар из капустных листьев, петербургский день и добавил, как бы между прочим:
– Чернила на листке – дешёвый дубильный экстракт, привозимый из Лифляндии. Бумага – из типографии Бергмана, где вы, как мне известно, печатаете свои визитки. Почерк – кокетливо-кривоватый, с завитушками, как ваша причёска. Прямых улик, как видите, у меня нет. Только стиль, запах и чувство мерзости.
Князь заморгал. Закивал. Потом вдруг выпрямился, как гвоздь, забывшийся в матраце:
– Это – зависть! Мои эпиграммы читают в лучших салонах столицы! И потом – вы же не можете доказать…
– Вот и славно, – перебил его Лыков, улыбаясь так, как улыбается аптека при виде больного: холодно и с коммерческим интересом. – Потому что докажу – вас повесят. А если не докажу – вы сами повеситесь от ужаса. Но, возможно, всё решится иначе…
Он резко повернулся, свернул эпиграмму обратно, словно засунул змею в карман, и сел за стол, уронив голову на руку. Голос его стал вкрадчивым:
– Скажите, князь… а кто, по-вашему, действительно написал это? Кто мог бы мстить в стихах, но не в дуэлях? Кто был бы достаточно глуп, чтобы думать, что сатира – это шпагой, но по бумаге?
Молчание.
Князь шумно сглотнул.
– Возможно… м-м… графиня Кокошкина? У неё… острый язык и, простите, скучное замужество.
– О, браво! – Лыков хлопнул в ладоши. – Перекинуть вину на даму – поступок истинного кавалера. Но да, графиня… она, пожалуй, способна на многое. Особенно в отсутствие развлечений и при наличии персидских чернил.
Он снова встал. Пожал плечами.
– Благодарю вас, князь. Вы свободны. Пока. Наслаждайтесь акростихами.
Когда дверь за Щепелевым захлопнулась, Лыков остался один.
И вот тогда начался настоящий допрос – внутренний.
«Всё это нелепо, – думал он, – как балет чиновника в шинели. Пугают эпиграммой, словно пушкой. Что за империя, где стих может вызвать арест, а мысль – каторгу? И почему, чёрт возьми, я – поэт – должен выискивать рифму к доносу?..»
Он посмотрел на окно.
«Но, пожалуй, всё проще. Это не заговор. Это – зависть, скука и тупость, обнявшиеся в светском салоне. Нет ничего опаснее скучающего аристократа с пером в руке. Кроме, быть может, генерала с мечтой о славе.»
Он взял папку и написал на ней:
«ДЕЛО №472. Не заговор, а глупость, маскирующаяся под дерзость. Рекомендую: забыть, затереть, не будить медведя, который давно спит и видит Пушкина.»
Он усмехнулся, надел нелепый цилиндр, взглянул на своё отражение в оконном стекле – ироничного, сутулого, бледного чиновника с глазами человека, который всё понял и не простил – и вышел из кабинета.
ГЛАВА IV. Где перо – там яд
Графиня Аглая Павловна Кокошкина принимала Лыкова в гостиной, обитой малиновым бархатом и моральной двусмысленностью. Здесь всё было намёком: шторы – на грех, кресла – на интригу, запахи – на восточную провинцию с дурной славой.
Аглая Павловна слыла женщиной светской, остроумной, и непроницаемой, как ведомственная печать. Говорили, что когда-то она вела переписку с Пушкиным, затем – с Бенкендорфом, а теперь пишет исключительно в стол.
Лыков, войдя, поклонился так, как кланяются только поэты перед музами или ловцы перед капканом.
– Графиня, я пришёл не как жандарм, а как… читатель.
– Надеюсь, с хорошим вкусом, – сказала она, разливая чай так грациозно, будто угощала ядом.
– О, вкус у меня как у старой мебели: всё чувствует, ничего не выражает. – Лыков сел, улыбнулся уголком губ. – Мне бы хотелось узнать: кто нынче у нас пишет столь… смелые эпиграммы?
Графиня сделала вид, что задумалась. Потом пожала плечами:
– Все. Анонимность – новая мода. Раньше прятались в маскарадах, теперь – в стихах.
– Но кто-то должен начать. Кто-то первым взялся рифмовать нос Его Величества с лаптями?
– А может, это сам Господь? – хмыкнула она. – Вы же знаете, у Него дурной вкус на власть и аллюзии.
– И на поэзию, – добавил Лыков. – Природа, как поэт: пишет много, но не всё – гениально.
Графиня прищурилась:
– Что ж, если вы пришли с допросом – то лучше с вином, а не чаем.
– Увы. Вино в Третьем отделении не полагается. Только чернила и подозрение.
– А может, всё это написал сам князь Щепелев? – спросила она вдруг. – Он как раз недавно обиделся, что я отказала ему в руке. И в стихах. Вернее – в совместном сборнике. У него ужасные рифмы, но очень амбициозные.
– О, я знаю. Он рифмует «трон» и «пижон» с одинаковым апломбом. – Лыков вздохнул. – А вы, графиня… не написали ли вы когда-нибудь эпиграмму из скуки?
Она не ответила сразу. Поднесла чашку ко рту, вдохнула аромат. Сказала тихо, почти шепотом:
– Я писала многое. Но эпиграммы – только на тех, кто мне дорог.
– Значит, в Петербурге вас либо боятся, либо любят?
– Скорее, читают.
Лыков встал, поклонился. На выходе он задержался, будто что-то хотел сказать. Вздохнул:
– Если вы что-то вспомните… или захотите… прокомментировать… – он вытащил из кармана тонкий лист и подал ей. – Вот черновик стихотворения, найденного в бумагах подозреваемого. Аноним. Почерк изменён. Но стиль – узнаваем.
Графиня взглянула на текст, улыбнулась чуть-чуть – взглядом, не губами.
– Ах, Аристарх Петрович… если я и не писала это, я всё равно бы хотела, чтобы вы подумали: писала.
ГЛАВА V. Где поэзия – там и протокол
Вечерняя погода Петербурга была вполне подходящей для поэтического самовыражения: сквозняк, слякоть, отчаяние и лёгкий запах керосина.
Аристарх Петрович шёл на светский вечер, где собирались «интеллигенты, литераторы, чувствующие натуры и два предателя на квадратный метр». Мероприятие именовалось с помпой: «Салон свободной рифмы при закрытых шторах», проходило у некоей мадемуазель де Ржевской – дамы с такой репутацией, что даже у разведки по ней числились две папки: одна – «порочащее», вторая – «потенциально литературное».
Аристарх вошёл в дом и моментально оказался в гуще запахов: пунша, французских духов и отечественного лицемерия.
– А-а-а, Лыков! – вскрикнула де Ржевская, подбегая с такой жестикуляцией, будто махала не руками, а доносами на своих гостей. – Какое счастье! Мы как раз читаем стихи… о Родине!
– Прекрасно, – мрачно сказал Лыков, – надеюсь, в пределах дозволенного Уставом внутренней службы.
Он оглядел собрание. На диване, заняв ровно три подушки, раскинулся поэт Карабулин – личность громогласная, вечно недовольная, с лицом, как у портового грузчика, который прочёл Шиллера, но не смог его простить.