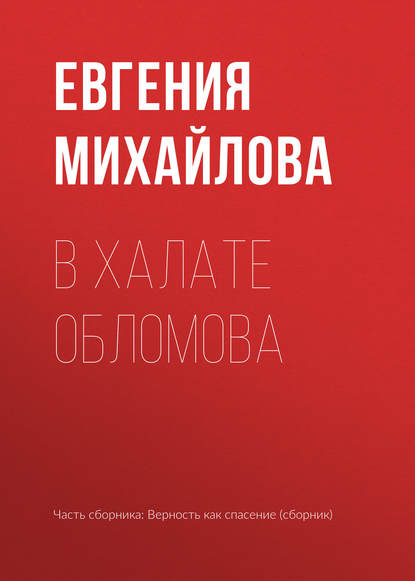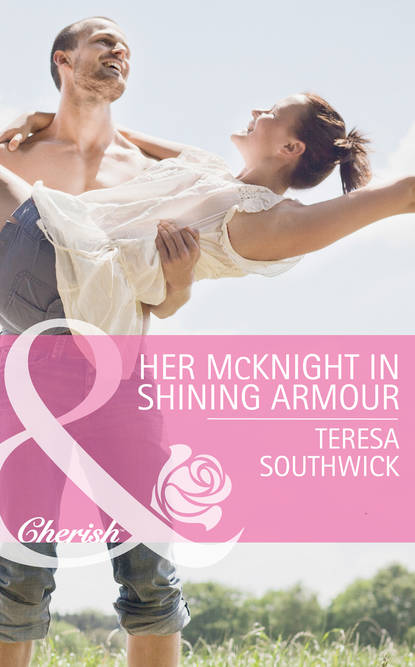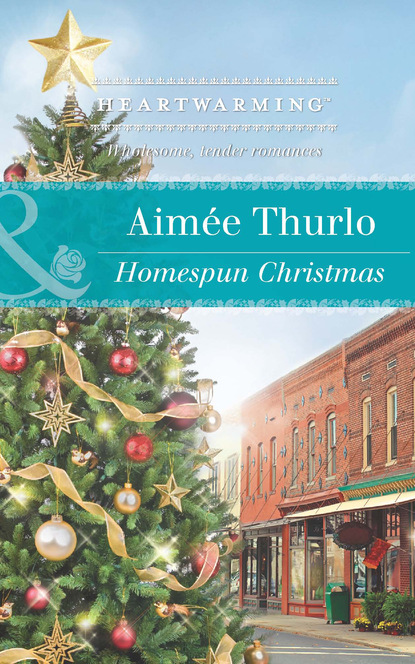Родословная Самбо
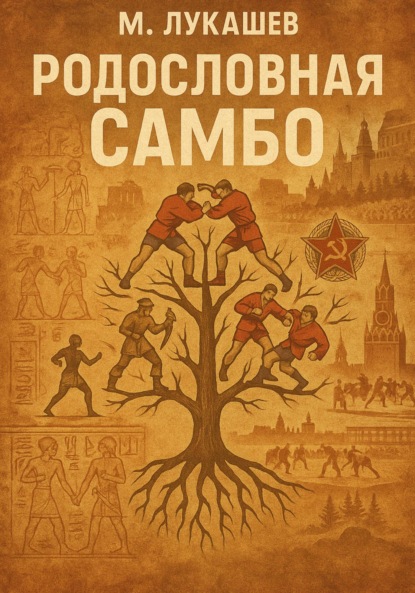
- -
- 100%
- +

Глава 1 ВМЕСТО ПРОЛОГА
Когда Исао Окано вышел на татами, десять тысяч зрителей устроили ему настоящую овацию. Это было не удивительно, ведь у Окано целая коллекция высших спортивных титулов: абсолютный чемпион Японии, чемпион Олимпийских игр 1964 года, чемпион мира… Он стоял напротив Бориса Мищенко очень спокойный, не сомневающийся в успехе.
О достоинствах противника Борис имел представление и, конечно, не мог быть абсолютно уверенным в своей победе, но он твердо знал, что для чемпиона мира это в любом случае не будет легкий выигрыш. Несмотря на еще непривычные ему условия дзюдоистской схватки, Борис был полон решимости вести борьбу без оглядок на высокие звания Окано.
Едва прозвучала команда судьи к началу схватки, как Окано начал легко и стремительно кружить вокруг Мищенко. Невысокий, с необъятно широкими плечами, он держался прямо, настороженно, выставив вперед готовые к захвату большие короткопалые руки. Выбрав момент, мгновенно захватил борта кимоно Мищенко, и тот почувствовал в хватке Окано такую мощь, которая даже не снится простачкам, верящим, что в дзюдо не нужна физическая сила.
Настойчиво осуществляя свой тактический замысел, Окано стал отходить к углу татами, увлекая за собой Мищенко. И тогда чутьем, без которого просто немыслим большой мастер борцовского ковра, Борис понял, что именно сейчас, в это мгновение нужно провести прием. Оборона неминуемо обречет на поражение. Имея инициативу, Окано наверняка реализует ее. Только лишь нападение, решительное и агрессивное, может сломать его планы. К тому же сейчас, когда Окано поглощен подготовкой решительной атаки, он психологически наиболее уязвим. Думая о нападении, чемпион невольно ослабляет бдительность в защите.
Действия Мищенко в конечном счете были определены этими громоздкими выкладками, но в ту секунду его мозг сработал как точно запрограммированная электронно-вычислительная машина, в одно мгновение выдав тактически верное решение.
И он тотчас стремительно опустился на татами, подбив ногу Окано и увлекая его за собой. В ту долю секунды, когда, потеряв равновесие, японец падал, Мищенко, действуя только ногами, успел перевернуть его в воздухе так, что тот упал на спину, а его рука оказалась крепко зажатой ногами Бориса. Перегибая руку соперника в локтевом сгибе, наш борец мгновенно провел болевой прием.
Помешала ли Окано гордость или просто все произошло ошеломляюще быстро, но чемпион мира не произнес рокового слова «маита» – «сдаюсь». Он только громко вскрикнул от боли, и Мищенко тотчас отпустил его руку.
Объективные и знающие толк в дзюдо японские болельщики по достоинству оценили эту красивую победу и приветствовали Бориса даже еще более бурно, чем его именитого соперника перед началом схватки. И конечно, не только в Осака, где в 1967 году проходила матчевая встреча советских и японских дзюдоистов, но и по всей Японии газеты печатали фотографии, кинограммы и оживленно комментировали сокрушительное поражение чемпиона мира всего лишь на двадцатой секунде схватки…
Как это ни странно, но отнюдь не дзюдо было основной спортивной специальностью «цеэсковца» – старшего лейтенанта Мищенко, свои симпатии он отдавал борьбе самбо. Дзюдо Борис начал осваивать всего лишь «по совместительству». В 60-х годах возникла необходимость защищать спортивную честь страны в этом малоизвестном тогда у нас экзотическом японском единоборстве. Лучше всех, разумеется, это могли сделать самбисты, имевшие необходимую подготовку. Сильнейшие из них и вышли тогда на татами, облачившись в еще непривычные японские кимоно и длинные брюки. Среди них, естественно, оказался и двукратный чемпион Советского Союза Мищенко.
И прием, которым он поверг прославленного японского чемпиона, – подготовленный из стойки рычаг локтя с захватом руки между ногами, – тоже был разработан в творческой лаборатории борьбы самбо. Дзюдоистам он был тогда незнаком и непривычен. Техника борьбы лежа, и особенно подготовки и исполнения болевых приемов, в дзюдо уступала тому, что было известно в борьбе самбо.
Многими ценными качествами наделяет самбо своих верных последователей. Это динамичное, увлекательное единоборство прочно завоевало сердца многих тысяч спортсменов и в Советском Союзе, и за рубежом.
Самбо родилось в нашей стране в результате творческих исканий советских тренеров и спортсменов. Советское по рождению и интернациональное по самой своей сущности, оно объединило тысячелетний опыт разных народов в области борьбы и самозащиты. В спортивном самбо может быть использован любой прием любого национального или международного вида борьбы, а его боевой раздел включает лучшие достижения различных систем самозащиты. Такой широкий принцип отбора приемов позволил сформировать богатейший технический арсенал самбо, который вполне заслуженно называют «невидимым оружием». Оружием, которое всегда с собой.
Борьба самбо – один из молодых наших видов спорта, однако едва ли можно найти какой-либо другой, чья история была бы столь же интересной, но вместе с тем сложной и запутанной.
Самбо произрастало не из одного, а сразу из нескольких корней, порой совсем разнородных. Даже само название нашей борьбы, как и ее отдаленных прототипов, неоднократно изменялось как будто бы специально для того, чтобы усложнить труд будущих историков спорта: «самозащита», «самоз», система «сам», «самбо», «вольная борьба», «борьба вольного стиля», «вольная борьба самбо» и только затем – привычное нам «борьба самбо».
Точно так же существует и несколько вариантов исчисления возраста этого вида единоборства. Одни склонны начинать историю самбо с ноября 1938 года, когда оно было официально введено в число культивировавшихся тогда в Советском Союзе видов спорта. Другие вполне резонно замечают, что состязания по этой борьбе проводились и ранее осени 1938 года, а складывалась она уже в начале 30-х. Третьи же справедливо указывают на то, что прообраз самбо стал формироваться еще ранее – в начале 20-х годов.
При этом, говоря о рождении самбо, его возникновение, как правило, связывают с именами различных наших спортивных специалистов. Традиционно считается, что у колыбели самбо стоят три выдающиеся личности: В. А. Спиридонов, В. С. Ощепков и А. А. Харлампиев. Действительно, деятельность каждого из них – целый этап в становлении этой борьбы. И все-таки было бы неправильно рассматривать историю создания самбо в первую очередь под углом личностного вклада этих замечательных деятелей советской физической культуры. Их заслуги несомненны и поистине огромны. Тем не менее подобный внеисторический подход неминуемо скроет от нашего внимания два весьма важных обстоятельства. Во-первых, и это самое главное, такая деятельность осуществлялась не просто в силу замысла какого-то одного лица, а в тесной связи и под непосредственным воздействием определенной внутри- и внешнеполитической обстановки. Ее порождал именно «социальный заказ» данного времени. И заказ этот, всегда направленный на достижение поставленных партией и правительством целей, имел задачей помочь в решении проблем, возникавших перед нашей страной в различные периоды ее истории. В этом мы с вами еще не раз убедимся.
Во-вторых, в реальной действительности работа по созданию нового вида борьбы на любом этапе непременно принимала коллективный характер. В ней, разумеется, в разной степени, участвовало множество людей.
Известный советский ученый, академик Б. А. Рыбаков очень точно заметил, что каждое поколение историков строит свой новый этаж в величественном здании истории нашей Родины. Такой же точно процесс происходил и при создании борьбы самбо: каждое поколение спортивных специалистов, тренеров и самих спортсменов возводило очередной этаж в этом сложном спортивном сооружении. Одним удалось построить целую крепкую стену, другие смогли заложить всего лишь один-два кирпичика. Но при этом творческие усилия каждого неизменно служили на благо общему делу, неизменно продвигали вперед нелегкий процесс создания, становления, а затем и постоянного совершенствования нового увлекательного единоборства.
Несколько лет назад в одной из своих книг я рассказал об удивительном хитросплетении обстоятельств, в которых сформировалось и само самбо, и даже представления о его рождении. Книжка была рассчитана только на молодежь, и меня немало удивило, что она всерьез заинтересовала многих ветеранов этого вида спорта – тех, кто внес немалый личный вклад в дело пропаганды, широкого распространения и совершенствования его. И самое главное, что интерес ветеранов имел отнюдь не пассивно-теоретический характер. Вовсе нет! Они поднимали свои личные архивы, обращались в государственные хранилища старых документов, отыскивали своих бывших коллег по спорту, которых осталось, к сожалению, совсем немного, списывались с музейными работниками даже таких отдаленных местностей, как остров Сахалин. И совсем не удивительно, что им удалось обнаружить целый пласт новых и очень ценных документов. Материалы, поднятые ими «на-гора», оказались на редкость интересными. Они позволили мне не только существенно уточнить и расширить уже имевшиеся у меня сведения, но и открыть совершенно неизвестные ранее факты. Все это дало возможность заново и со значительно большей точностью проанализировать биографию самбо.
Материалы, относящиеся к истории самбо, я отыскиваю и изучаю уже несколько десятилетий, собрал уже немало ценных данных, но, положа руку на сердце, скажу, что в одиночку я никогда не достиг бы того, что помогли мне сделать доблестные и бескорыстные рыцари истории самбо. Вот почему и считаю приятной обязанностью выразить свою искреннюю и глубочайшую благодарность чемпионам СССР «первого призыва»– мастеру спорта А. А. Будзинскому, который собрал уже целый музей самбо, заслуженному мастеру спорта и заслуженному тренеру СССР, профессору Е. М. Чумакову; ветеранам самбо: заслуженному тренеру СССР Н. М. Галковскому, заслуженному тренеру СССР В. М. Андрееву; одному из основоположников ленинградского самбо и неоднократному чемпиону этого города А. М. Ларионову, кандидату педагогических наук Б. А. Сагателяну, первому московскому ученику Ощепкова – В. В. Сидорову, старейшему ди намовскому самбисту В. С. Харитонову, а также знатоку истории самбо, энтузиасту Л. С. Матвееву.
Однако, прежде чем начать повествование о всех перипетиях рождения самбо, давайте сначала окинем взглядом не только его отдаленные истоки на нашей почве, но еще и то, как исторически складывалось искусство самозащиты и что представлял собой его международный уровень к концу прошлого – началу нынешнего века. То есть к тому времени, с которого я поведу свой основной рассказ непосредственно о биографии самбо.
Обычно, когда речь заходит о существующих в мире прикладных видах борьбы и системах самозащиты, то называют лишь исключительно японские – джиу-джитсу, сумо, дзюдо, ниндзядо, айкидо, каратэ или родственные ему китайское кун-фу и корейское таэквондо. Благодаря многолетней и не слишком скромной рекламе японские системы оказались больше всего известными широкой публике. Мне не раз приходилось даже слышать такой недоуменный вопрос: «Но почему же именно японцам и только японцам удавалось изобретать эффективные боевые приемы?!» И на это я всегда отвечаю так: «Потому что не только и не именно».
Ведь в действительности каждый народ на определенных этапах своего исторического развития непременно создавал приемы борьбы, обезоруживания, которые были жизненно необходимы в бесчисленных войнах, междоусобицах и случайных схватках. Немало таких приемов родилось задолго до появления японских систем и нередко даже в значительно более целесообразных вариантах.
Для того чтобы наглядно убедиться в этом, давайте совершим путешествие по различным эпохам и странам, вообразив себя в любимом средстве передвижения авторов научно-фантастических романов – машине времени.
Древний Египет. Время, отдаленное от нас более чем четырьмя тысячами лет. Под палящим тропическим солнцем, утопая по щиколотку в раскаленном песке, Камес – начальник отряда копейщиков вел своих людей краем Нубийской пустыни. Нубийские племена совершили набег на южно-египетские селения, и Камее получил приказ найти и разгромить один из отрядов врага. Весь день продолжалось преследование, и только к вечеру они увидели частокол нубийских копий за отдаленным барханом.
Заметив преследователей, нубийская ватага с криками ринулась на них. Впереди всех бежал богатырского сложения предводитель, размахивая тяжелой палицей. По деревянным обитым шкурами щитам египтян забарабанили швыряемые нубийцами камни. Камее успел построить своих воинов в плотную боевую шеренгу, но очень скоро общая схватка распалась на отдельные очаги рукопашного боя. Начальник отряда сражался рядом со своими копейщиками, от метких и сильных ударов его булавы с каменным навершием – знаком воинского достоинства – упал уже не один враг. Вот только последнего мощного удара не выдержало древко старой булавы и сломалось. Камес бросился к валявшемуся на песке египетскому копью с медным наконечником, но чья-то огромная босая ступня наступила на древко и не позволила поднять оружие. Камес вскинул голову и увидел над собой вождя нубийцев. Силач замахивался своей огромной палицей, а левой рукой пытался схватить Камеса, чтобы не дать тому увернуться от смертельного удара. Но Камес и не собирался бежать. Он крепко схватил за запястье протянутую к нему ручищу богатыря, повернувшись к нему спиной, забросил ее на свое плечо и резко наклонился. Ноги нубийца описали в воздухе широкую дугу, и он тяжело грохнулся о землю. Выпавшая из руки дубина отлетела в сторону.
В этот момент, когда Камесу уже казалось, что он спасен, другой нубиец сзади схватил его, крепко прижав руки к бокам. Но начальника копейщиков даже безоружного не так-то просто было захватить в плен. Он умело зацепил своей ногой ногу нападавшего и опрокинул его навзничь. Однако на помощь товарищу уже бросился еще один нубийский воин. Уж очень заманчиво было взять в плен вражеского начальника, и мускулистый нубиец, наскочив на Камеса спереди, как клещами ухватил его за руки повыше локтей. Камее сразу почувствовал мощь хватки врага и не стал вырываться. Наоборот, он поддался напору нападавшего, быстро сел на песок, а затем повалился на спину, упершись в то же время ногами в живот нубийца и использовав его же собственный натиск, с силой перебросил через голову. Мгновенно вскочил на ноги и наконец смог поднять с песка то самое, спасительное копье…
Вы, конечно, вправе спросить: а насколько достоверна нарисованная мною картина? Стычки древних египтян со своими южными соседями – нубийцами были самым обычным явлением на протяжении многих столетий, но имена начальников отдельных египетских отрядов и иные сведения о них до нас, разумеется, не дошли. Так что мне пришлось просто вообразить себе такого человека, но вот все приемы, которые использует в опасной схватке мой Камес, абсолютно достоверны и являются именно теми, какие действительно знали в Древнем Египте.
Дело в том, что у египетского селения Бени-Хасан археологи раскопали гробницу, относящуюся к третьему тысячелетию до нашей эры. Настенная живопись гробницы воспроизводит батальные сцены. Кроме того, она донесла до нас более трехсот изображений борющейся пары – египтянина и чернокожего атлета. И тот и другой проделывают самые разнообразные приемы, которые и сейчас можно встретить в различных видах борьбы и самозащиты. Эти изображения позволили ученым сделать вывод, что борьба с применением ударов и болевых приемов являлась составной частью боевого искусства Древнего Египта. И именно этой настенной живописью руководствовался я, давая описание приемов, использованных Каме- сом в бою с нубийцами. А теперь давайте пересечем Средиземное море и перенесемся на два тысячелетия ближе к нашему времени так, чтобы из Древнего Египта попасть в античную Грецию VI века до нашей эры…
Среди беломраморных статуй и колонн афинского гимнасия, посвященного Аполлону Ликийскому, идут два человека. Один из них, крепкий еще старик в белом хитоне и голубом плаще, мудрый греческий законодатель Солон. Другой, в рубахе из овечьей шкуры, – явно варвар, как называли греки чужестранцев. На поясе у него короткий скифский меч-акинак. Это скиф Анахарсис, проделавший далекое и опасное путешествие, чтобы узнать и понять обычаи просвещенных эллинов, познать их законы.
Солон и скиф пришли в гимнасий в тот момент, когда ученики готовились к атлетическим упражнениям. Раздевшись донага и весело переговариваясь, эти мускулистые статные юноши начали растираться оливковым маслом.
Потом руководитель разделил их на три группы, одна из которых направилась в помещение, где на полу изумленный скиф увидел толстый слой жидко замешенной глины. Однако юноши отнюдь не собирались лепить из нее остродонные сосуды – амфоры. Нет, они занялись делом, казалось бы, менее всего подходящим для этого места: разбившись на пары, стали бороться. Начинали схватку они, низко наклонившись и даже упершись головой о голову. («Бодаются совсем как бараны»,– подумал скиф, но мы с вами сразу бы вспомнили, что видели нечто подобное и на современном борцовском ковре). Схватки протекали скоротечно: один из борцов сделал подножку, другой подхватил соперника под коленки и опрокинул в жидкую грязь. Тот попытался подняться, однако победитель навалился на пего и снова опрокинул. Неудачник, барахтаясь в глине, всеми силами старался освободиться, но партнер сел ему на спину, крепко обхватил его талию обеими ногами и, захватив шею в локтевой сгиб, начал душить. А после этого соперники как ни в чем не бывало поднялись на ноги и снова вступили в единоборство.
Другая группа юношей занималась тем же самым, но уже во дворе и не на жидкой глине, а на чистом сухом песке, которым они обильно посыпали свои обнаженные тела перед тем, как начать борьбу друг с другом.
Но совсем уж удивительные вещи делали атлеты в третьей группе. Тоже разбившись на пары, они вступили в беспощадный рукопашный бой. Слышалось лишь горячее дыхание бойцов и звуки ударов руками и ногами. От точного удара кулаком в челюсть на лице одного из юных бойцов кровь перемешалась с песком.
«Сейчас бедняге придется выплюнуть десяток выбитых зубов», – сочувственно подумал Анахарсис, но юноша по-прежнему уверенно продолжал бой и, подпрыгнув, ответил партнеру точным ударом ноги в живот. А в стороне паренек, которому не хватило пары, высоко подпрыгивал и наносил удары ногой в воздух.
И опять, наверное, мы с вами подивились бы, сравнив такие удары с приемами кун-фу или каратэ, но простодушный скиф уже не выдержал и взволнованно спросил у Солона:
– Эти несчастные юноши, наверное, безумны? Ведь я видел сам, как по-дружески помогали они один другому умащивать тела маслом, а потом вдруг ни с того ни с сего начали терзать друг друга, валяясь, словно свиньи, в грязи и совсем не жалея истраченного масла. Или колошматить на песке, где надзиратель, вместо того чтобы разнять их, громко восхваляет каждый удачный удар. Зачем позорят они свою стать и красоту?!
– Нет, это не безумцы, и действительно бьются они не со зла,– улыбнулся Солон. Ты сильный и ловкий человек, и, я думаю, если подольше побудешь в Греции, то и сам станешь одним из таких испачканных глиной и песком, настолько приятным и полезным покажется тебе это занятие.
– Ну нет, если бы кто-нибудь посмел поступить так со мной, он тотчас бы убедился, что я не зря опоясан акинаком! —горячо возразил скиф, но Солон продолжал:
– Они умащивают тело маслом, потому что это полезно для кожи. Борются в жидкой глине, так как от этого тело делается скользким и держать соперника очень трудно. Это дает навык особенно сильно и умело схватывать. Песок же, наоборот, делает тело сухим и позволяет держать партнера более прочно, так что очень трудно вырваться. Это научит юношей освобождаться от самых крепких захватов. Еще они учатся падать, не причиняя себе вреда, легко подниматься на ноги и легко переносить, когда их сжимают руками, гнут и душат, а также сами учатся бросать противника.
Панкратион же, так мы называем кулачный бой, в котором разрешены удары ногами, подножки и выламывание рук, дает навык наносить сильные и точные удары, а также терпеливо сносить их. Мы обучаем юношей самому трудному, чтобы потом им было легко.
Конечно же, вступив в рукопашный бой с врагами, привычный скорее вырвется и сделает подножку или, оказавшись под врагом, скорее сумеет встать на ноги. Я думаю, ты понимаешь, Анахарсис, насколько хорош будет в доспехах и с оружием тот, кто даже нагой способен внушать ужас противнику. Кроме того, благодаря этим упражнениям наши юноши здоровы и очень выносливы в трудах. Более всего мы стараемся, чтобы наши граждане были прекрасны душой и сильны телом: ибо именно такие люди хорошо живут вместе и во время войны спасают государство, охраняют его свободу и счастье.
Вот почему, Анахарсис, я прежде всего привел тебя в гимнасий…
И снова должен сказать тебе, мой читатель, что эта сцена в афинском гимнасии отнюдь не выдумана мною, а взята в точности из произведения известного античного писателя Лукиана «Анахарсис, или об упражнении тела», в котором именно так описаны изучавшиеся юношами приемы.
И как бы мы ни меняли маршрут машины времени, путешествуя по древнему миру, везде встретим боевые атлетические единоборства. Вавилон оставил нам высеченные на камне барельефы кулачных бойцов и борющихся атлетов. На острове Крит кулачный бой существовал еще ранее, чем в Древней Греции, и кулачные бойцы там тоже принимали стойку, похожую на положение воина в бою: левая рука, словно щит, разрушала атаки соперника, а правая наносила удары. Наскальные изображения в Тассили донесли до нас упражнения древних африканских племен, среди которых также практиковались и борьба, и кулачный бой – даже в своеобразных перчатках.
Так было везде, и если бы мы не только пересекли Средиземное море, но еще переплыли Тихий океан, то убедились бы, что одни туземцы Океании устраивали празднества, непременной частью которых являлась борьба, а другие состязались в кулачном бою. Что еще не вышедшие из рамок родового общества аборигены Австралии признавали мужчиной лишь того юношу, который наряду с иными полезными навыками овладевал и искусством борьбы. А ряд приемов союза ирокезских племен был настолько хорош, что американские переселенцы стали использовать их в своей разновидности вольной борьбы, вывезенной из Англии.
Конечно же мы не можем не побывать в Древней Руси. И снова былины, сказания и расцвеченные затейливыми буквицами пергаментные страницы летописей донесут до нас немало и боевых, и спортивных приемов, которыми в совершенстве владели наши предки. Былины, наш героический древний эпос, воспевающий многовековую кровавую борьбу с разбойничьими набегами беспощадных диких кочевников – «поганых», буквально пестрят описаниями ловких бросков, использовавшихся в богатырских единоборствах. «Спущать с носка», – то есть сделать переднюю подсечку, «взять на косу бедру» – бедровый бросок, «согнуть корчагою» – силовой прием с обхватом туловища спереди, обратный захват туловища, бросок захватом обеих ног, подхват, удержание верхом и уход от него – все это хорошо знали и сноровисто проделывали, повергая ворогов наземь, добрые молодцы русских былин.
А вот одно из летописных описаний приема обезоруживания врага.
Тихой июньской ночью 1174 года по каменным ступеням винтовой лестницы в башне княжеского замка в Боголюбове осторожно, стараясь не шуметь, поднимались вооруженные мечами и копьями люди. У дверей опочивальни князя Андрея Боголюбского они приостановились и чутко прислушались к ночной тишине: все спокойно. Значит, никто не подозревает о задуманном вероломном убийстве, и никто не помешает им. Князь спит один, а его оружие предатель-слуга еще загодя тайно вынес из опочивальни. Высадить дверь было минутным делом, и вскочивший с постели
Андрей уже окружен вооруженными изменниками. Но одинокий и безоружный князь, осыпаемый со всех сторон ударами, вовсе не подумал просить пощады. Бывалый воин, он с голыми руками отважно вступил в такую неравную и ставшую последней в его жизни схватку. Уже раненый, умело уклоняясь от ударов вражеского оружия, он ловким приемом обезоружил близстоящего изменника и так сноровисто рубился с толпой заговорщиков, что, уходя, пришлось им одного своего товарища даже уносить на руках…
Ну а какой же вклад в развитие борьбы внесла средневековая Центральная Европа? Пожалуй, лучше всего оценить его позволил такой факт. Когда в Германии в конце прошлого века решили выпустить руководство по самозащите без оружия, то совершенно неожиданно пришли к выводу, что наиболее эффективные, многочисленные и разнообразные приемы содержатся в одной средневековой книге. И вот в Берлине в 1887 году в качестве наиболее современного и практичного пособия по самозащите «на пользу и благо всем германским турнерам» (то есть гимнастам) выпускается без каких-либо изменений и даже без комментариев книга старого немецкого мастера борьбы и самозащиты Фабиана фон Ауэрсвальда «Искусство борьбы. Восемьдесят пять приемов», впервые увидевшая свет еще в 1539 году и давным-давно превратившаяся в антикварную редкость. Это был единственный в своем роде случай во всей мировой книгоиздательской практике.