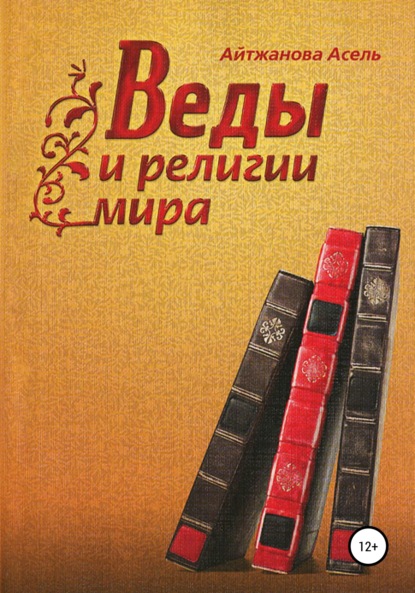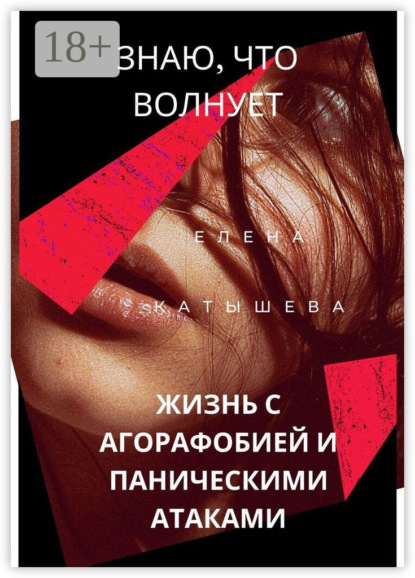Самозащита для революции
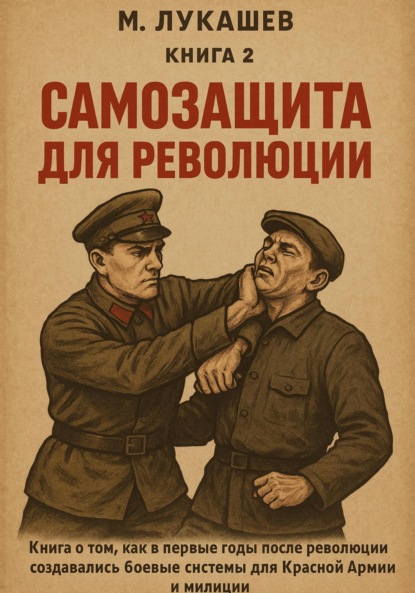
- -
- 100%
- +

Глава1 Штыковой плюс рукопашный
«Век девятнадцатый – железный, воистину жестокий век» армии всего мира встретили еще с кремневыми ружьями и заряжавшимися с дула бронзовыми или чугунными пушками, почти такими же, какие стреляли в восемнадцатом, семнадцатом и даже шестнадцатом веках, а вот заканчивали это самое – «железное» столетие уже под пулеметные очереди и рёв стальных крупповских орудий. Невероятно возросшая огневая мощь породила даже бесконечные споры между, как их называли, «штыкопоклонниками» и «огнепоклонниками», которые ставили под сомнение даже саму целесообразность сохранения на вооружении штыка. Столь мизерным, максимально стремящимся к нулю представлялось им значение штыкового боя в современных сражениях. И потребовался горький опыт Первой мировой – «траншейной» войны с ее бесконечными кровавыми схватками в тесном пространстве своих или чужих окопов для того, чтобы высокопоставленные военные головы полностью осознали значение рукопашного боя и в современной войне.
Первоначальные обширные наступательные действия сменились затяжной позиционной войной. Воюющие стороны зарылись глубоко в землю, построив укрепленные огневые точки, мощные блиндажи, тысячи километров окопов, ходов сообщения, проволочных заграждений в несколько рядов. И сколько бы часов подряд ни «долбила» артиллерия вражеские укрепления, занять их удавалось только после того, как противника «выковыривали» штыками из его траншей. А точнее, не одними только штыками. Тесное пространство окопов диктовало свои условия схватки: штыком здесь уже нельзя было орудовать так же свободно, как в открытом поле. Классический штыковой бой былых времен, когда хватало штыка и приклада, слишком часто превращался в остервенелый рукопашный, где в ход шли ножи, кинжалы, саперные лопатки и прочий шанцевый инструмент, собственные руки, ноги и даже зубы. Разумеется, теперь сразу же прекратились ученые дискуссии о снятии с вооружения «архаичного штыка». Больше того, пожалуй, впервые с XVI-XVII века военное руководство вновь обратило особое внимание не только на штыковой, но и на рукопашный бой.
«Солдат должен уметь не только стрелять, но и драться. Шаблонные приемы удара штыком, которым обучали в мирное время, не могли применяться на практике», – констатировали немцы.
Французы снабдили своих солдат специальными кинжалами для ближнего боя. А капитан Андре Лафарг в книге «Пехотная атака в настоящем периоде войны», вышедшей в военном 1916-м году, делился опытом усиленной подготовки своих солдат к штыковым атакам даже во фронтовых условиях: «Мы жаждали неудержимого… штурма, а потому хотели внушить всем людям желание рукопашного боя – того самого, перед которым колеблется каждый человек…»
Специальные руководства по рукопашному бою издаются в Англии и даже в Соединенных Штатах, которые вступили в войну позже всех. Принятое в разгар войны бельгийское наставление «Фехтование на штыках» в особом дополнении приводило английские методы обучения рукопашному бою.
Именно тогда, в огне Первой мировой родился прообраз особых ударных групп, которые на Западе именуют «коммандос», а у нас – армейским спецназом. Эти небольшие по численности отряды весьма тщательно комплектовались и вооружались специально для ближнего боя. Они вели разведку, проникая в траншеи, брали языков, проводили деморализующие противника ночные налеты, уничтожали огневые точки. И похоже, что в тесной связи со всеми этими обстоятельствами появилось тогда самое маленькое войсковое подразделение в составе десяти бойцов – «отделение», и даже еще меньшее, всего из трех человек, – «звено», от которого впоследствии отказались.




Иллюстрации из английского наставления по рукопашному бою времен Первой мировой войны.
Фотографию такой немецкой, специально оснащенной боевой группы численностью в отделение опубликовал журнал «Огонек» с вопросом: кто сильнее – отборные германские бойцы или наши корниловцы из ударных воинских частей? Ответ же состоял в том, что фотоснимок корниловцы нашли на трупе одного из солдат именно этого, уже уничтоженного специального отряда.
Вполне естественно, что послевоенные уставы всех стран теперь уже уделяли большое внимание обучению и штыковому, и рукопашному бою. Германия, военно-техническая мощь которой была сильно ограничена жесткими условиями мирного Версальского договора, усиленно наверстывала в передовом обучении пехоты, в частности, рукопашному бою. Так, кроме всего прочего, солдат специально тренировали в ведении боя ножом. Исходное положение имитировало ситуацию, которая не раз возникала в подлинном ближнем бою: инстинктивный захват вооруженной руки. Начиная схватку, каждый из единоборцев левой рукой захватывал вооруженную учебным ножом руку партнера за запястье. В борьбе нужно было освободить из захвата руку и нанести точный удар ножом. В немецкой армии также всячески поощрялись спортивно-клубные занятия боксом и джиу-джитсу.
Американцы записали в своем новом уставе: «Солдат, устремляющийся в атаку, имеет преимущество морального превосходства над обороняющимся… Успех такой атаки может быть обеспечен только тогда, если солдаты воодушевлены желанием схватиться с противником грудь с грудью и, если они надлежащим образом обучены и воспитаны».
Аналогичное французское наставление требовало: «Штыковому и рукопашному бою должны быть обучены все бойцы… Задача будет заключаться в том, чтобы воспользоваться неожиданностью для быстрого и сильного прямого удара (удара штыком, ногой, кулаком и др.). Кроме того, необходимо твердо знать, куда нужно наносить удар… Все должны быть в состоянии уметь употребить приемы нападения и защиты, чтобы никогда не быть захваченными врасплох…»
Даже не слишком могущественная Польша, которой отводилась передовая роль в противостоянии с Россией, старалась не отставать от других и, как обычно, копировала французские образцы: «Обучение штыковому и кинжальному бою должно совершаться простым способом, но систематично и последовательно… Этого можно достигнуть только посредством частых упражнений, путем поединков на местности, в окопе и т.п. Не следует ограничиваться только штыковым боем – кинжал, приклад, лопата, топорик, кирка-мотыга и т.п. также могут часто служить оружием рукопашного боя. Солдат пехоты даже без оружия должен уметь броситься на неприятеля и победить его. И этому исключительному способу борьбы необходимо его обучать».
Так было во всех странах. Во всех, кроме Советского Союза. И это несмотря на то, что революционные военные формирования имели давние традиции рукопашного боя. Еще в преддверии восстания 1905-го года рабочие дружины не только обучались стрельбе и бомбометанию», но и упражнялись в кулачном бою. В 1917-м красногвардейцы, выделенные для охраны Ленина от агентов Временного правительства, владели как стрелковым оружием, так и приемами самозащиты. Военные специалисты только что созданной Красной армии, в значительном большинстве – бывшие офицеры старой армии, понимали, какое большое значение приобрело умение бойцов вести ближний бой. И когда с началом Гражданской войны в стране было введено обязательное всеобщее военное обучение мужского населения (Всевобуч), то в его программу наряду со штыковым боем было включено изучение некоторых простейших приемов бокса и французской борьбы. Вместе с тем, существенное и явно отрицательное влияние на развитие военного рукопашного боя оказал сам характер боевых действий в ходе противостояния красных и белых.
Эта война никогда не превращалась в позиционную, а значение в ней кавалерии заметно превалировало над ролью пехоты. На смену штыковым боям с неизбежной рукопашной пришли бои сабельные. Справедливо отмечая явное ослабление внимания к штыковому, а следовательно, и к рукопашному бою в Красной армии и объясняя его причины, начальник Учебно-строевого управления ГУРККА Л. Малиновский писал так: «Культура штыка в старой русской армии была высоко развита и, занимая почетное место до империалистической (Первой мировой – М. Л.) войны, составляла значительное звено в системе подготовки и воспитания пехоты. После империалистической и первой полосы Гражданской войны в практической работе по подготовке Красной Армии обучение штыковому бою хотя и осталось, но потеряло то место, которое ему было отведено прежде… Характер Гражданской войны, за вычетом некоторых участков Западного и Туркестанского фронта, отличался той особенностью, что, как правило, атака крайне редко доходила до рукопашной схватки».
В связи с этим вполне справедливым и откровенно критическим замечанием, имеет смысл бросить ретроспективный взгляд на то, как обстояло дело с обучением штыковому и рукопашному бою в старой русской армии. Точнее, только штыковому, так как официально существовал только этот термин, а термин «рукопашный бой», то есть бой без оружия, в армейских учебных руководствах вообще отсутствовал точно так же, как отсутствовало обучение ему военнослужащих. И совершенно правильно заметил один из ветеранов ленинградского самбо полковник М.А. Ларионов: «В армии бою без оружия не обучали. Ни водном уставе до революции его не было». Действительно, рукопашного, а в некоторых деталях и штыкового боя формировались в изустной «унтер-офицерской академии» и передавались из поколения в поколение, минуя официальные воинские учебные документы. Генералы, на чьей ответственности лежала постановка обучения, не слишком обременяли себя заботой о полезных нововведениях. И уже, конечно, не снисходили до унтер-офицерских «мелочей». Вот уставы и говорили лишь о «классическом» штыке, забывая порой даже о «работе» незаменимым в бою прикладом. Только после Русско-японской войны, где уступавшая врагу в военно-техническом отношении армия очень успешно действовала и штыком, и прикладом (порой даже злоупотребляя этим), появилось первое достаточно подробное описание способов совместного использования со штыком также и приклада. Но вы ошибетесь, если решите, что это генералитет успел так быстро сделать необходимые выводы. «Пособие военным инструкторам. Фехтование и борьба на штыках» написал известный московский частный преподаватель Александр Иванович Люгарр, а издало в 1908 году Правление Офицерских фехтовальных курсов Гренадерского корпуса, где он преподавал. В разделе «Борьба на штыках» Люгарром были «указаны практические приемы, наиболее применимые на войне (в свалках)», то есть в ближнем бою. Он писал: «Введение вновь в армии фехтования на штыках есть несомненно, результат опыта последней войны, доказавшей бесспорную важность штыка. Обучение в армии штыковому бою производится по уставу («Обучение штыковому бою» Высочайше утверждено 11 апреля 1907 года. – М. Л.). Этот устав, предъявляющий огромные требования, указывает и дает слишком скудные средства для выработки из нашего солдата искусного штыкового бойца, чего можно достигнуть только при хорошем руководстве. Такого руководства у нас еще нет… В этой части конспекта указаны приемы штыкового боя, более применимые во время штурма (во время атаки – М. Л.). Но нужно обладать большой фантазией, чтобы представить картину рукопашной схватки, когда приходится сражаться с врагом почти грудь с грудью и когда солдат бывает вынужден работать прикладом не менее, чем штыком. Устав, на который мы уже ссылались, также упоминает о действиях прикладом, но ровно ничего не разъясняет по этому поводу».
Но хотя Люгарр и опирался на опыт недавней войны, разработанная им система если и была хороша, то лишь для долговременного воспитания искусного фехтовальщика, но отнюдь не для массового обучения солдат. При всем том предусматривалось немало положительных моментов: использование для штыкового удара подвижных чучел на катках, вольный бой в фехтовальном снаряжении с заменой штыков пружинными клинками с мягким наконечником, бой двоих бойцов против троих, троих против пятерых и т.п. В схватке активно использовался как штык, так и приклад, включая и удар им снизу, который в западных наставлениях появился только уже в годы Первой мировой. Вместе с тем, Люгарр игнорировал такое действенное в рукопашном бою дополнительное средство, как удары ногами, подножки с ударом цевьем на «сверхблизкой» дистанции, как это было у Ощепкова. Главным же недостатком являлось то, что практическое осуществление подобной сложной и дорогостоящей программы обучения являлось крайне сомнительным. Что на деле и оправдалось.
С таким небогатым багажом подошли наши бойцы и к Первой мировой, и Гражданской войне.
В некоторых работах высказывалось мнение, что во время Гражданской красноармейцы китайской национальности обучали своих российских товарищей по оружию боевым приемам ушу.
Насколько я могу судить, первым эту спортивно-историческую легенду пустил в оборот А.Н. Медведев в своей книге «Как дрались в НКВД»: «Экзотические для людей, не искушенных в искусстве рукопашного боя, приемы часто попадали в арсенал отечественных рукопашников через китайских, корейских и японских мастеров, по той или иной причине делившихся тайнами своего искусства.
Это началось задолго до Октябрьской революции, а после нее, в Гражданскую войну, своих соратников в многочисленных красногвардейских и партизанских отрядах обучали китайские воины-интернационалисты. Среди них попадались мастера самых разных стилей кунг-фу.
И если до революции сават, джиуджитсу и «китайский бокс» были доступны, как правило, людям из разведок и охранки, то после нее приемы защиты и нападения широко распространились… Многие корейско-китайские приемы пришли в Россию раньше, чем о них узнали в других европейских странах» (стр. 203-204).
Оставляя на совести автора такие нелепости, как дореволюционный «китайский бокс», «корейские мастера» и широкое послереволюционное распространение иностранных систем в нашем гражданском обществе, я не могу не сказать об «интернациональной передаче китайского опыта».
Эти бездоказательные предположения представляются мне совершенно неосновательными. Действительно, в годы мировой войны в Россию завозили китайцев для замены на тяжелых и неквалифицированных работах призванных в армию россиян. Действительно, многие из этих задавленных нуждой и беспощадной эксплуатацией людей вступили в Красную армию и участвовали в боях. Однако же фактов упомянутого обучения никто и нигде не зафиксировал. Из уважения к теории вероятности можно согласиться, что могли быть какие-то исключительные единичные случаи показа отдельных приемов, но налаженного в армии такого обучения быть ни в коем случае не могло и действительно не было. Не тот это был контингент и гипотетических учеников, и инструкторских кадров и совсем не то время для организации обучения.
В действительности же, все ограничивалось тем, что к строевому пехотному уставу в 1919-м году было введено дополнение «Обучение штыковому бою», а В 1920-м принята Программа по физической подготовке запасных частей Красной Армии с впервые введенным разделом «Владение холодным оружием». В том же году принято «Временное руководство по велению рукопашного боя». Это был первый случай появления в наших нормативных армейских материалах термина «рукопашный бой», хотя приемов собственно рукопашного боя в обучении реально еще не появилось. Такими вот скромными были результаты на тот период.
Совсем не зря говорят, что самым постоянным является все временное. В 1929-м году появилось второе, исправленное издание, которое на этот раз именовалось «Временное руководство по обучению рукопашному бою в РККА». Истекшие долгие девять лет потребовались только для того, чтобы дополнить средства рукопашного боя ударами ноги и использованием в схватке подручных предметов.
Вышедшее через год третье издание, теперь уже как «Временное руководство по штыковому бою в РККА», фактически утратило следы рукопашного боя не только в названии, но и в самом тексте.
Нельзя сказать, что никто не догадывался о необходимости обучения красноармейцев искусству ближнего боя. Но, к сожалению, как это у нас до сих пор водится, разумные идеи уходили в песок, да и материальная сторона подводила. А ведь еще в 1923 году Президиумом Высшего совета физической культуры при ВЦИК была разработана Программа физической подготовки Красной Армии. Хотя и не лучшим образом отредактированная, она достаточно точно отвечала требованиям времени. В Программе говорилось: «Как бы ни высоко стояла современная техника военного дела, все же судьба отдельного боя, отдельных стычек и схваток нередко решается силою холодного оружия и рукопашной; кроме того, умение владеть холодным оружием и умение пустить в ход собственные кулаки и ноги имеет чисто моральное значение, дает каждому воину уверенность в своих силах до самого последнего момента и сознание, что он не беззащитен, пока у него в руках есть оружие или, если он почему-либо лишился его и остался без всего в руках, имеет полную возможность пустить в действие собственные кулаки и ноги». Для этого Программа ставила задачу обучить каждого бойца «элементарным способам защиты и нападения (бокса, джиу-джитсу, борьбы), как на противника с оружием, так и на безоружного; кроме того, имеется в виду изучение способов доставки пленных, не желающих подчиниться воле победителя…». Однако реализована эта, совсем не плохая Программа так и не была. Пехоту по-прежнему обучали только явно устаревшим и недостаточным методам ближнего боя: штык, приклад и, как последнее «достижение», удар коленом в пах или «каблуком по подъему ноги».


С 1924-го года было введено в действие руководство «Физическая подготовка Рабоче-Крестьянской Красной Армии и допризывной молодежи», состоявшее из девяти отдельных брошюр, каждая из которых освещала один из разделов руководства. Шестому разделу была посвящена книжка «Владение саблей» и «Владение винтовкой». И лишь через год после введения нового руководства, в 1925-м, вышло пособие по его последнему – девятому разделу «Способы защиты и нападения без оружия. Французская борьба, бокс, джиуджитсу». Эти единоборства преподносились как «в общей сложности, дающие ряд весьма ценных навыков по защите и нападению без оружия».
Излагались краткие сведения об их технике и методике преподавания. Для проведения спортивных состязаний по боксу и французской борьбе были опубликованы правила. Здесь тоже посчитали, что обучающиеся сами смогут понять, как наиболее эффективно комбинировать в бою приемы этих трех совершенно разных единоборств. И сильно уповали на запрещенные приемы французской борьбы: «двойной нельсон»; «ключ», то есть загиб руки за спину в партере; рычаг локтя на своем плече; тычок пальцами в глаза и «милицейский» рычаг локтя, который вторично также описывался и в главе, отведенной технике джиуджитсу. В ней приведены удары ребром ладони, локтем, коленом и «пяткой». Рекомендовались довольно сомнительные нажатия на девять чувствительных точек, из которых четыре защищены одеждой. Приведенные далеко не в самых лучших вариантах десять приемов в стойке представляли собой: два «пальцевых» удушения; три болевых – «милицейский» рычаг локтя, поворот предплечья во внешнюю сторону и рычаг локтя вверх через свое бедро в качестве контрприема при защите от удара палкой сбоку; пять бросков – захватом за талию с толчком ладонью другой руки в подбородок, обратное бедро с нырком под «наносящую улар палкой сверху руку противника», бросок с упором стопой в живот (от захвата противника за плечи), «мельница» для обезоруживания напавшего с револьвером. И совсем уже странный бросок захватом на передний пояс и нажимом подбородком на чувствительную точку груди противника.
Для работы на земле предлагались рычаг ступни противника, лежащего лицом вниз, а лежащему на спине – «пальцевое» удушение в комбинации с рычагом локтя на своем бедре или ступне. Следует сказать, что даже эти, во многом несовершенные приемы не являлись обязательными для изучения в армии, а преподавались лишь желающим в рамках клубной работы.
Авторы брошюры, как это принято для официальных армейских документов, названы не были, но, судя по характеру приемов, терминологии и прямым текстуальным соответствиям с его последующими книгами, автором джиуджитсной главы стал наиболее известный в то время специалист В.А. Спиридонов.
Нельзя не сказать, что это заведомо неудачное руководство получило самую лестную оценку на страницах учебника для курсантов и слушателей Ленинградского военного дважды краснознаменного института физической культуры «Рукопашный бой» в 1979 году: «Большим событием в развитии физической подготовки… и, в частности, рукопашного боя было введение в действие в 1924 году руководства «Физическая подготовка РККА и допризывной молодежи»… Руководство «Способы защиты и нападения без оружия (борьба, бокс, джиу-джитсу)» значительно обогащало рукопашный бой, так как включало приемы нападения и самозащиты, а также приемы обезоруживания противника.

Приёмы джиуджитсу приведенные в наставлении «Способы защиты и нападения без оружия»
Эти руководства сыграли положительную роль в определении содержания и методики обучения приемам рукопашного боя».
Думаю, что дело было здесь не в цензуре, а если и в цензуре, то только «внутренней». Тогда говорить о какой-то неудаче в любой из сфер советской действительности было весьма и весьма не принято. Впрочем, расхвалив поначалу руководство, авторы учебника тут же были вынуждены признать фактическое положение: «Данное руководство не получило широкого распространения в Красной Армии… а подготовка к рукопашному бою в войсках проводилась по-прежнему на занятиях по строевой и физической подготовке и сводилась преимущественно к отработке подготовительных упражнений с винтовкой».
Значительно откровеннее высказались А.М. Ларионов и А.Н. Потапчук в брошюре «Развитие рукопашного боя в Вооруженных силах СССР», выпущенной тем же институтом шесть лет спустя. Хотя и им тоже пришлось, в конце концов, подсластить пилюлю, и в тех же самых словах, что и в учебнике: «Приемы, включенные в третью главу «Джиу-джитсу» для рукопашного боя в Красной Армии, не представляли никакой практической ценности, поэтому они не получили широкого распространения, но вместе с тем (?!! – М. Л.) сыграли положительную роль в определении содержания и методики обучения приемам рукопашного боя».
Однако единственным, что можно было бы назвать положительным, явился тот отрицательный опыт, который принесла эта книжка.

Вскоре, в 1927-м году, вышла в свет книга того же Спиридонова «Руководство самозащиты без оружия по системе джиу-джитсу». Предназначалась она сотрудникам ОГПУ, но была официально одобрена и Инспекцией физической подготовки Красной Армии. Однако к числу обязательных для использования в армии отнесена не была. Если спиридоновская, чисто полицейская система в основном и удовлетворяла требования правоохранительных органов тех лет, то соответствовать возросшему мировому уровню военного рукопашного боя она уже не могла. Так что в этой области мы все еще заметно отставали от заграницы.
То же самое можно сказать и об оснащении методами рукопашного боя милиции. Царская полиция сделала в этом направлении всего лишь первый шаг и, не успев сделать второго, была разогнана в феврале 1917-го. В тяжелейших условиях войны и небывало возросшей преступности место старой полиции заняли революционные студенты с трехлинейками за плечом и иные случайные люди из добровольцев, не имевшие никаких профессиональных навыков. Одиозное слово «полиция» еще тогда заменили либерально-демократическим «милиция», то есть «народное ополчение», «вооруженный народ». Насколько известно, в этот период необходимые приемы самозащиты преподавались милиционерам только в одном российском городе – Владивостоке, где в здании клуба «Спорт» вел обучение единственный в стране дзюдоист первого дана В.С. Ощепков.
Пришедшая на смену демократически-керенской пролетарская милиция обладала таким же, если не еще более низким профессиональным уровнем. Однако все более нараставшая волна преступности заставляла начать работу по «ликвидации профессиональной неграмотности», в том числе и в области самозащиты. Эта работа, проходившая не централизованно, а разобщенно, местными силами, давалась с большим трудом. Однако в столице уже с 1920 года в Московской школе милиции В.А. Спиридонов начал преподавать курсантам джиу-джитсу.