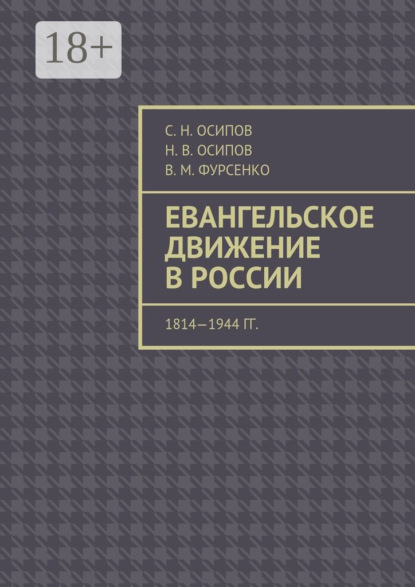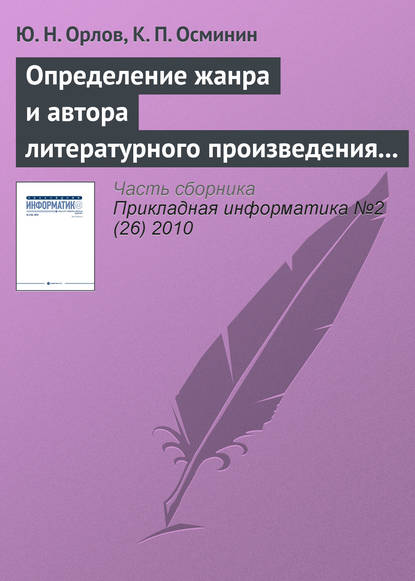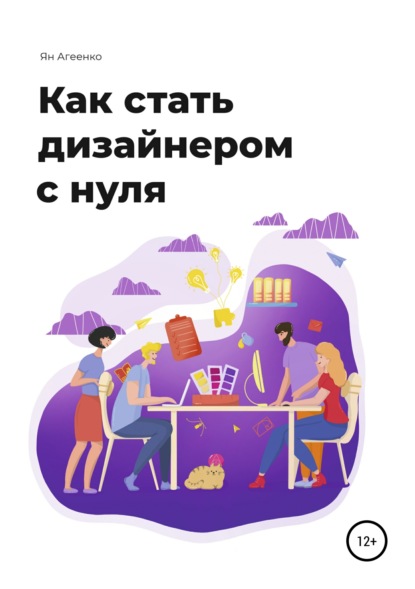Система САМ превращается в самбо
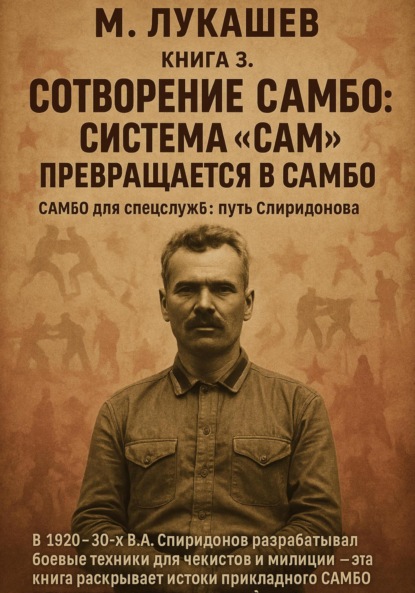
- -
- 100%
- +

Глава 1 Декабрьский «Огонек»
Среди всех боевых систем, практиковавшихся у нас в стране, самбо, безусловно, принадлежит особое место: это целая эпоха в истории нашего рукопашного боя. И это при том, что самбо – один из молодых видов спорта, лежащий в основе эффективной системы рукопашного боя. В 1998 году этот рожденный в нашей стране и ставший единственным нашим международнопризнанным вид спорта отметил всего лишь шестое десятилетие своего официального существования.
Однако же ни один другой пусть даже самый древний спорт, вероятно, не сможет похвастать столь же интересной, но невероятно запутанной и вызывающей такие яростные споры историей. Не только дилетанты, но даже ветераны – профессионалы никак не могут прийти к единому мнению в этом вопросе.
Случилось так, что произрастало самбо не из одного, а сразу из нескольких, к тому же противоречивых, корней. Города, ставшие в начале века его колыбелью, отстояли друг от друга на тысячи километров, а работавшие там основоположники долгие годы даже и не знали друг о друге, а встретившись, вступили в бескомпромиссную конфронтацию.
Словно для того, чтобы специально посильнее запутать своих будущих исследователей, даже сами названия нашей борьбы в одежде то и дело сменяли друг друга, мелькая, будто бы в калейдоскопе. Можно насчитать добрый десяток их до того, как пришло привычное современное наименование «борьба Самбо», то есть САМозащита Без Оружия. Но и в самом этом, окончательно принятом имени заложен вынужденный парадокс, который мы уже привычно не замечаем. А ведь борьба – это спорт, где строго запрещены опасные, членовредительные приемы, а самозащита, совсем наоборот, – система именно таких приемов, причиняющих противнику серьезные и даже смертельные повреждения.
Точно так же по-разному пытаются исчислять возраст этого замечательного единоборства. Кроме официального «дня рождения» – 16 ноября 1938 года, называют еще начало тридцатых годов, когда борьбу в одежде начали культивировать в Москве, проводя публичные состязания, и даже двадцатые годы время формирования одного из его прототипов.
Различные авторы, говоря о создателе самбо, его основоположнике, называют трех разных специалистов: В.С. Ощепкова, В.А. Спиридонова и А.А. Харлампиева. Причем, то кого-то одного, то всех вместе, а то – всего лишь двух из них. Впрочем, совсем недавно харьковчанин Г. Панченко, вероятно, решив, что этого недостаточно, «сопричислил к лику основоположников» еще двух старых специалистов: Нила Николаевича Ознобишина и Ивана Лукьяновича Солоневича. При этом, демонстрируя глубину своей эрудиции, первого из них он именует «Нилом Ниловичем», а второго – «Иваном Лаврентиевичем». В действительности же ни один из этих людей к созданию самбо не имеет никакого отношения, хотя каждый из них в свое время и написал руководство по рукопашному бою…
Но, однако, при всех этих разнотолках главным было, бесспорно, то, что над историографией самбо слишком долго и вредоносно довлела густо замешанная на крови политическая конъюнктура, откровенное невежество, историческая беспамятность и безнравственно болезненное честолюбие. Те, кому в былые большевистские времена доверялось писать о создании самбо, если даже и знали опасную правду, то всеми силами старались ее скрывать. А публике десятилетиями преподносились красивые, идеологически выверенные мифы.
Я очень давно заинтересовался этой историко-спортивной криптограммой и думаю, что, в конце концов, мне удалось расшифровать ее. Только уж очень непростым и долгим оказался этот путь к истине, потребовавший даже не годы, а десятилетия поисковой и исследовательской работы: слишком глубоко и тщательно, казалось бы, уже на веки вечные, были похоронены нежелательные подлинные факты. И слишком бдительно охраняли «захоронение» влиятельные лица, проложившие в этом мудреном лабиринте хитро придуманные ложные, тупиковые дорожки.
Задним числом бывает очень приятно преподнести себя этаким проницательным и мудрым человеком, сразу же все понявшим и все разгадавшим. Но честно признаюсь: не раз сбивали меня с толку эти ловко сварганенные фиктивно-прямолинейные тропинки. Пришлось и мне изрядно потоптаться на них. Неколебимо логичными и правдоподобными выглядели все сюжетные ходы этого прочно утвердившегося, официально утвержденного спортивного мифа. И лишь годами копившиеся очевидные факты все заметнее и беспощаднее размывали хитро заделанные и умело закрашенные трещины в этом «монолите». Крошилась и осыпалась веселенькая розовая штукатурка, обнажая зияющие дыры самой бесстыдной лжи, а процесс создания самбо вырисовывался вовсе не таким уж празднично нарядным и простецки прямолинейным, как преподносил его советский официоз. Увы, но в жизни, почти как и в физике, любое действие встречает противодействие. И за моей спиной лицемерно и ловко «притормаживали» публикацию разысканных мной правдивых сведений, а взамен «по-дружески» навязывали явно фальсифицированные «новые уникальные» материалы. А потом и вовсе постарались «перекрыть мне кислород» стараниями отдела идеологии ЦК КПСС…
Но шаг за шагом проникал я в тайны очень непростой истории создания этого замечательного единоборства самбо: часами просиживал в архивах, включая архивы КГБ и ГРУ; беседовал со многими ветеранами из первых поколений самбистов; отыскивал документы, книги, фотографии, публикации в старой периодике…
А все началось пасмурным декабрьским утром 1947 года, когда я достал из почтового ящика свежий номер «Огонька» и прочитал там увлекательный очерк писателя И. Рахтанова «История самбо».

Одна из публикаций очерка И. Рахтанова «История " САМБО"»
Совсем не часто выпадает на долю даже самых известных журналистов такой шумный успех и поистине неукротимый читательский интерес, какой достался в свое время рахтановскому очерку.
С тех пор минуло уже целых полвека, но я отлично помню, какое огромное впечатление произвел он на меня и моих юных сверстников. Его автор писатель и отличный журналист непосредственно со слов своего героя – Анатолия Аркадьевича Харлампиева, который уже стал бесспорным лидером в послевоенном самбо, замечательно живо и ярко рассказал о том, как создавался этот темпераментный вид борьбы и надежнейшая система самозащиты. Как во все времена, мальчишки и тогда бредили неотразимыми боевыми приемами, способными сделать их непобедимыми героями, и, я думаю, не было ни одного парня, который по много раз с волнением не перечитывал бы Рахтанова, смакуя живописные детали его повествования. Покоряла, к тому же, и абсолютная новизна информации. Очерк стал самым первым рассказом о самбо в массовой, а не специальной, спортивной печати. И если о джиу-джитсу знали тогда понаслышке почти все, то совсем недавно вошедшее в спортивный обиход самбо было известно еще очень немногим. Даже само название его, только что перешедшее в спорт с обложек специальных руководств по самозащите с грифом «Для служебного пользования», произносили зачастую неправильно, с ударением на последнем слоге – «самбо». Что же касается его происхождения, то об этом вообще знало считанное количество людей, которые к тому же, в силу определенных обстоятельств, предпочитали помалкивать.
А здесь вдруг на страницах журнала раскрылась нам во всей яркости своих живописных красок повесть о замечательном энтузиасте А. Харлампиеве, посвятившем свою жизнь созданию самбо и сумевшем успешно выполнить эту большую и далеко не простую задачу. Случилось же это так.
Отец Анатолия был профессиональным боксером и известным преподавателем этого спорта, а дед, по словам автора очерка, «знаменитым в Смоленской губернии кулачным бойцом». И хотя в русском национальном виде спорта кулачном бое «стенка на стенку» подножки были строжайше запрещены, дед был большим мастером этого типа бросков и якобы даже успешно использовал их в кулачном бою.
И вот, не по годам сообразительный мальчик однажды задумался, а кто же все-таки победит в настоящей боевой схватке: отец, соблюдающий в бою все каноны боксерского ринга, или дед, действующий не только кулаком, но и подножкой. Получалось, что одолеть должен все-таки дед. Уже повзрослев, Анатолий поделился этими давними своими раздумьями с отцом. И тот, вопреки всем своим корпоративно-боксерским соображениям, неожиданно согласился с сыном: подножка – действительно большая сила в боевой схватке. И даже посоветовал пойти в Нескучный сад, где летом собирались московские татары и устраивали импровизированные состязания по татарской борьбе «куряш». (Сейчас такой совет представляется мне довольно странным, так как именно подножки в «куряше» запрещены.)
Заметьте, что в очерке Анатолий говорит о своем отце как о человеке, вдохновившем его на создание борьбы самбо: «Первая мысль о моей учебе пошла от него. Это он посоветовал заняться национальными видами борьбы…» Следуя этому мудрому совету, Харлампиев-младший, так сказать, «пошел в народ»: тем же летом он отправляется на Кавказ, чтобы познать там грузинскую национальную борьбу «чидаоба». Начиналась его многолетняя учеба народной спортивной мудрости. И вот, изучив технику этого древнего темпераментного единоборства и уже возвращаясь домой, он «лежал на поскрипывающем матраце мягкого вагона и думал». Именно тогда, на матраце, его осенила сверхценная идея: он решил создать «борьбу советскую, борьбу вольного стиля». А для воплощения этой идеи в жизнь собрать наиболее эффективные приемы всех известных видов борьбы и сконструировать на этой базе новый и наилучший тип борьбы, который объединит достоинства всех своих предшественников и в то же время будет лишен их недостатков. Эта синтетическая и обладающая большим чисто прикладным значением борьба, в свою очередь, станет основой наиболее действенной системы самозащиты. И еще не одно лето бродил Анатолий по горным тропам Кавказа, постигая все премудрости азербайджанской борьбы гюлеш, армянской – кох, карачаевской, балкарской и многих других. А потом еще немало километров прошагал по знойным пескам Средней Азии, пристально присматриваясь к действиям местных борцов-пехлеванов и изучая все их мудреные ухватки. Оказалось, что этот подвижник обошел чуть ли не весь Советский Союз, кропотливо разыскивал и требовательно отбирал наиболее эффективные приемы национальных видов борьбы и самозащиты. Ни мало ни много, он целых «двадцать три вида народной борьбы нашел и изучил» и, плюс к этому, «пятнадцать видов зарубежной борьбы тщательно изучил».
Засел он также за изучение древних народных преданий, былин, старинных летописей и манускриптов, выискивая в них описание использовавшихся в былых схватках приемов. Не забыл Анатолий и проштудировать иностранные книги, посвященные таким боевым видам спорта, как бокс, борьба, дзюдо, джиу-джитсу. А уж только затем, на благодатной основе всех этих богатейших познаний, абсолютно самостоятельно и единолично, но, тем не менее, вполне успешно сконструировал задуманную борьбу и самозащиту, создав свою «принципиально новую и наилучшую советскую систему».
Эпизод, в котором Анатолий знакомил, наконец, товарищей-спортсменов с неотразимыми приемами своей борьбы, был, разумеется, самым выигрышным, «ударным» местом очерка. О нем Рахтанов повествовал особенно ярко и взволнованно.
Летом 1938 года в Москву из всех союзных республик съехались борцы на первый всесоюзный сбор по борьбе дзюдо. И вот тогда старший тренер сбора Харлампиев неожиданно обратился к участникам сбора с такими словами: «Призываю вас отдать все свои силы родной советской борьбе вольного стиля вместо того, чтобы заниматься чуждой нам японской экзотической борьбой «дзю-до»».

Вырезка из журнала физкулътура и спорт», № 11, 1982
Сама форма призыва к «родной советской» никого удивить не могла: в те годы пышным цветом цвели такие вот невероятно пламенные, но неискренние высказывания. Присутствующих поразило другое: «родной советской» вообще еще не было!
– Она есть, – решительно ответил старший тренер и сейчас же начал демонстрировать сомневающимся чудеса своей неуязвимости и мощи, блестяще победив каждого. Один из них тотчас «летит вверх ногами». Еще одно нападение на изобретателя новой борьбы кончается тем, что «противник распростерт». Атаку очередного нападающего азербайджанца Ахмедова – неустрашимый и неуязвимый Харлампиев встречает с плотно завязанными глазами. «Все увидели быстрое мелькание тел и услышали голос Ахмедова:
– Сдаюсь!
– Болевой прием, – спокойно пояснил Анатолий Аркадьевич, снимая повязку.
– Очень коварный прием, употреблялся в монгольской борьбе времен Тамерлана. Я применил его в ответ на нападение сзади».
Однако недоверчивый Ахмедов подозревает, что Харлампиев все-таки видел его из-за неплотной повязки, и просит повторить эксперимент уже с плотно завязанными глазами. Вы, конечно, догадываетесь, что результат был столь же неутешительным для Ахмедова. «Он напал сбоку и снова оказался поверженным». Теперь уже никто не смел сомневаться в небывалых качествах харлампиевского детища, все дружно начали изучать, практиковать и совершенствовать его борьбу. Ее и решили назвать «самбо», так как она давала возможность защищаться от нападения даже без оружия.
Имевший необычайно шумный успех очерк Рахтанова раз шестнадцать, если не больше, перепечатывался в различных журналах и сборниках. Мало того, спортивные журналисты, не очень любившие самостоятельный сбор, а тем более – проверку исходных материалов, наперебой бросились разрабатывать завлекательный рахтановский сюжет, который прямо-таки на глазах обретал величественные мраморно-бронзовые контуры подлинной истории.
Разве могли мы, юные спортсмены, заподозрить тогда, что был это удивительный случай, когда человек ловко и беззастенчиво сам о себе творил спортивную легенду?
Рахтанов, словно Колумб, открывал для широкой публики новый спортивный континент, но так же, как тот мореплаватель, не смог избежать серьезнейшего и досадного заблуждения!
Разумеется, я, как и мои молодые сверстники, в ту пору свято верил любому печатному слову, и харлампиевская версия не вызывала у меня даже тени сомнения. Единственное, что меня несколько смущало и оставалось непонятным, – почему Рахтанов в своем интересном очерке не нашел нужным упомянуть о В.А. Спиридонове, заведомо раньше Харлампиева начавшем работать в области самозащиты и создавшем именно ту систему, которую он назвал «самбо»?
Дело в том, что в те годы я был уже знаком с этой системой, хотя еще ровным счетом ничего, кроме фамилии, не знал о ее авторе. Именно это чисто практическое знакомство со спиридоновской системой и недоумение по поводу умолчания о ней у Рахтанова и стали первым импульсом, давшим начало моему поиску. Сначала это была работа только для самого себя, всего лишь ради удовлетворения собственного интереса. И лишь со временем я осознал ее отнюдь не камерное, а чисто публичное спортивно-историческое значение. Ее важность для документально точного воссоздания подлинной, а не измышленной истории борьбы самбо и воздания должного памяти ее неблагодарно забытых первооткрывателей.
По младости лет и в силу своего полного незнания я даже приблизительно не мог представить, какую труднейшую и долговременную задачу поставил перед собой. Разве мог я тогда догадываться, какие мыслимые и немыслимые барьеры предстояло преодолевать? И разве поверил бы тогда, в конце сороковых, что смогу добывать необходимые сведения не только в открытых, но и строжайше засекреченных архивах? Таких, как архив КГБ или Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил?!
Для меня началась необыкновенно увлекательная ЭПОХА ВЕЛИКОГО ПОИСКА! Работа становилась все интереснее и вместе с тем значительно сложнее. Чем основательнее я углублялся в свои разыскания, тем больше расширялось поле предстоящей работы. Стоило разгадать одну загадку, как в ней, словно в игрушечной матрешке оказывался десяток новых и еще более непонятных.
И если бы я трудился в силу каких-то рутинных служебных обязанностей, то абсолютно уверен, что не смог бы набраться терпения и на одну десятую той работы, которая была проделана. Но меня неутомимо вел вперед неугасимый исследовательский, если хотите, даже следовательский азарт, заболев которым, уже никак от него не избавишься. А на определенном этапе возник и еще один могучий стимул: горячее сочувствие и обида за горькую судьбу В.С. Ощепкова, талантливого человека, оболганного и опозоренного, безвинно погибшего в сталинском застенке. Замечательного специалиста, прочно забытого на долгие десятилетия по приказу свыше и воровски лишенного своего бесспорного приоритета в области создания борьбы в одежде у нас в стране. Однако это – ощепковское – направление поиска появилось значительно позднее, а в те начальные годы я знал только лишь о Спиридонове, и, естественно, мои разыскания начались именно с него…
Глава2 Удачное начало
Когда говорят о послевоенной разрухе начала двадцатых годов, представляют полузатопленные шахты, поросшие травой заводские дворы, искалеченные, ржавеющие в тупиках паровозы. Но наследство семи тяжких военных лет этим вовсе не исчерпывалось. Война калечила не только железо. Еще никогда до этого в стране не было такого количества профессиональных преступников. Щедро раскиданное войной оружие оседало в их руках.
Бесчинствовали недобитые банды разнокалиберных батек, всех этих «Ангелов», «Огальцов», «Марусь». В лесах оседло обитали «зеленые» – диковинный анархистский конгломерат уголовников в бегах и дезертиров. Да и не только леса становились бандитской вотчиной. Надежно скрытые, затерянные в бесчисленных переулках крупных городов во всю процветали воровские «малины», где до поры до времени уголовники тоже чувствовали себя довольно уютно.
В свое время одним из прекраснодушных, но не слишком мудрых жестов Временного правительства стала всеобщая и полная амнистия, размашисто распространенная даже на самых опасных из уголовных преступников. После этого «милостивого» деяния все ветераны ножа и отмычки, все, даже самые закоренелые, негодяи и убийцы вновь оказались на свободе и, поощренные безнаказанностью, с новым пылом принялись за свое привычное грязное ремесло. Бурные события Гражданской войны не позволили организовывать достаточно широкую и эффективную борьбу со всей этой публикой, а бесчисленные ватаги беспризорных являлись для них богатым резервом при вербовке подручных.
Хорошо вооруженные, крепко спаянные угрожающим, густо замешанным на крови авторитетом главаря, банды тех лет представляли очень большую опасность. Впрочем, при нынешней суперпреступности, положение того тяжкого времени нам совсем нетрудно представить.
Существовала и еще одна угроза: уже не уголовная, а чисто политическая. Недостаточно надежно охранявшиеся тогда наши границы переходили не только жаждавшие наживы, хорошо вооруженные контрабандисты, но еще и целые стаи шпионов, террористов, диверсантов, связных, разномастных заговорщиков. И, конечно же, все они получали щедрую помощь и поддержку из-за рубежа…
Можно как угодно относиться к красным и белым, но при этом исходить исключительно лишь из подлинных фактов и излагать их правдиво. Без той откровенной политпроституции, которая таким зловонно пышным цветом расцвела за последние годы в наших неподкупно-демократических средствах массовой информации.
Да, это истинная правда, что среди белой эмиграции было очень много честных, самоотверженных и талантливых людей. Но правда и то, что эмигрантские круги тесно сотрудничали со множеством иностранных разведок, поставляя им опытных и смелых людей, которые направлялись на территорию своей родины для ведения шпионажа, осуществления провокаций, террора и диверсионных актов: взрывов, поджогов, крушения поездов. А гибли при этом ни в чем не повинные русские люди. И уж здесь приходилось самым решительным образом бороться как со своими «родными» диверсантами и шпионами, так и с чисто иностранным «импортом».
Просто невероятным кажется нам теперь, что не имевшие специальных познаний и даже достаточного практического опыта чекисты и милиционеры смогли обуздать всю эту преступную свору. Но это было так. Борьба велась отчаянная и беспощадная, она затянулась на несколько лет. И сколько раз оперативным работникам приходилось слышать короткий, всего в два слова приказ: «Взять живым!»
Взять живым… А «брать» приходилось и увешанных оружием головорезов, и шпионов, вышколенных японскими профессорами дзюдо. Им нечего было терять, на убийство они шли, не задумываясь. Только мелькали лезвия бандитских финок, и прямо в глаза заглядывал дульный срез браунинга или нагана…
Очень были нужны в этих смертельных поединках простые, безотказные приемы обезоруживания и задержания. Но очень немногим было известно тогда имя человека, которому довелось начинать выполнение этой нелегкой и непростой работы, – Виктор Афанасьевич Спиридонов.

Виктор Афанасьевич Спиридонов.
Когда я начал собирать материал о Спиридонове, то рассчитывал, прежде всего, разыскать его родственников, обстоятельно побеседовать с ними, изучить сохранившиеся у них документы, записи, книги, фотографии. И, конечно же, в архиве детально ознакомиться со служебным личным делом Виктора Афанасьевича. Тогда со дня смерти старого самбиста прошло не так уж много времени, еще были живы многие его ученики, сослуживцы. Казалось, что поиски не должны встретить особых затруднений. Но так, к сожалению, только казалось, и нельзя было не подивиться, как безжалостно стирает иногда время следы даже недавних событий. Конечно, влияло здесь и то, что не только сами чекисты, но и связанные с их работой люди по долгу службы были обязаны всегда оставаться «в тени» и избегать излишней огласки. Естественно, что о Спиридонове не существовало ни одной публикации. Но и этим дело вовсе не ограничивалось.
Детей у Виктора Афанасьевича не было, а его жены, братьев и сестры уже не оказалось в живых. После долгих розысков в различных архивах и многочисленных запросов, я получил официальное сообщение о том, что личное дело, заведенное на Спиридонова как на работника «Динамо», было уничтожено в военном сорок первом году. Человеческая память, увы, тоже оказалась не абсолютной. От бывших сослуживцев Виктора Афанасьевича я услышал лишь то, что он являлся старейшим советским знатоком самозащиты без оружия и по этой специальности лет двадцать проработал в «Динамо» еще в довоенные времена. И почти абсолютно никаких сведений о дореволюционной биографии Спиридонова. Откуда он был родом, где учился, какую первоначально имел профессию и еще многое, многое, из того, что составляет жизнеописание человека и что рисует нам его характер, оставалось совершенно неизвестным, начисто отсутствовало. А между тем, были все основания предполагать, что личность эта была незаурядная и достаточно интересная. Даже один лишь характер проделанной Виктором Афанасьевичем работы красноречиво свидетельствовал об этом…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.