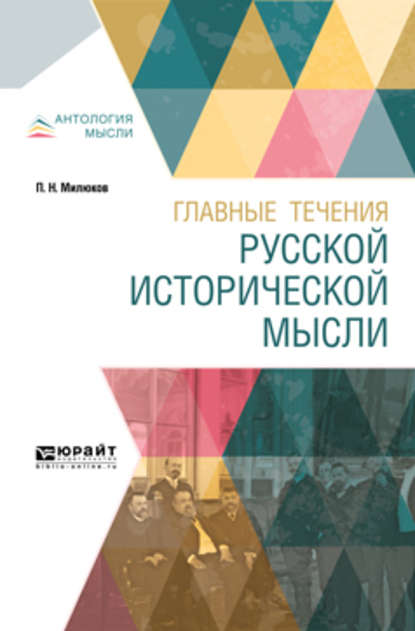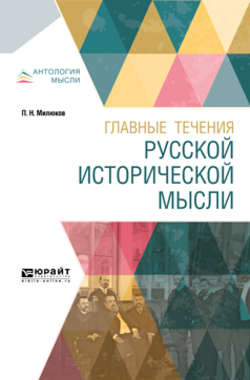
000
ОтложитьЧитал
Лучшие рецензии на LiveLib:
red_star. Оценка 96 из 10
Несмотря на то, что Милюков книгу не дописал (даже до признанных титанов историографии XIX века не довел), первой части почти хватает для изумления. Для усиления впечатления я читал электронную копию издания конца XIX века, с ерами и ятями, но прелесть оказалась не в этом (разница в орфографии удивительно быстро перестает ощущаться), а в том причудливом мире идей, что владели умами в веке XVIII (и начале XIX).Мир этот был молод и потому свободен в построениях. Милюков пишет о том, как складывалась традиция, как появилась стандартная схема, с которой с тех пор все время спорят и/или соглашаются (Киев-Владимир-Москва с легкими вариациями). Схема вроде бы действительно сложилась, но какие вулканы идей ее породили! Сколько отсебятины и удивительного воображения! Милюков тщательно копает работы наших историков, пытаясь найти в них оригинальность или вторичность (по отношению к европейским образцам), но меня увлекли именно странные метафоры и другая, совсем другая канва самих повествований, что у Ломоносова, что у Щербатова, что у Болтина (и других причастных). Начать с того, что Европа делилась не на Западную и Восточную, а на Север и Юг, и довольно долго что наши доморощенные специалисты, что западные визитеры писали общую историю Севера, в которую пытались встроить наши нарративы. Странно осознавать (не в первый раз, конечно), что все или почти все зависит от точки отсчета.Поражают (меня, по крайней мере) и метафоры. Вот сермяжный Ломоносов, узколобый патриот, сильно навредивший развитию чистой науки (если верить Милюкову), пишет, что история наша не уступает римской. Судите сами – у них первые цари, у нас первые киевские князья, у них республика с гражданскими войнами, у нас раздробленность. У них могучая империя, у нас самодержавие. Занятно, насколько даже в наших краях многих зачаровывала античность как непреходящий образец. Милюков, как видно из вышеприведенной характеристики, Ломоносова не любит, что резко контрастирует с устоявшимся взглядом на него как нашего Леонардо, и тем интереснее читать текст Милюкова, без закрепившегося, насколько я понимаю, в сталинские годы канона (хотя порой наезды кажутся странноватыми). Поразила меня (хотя бы потому, что ничего я о них раньше не слышал) и школа Каченовского. Еще в начале XIX века дошли они до мысли, что вся наша ранняя история – выдумка, скорее всего новгородцев XIII века. Школа эта стала пусть короткоживущей и пустоцветной виньеткой, но вполне закономерной реакцией на прежние фантастические представления. Скепсис родился не на пустом месте – взять хотя бы концепцию кожаных кредитных билетов, якобы существовавших в Киевской Руси. Такие небылицы и вызвали к жизни полный скепсис, которой, однако, перегнул палку (заставив, однако же, историков пытаться критически относиться как к источникам, так и к коллегам).В целом интересная и поучительная книга. Люди всегда люди, ссорятся, охотятся за и отстаивают приоритеты, страдают от безденежья (в случае профессионалов) или от нехватки времени (в случае сановных любителей). Все стоят планы, которые редко выполняют. Кто-то считает нужным приукрашивать ради пользы государства, кто-то ради гражданских идеалов, кто-то декларирует непредвзятость, только воплощать ее в жизнь не может. Кому-то кажется, что вся ясно, вот она, история, кто-то видит непаханое поле, необъятное, и посвящает жизнь сбору первичных документов. Все это волнами, на разных витках спирали, все в непрерывном и хаотическом движении. Все как всегда, только следы остаются. Любопытные следы. P.S. Да, Карамзин, по Милюкову, балабол, а Чаадаев – католический реакционер. И если взгляд на Карамзина почти современный, то с Чаадаевым интересно – его при Сталине тоже возвели на пьедестал, а он, оказывается, все о вселенской церкви с милым папой мечтал. Как минимум ракурс необычный.
Издательство:
ЮРАЙТСерии:
Антология мыслиКниги этой серии:
- Избранные труды
- Психология и педагогика. Избранные труды 2-е изд.
- Методика воспитательной работы. Избранные труды
- Педология 2-е изд.
- Социология. Сочинения в 2 т. Том 2
- Круг чтения в 3 ч. Часть 2
- Педагогика. Избранные сочинения в 2 т. Том 1 2-е изд.
- Психология общая и экспериментальная 2-е изд.
- Социология. Сочинения в 2 т. Том 1
- Россия и европа 2-е изд.
- Социальные основы кооперации
- Наука и религия
- Избранные педагогические сочинения
- Избранные педагогические сочинения
- Этика 2-е изд.
- Философия права. Избранные сочинения 2-е изд.
- Сочинения в 2 ч. Часть 2. Философия общего дела. Статьи, письма 2-е изд., испр. и доп
- Круг чтения в 3 ч. Часть 3
- Государственность и анархия. Избранные сочинения
- История науки. Сочинения
- Философия хозяйства
- Сочинения в 2 ч. Часть 1. Философия общего дела
- Определение и основное разделение права
- Наука гражданского права в России
- Педагогика. Избранные сочинения в 2 т. Том 2 2-е изд.
- Педагогика. Избранные работы 2-е изд.
- Физиология. Избранные труды 2-е изд.
- Круг чтения в 3 ч. Часть 1
- Избранные сочинения в 2 т. Том 1
- История литературы. Поэтика. Избранные труды
- Теория права и государства в связи с теорией нравственности в 2 ч. Часть 2
- Курс торгового права в 4 т. Том 1. Введение. Торговые деятели
- Лекции по философии права. Избранные произведения
- Избранные сочинения в 2 т. Том 2 2-е изд.
- Курс торгового права в 4 т. Том 3. Вексельное право. Морское право
- Лекции по психологии. Мышление и речь
- Психология искусства
- Теория права и государства в связи с теорией нравственности в 2 ч. Часть 1
- Философические письма. Статьи и письма
- Сравнительная фонетика индоевропейских языков
- Курс торгового права в 4 т. Том 4. Торговый процесс. Конкурсный процесс
- Сравнительная морфология индоевропейских языков
- Сравнительное языковедение
- О литературе. Избранные статьи
- Курс торгового права в 4 т. Том 2. Товар. Торговые сделки
- Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) языка
- Психология развития. Избранные работы
- История развития высших психических функций
- Философия науки. Избранные работы
- Избранные философские сочинения в 2 т. Том 1
- Вопросы детской психологии
- Избранные философские сочинения в 2 т. Том 2
- Философская публицистика в 2 т. Том 2
- Философская публицистика в 2 т. Том 1
- Борьба за логос. Философские произведения
- Мысль и язык. Избранные работы
- О литературе. Избранное
- Психология поведения. Избранные труды
- Национальный вопрос в России
- Педагогика. Избранные сочинения
- Избранные философские труды в 2 т. Том 2
- Нравственные начала в уголовном процессе. Избранные работы
- Режиссура и актерское мастерство. Избранные работы
- Символы и мифы. Избранные работы
- Избранные философские труды в 2 т. Том 1
- Чтения о богочеловечестве
- Философия искусства. Избранное
- Социоцентрические религии. Монография
- Избранные литературно-эстетические работы
- Философские произведения. Избранное
- Древности русского права в 4 т. Том 4
- Древности русского права в 4 т. Том 3
- Статьи о русской литературе. Избранное
- Древности русского права в 4 т. Том 1
- Общее языкознание. Избранные труды
- Эстетические отношения искусства к действительности. Избранные работы
- Опыт описательной минералогии
- Древности русского права в 4 т. Том 2
- Историческая морфология русского языка
- Педагогика. Избранные труды
- Этюды о природе человека 6-е изд.
- Русские эстетические трактаты в 2 т. Том 1. Классицизм
- Русские эстетические трактаты в 2 т. Том 2. Романтизм
- Источники права и суд в древней России. Опыты по истории русского гражданского права
- Избранные сочинения по физиологии. В 2 ч. Часть 1
- Труд в его психическом и воспитательном значении. Избранные сочинения
- Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 1
- Детский мир и хрестоматия в 2 ч. Часть 2
- Физиология. Избранные произведения в 4 ч. Часть 4
- Исторический метод в биологии
- Введение к полному изучению органической химии
- Западноевропейский театр на рубеже XIX и хх столетий. Очерки
- Детский мир и хрестоматия в 2 ч. Часть 1
- Избранные сочинения по физиологии. В 2 ч. Часть 2
- Педагогическая антропология в 2 т. Том 2
- Лекции в ярославском лицее. Избранные педагогические сочинения
- Введение в патологическую рефлексологию
- Физиология. Избранные произведения в 4 ч. Часть 2
- Основы химии в 4 т. Том 1
- Педагогическая антропология в 2 т. Том 1
- Физиология. Избранные произведения в 4 ч. Часть 3
- Иммунология. Избранные работы
- Основы химии в 4 т. Том 2
- Мысли и заметки о русской истории. Избранные сочинения
- Основы химии в 4 т. Том 3
- Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 2
- Лекции о почвоведении. Избранные труды
- Почвоведение
- Родное слово в 2 ч. Часть 2
- Основы химии в 4 т. Том 4
- Жизнь растения
- Родное слово в 2 ч. Часть 1
- Физиология. Избранные произведения в 4 ч. Часть 1
- Наш умственный строй. Избранные сочинения
- Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 5
- Проекты реформ
- Объективная психология
- Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 6
- Математика и ее значение для человечества
- О законах. Избранные работы и письма
- Архитектурные формы античности
- Ракетная техника. Избранные работы
- Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 3
- Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 4
- Внешняя политика. Избранные работы
- Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о галльской войне, о гражданской войне, об александрийской войне, об африканской войне
- Избранные работы по экономике
- История мусульманства
- Динамика полета. Избранные работы
- О хвостах комет
- История Древней Греции. Учебник для вузов
- Лекции по истории средневековья
- Хроматографический адсорбционный анализ
- Механика жидкости и газа. Математика. Общая механика. Избранные труды
- Механика тел переменной массы. Избранные труды
- Курс истории России хiх века
- Наполеон
- Субгармонические функции
- Беседы о механике
- Талейран
- О символизме. Избранные работы
- Лекции по аналитической механике
- Смысл жизни
- О театре и драматургии. 1840-1848 годы
- Жизнь леонардо да винчи
- Очерки из истории латинского языка
- О литературе и искусстве. Избранное
- О театре и драматургии. 1831-1840 годы
- О поэтах и поэзии. Избранное
- Исторические портреты
- О театре. Избранные статьи и письма
- Лекции алгебраического и трансцендентного анализа
- О театре. Избранные статьи
- Латинско-русский словарь в 2 ч. Часть 2. От n до z
- Латинско-русский словарь в 2 ч. Часть 1. От a до m
- Легенды и мифы древней греции
- Патриархи российского права. Избранные труды русских правоведов конца XVIII – начала XIX веков. В 2 т. Том 2
- Больная Россия. Эссе
- О русских писателях. Избранное
- Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей
- Державин. Жизнь василия травникова
- Патриархи российского права. Избранные труды русских правоведов конца XVIII – начала XIX веков в 2 т. Том 1
- История крестовых походов
- Обмен веществ и превращение энергии в растениях. В 2 ч. Часть 2
- Императоры
- Очерки по истории византийской образованности
- Обмен веществ и превращение энергии в растениях. В 2 ч. Часть 1
- Дьявол в быте, легенде и в литературе средних веков
- Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь брокгауза и ефрона) в 10 т. Том 7. «прекарий» – «Россия: свод законов»
- Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь брокгауза и ефрона) в 10 т. Том 5. «лешков» – «опека»
- Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь брокгауза и ефрона) в 10 т. Том 8. «Россия: торговое право и судопроизводство» – «страхование»
- Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь брокгауза и ефрона) в 10 т. Том 6. «определение» – «презумпция»
- Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь брокгауза и ефрона) в 10 т. Том 2. «bona fides» – «гражданский истец»
- Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь брокгауза и ефрона) в 10 т. Том 4. «кабала» – «лесной устав»
- Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) в 10 т. Том 3. «гражданский оборот» – «истребование документов»
- Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь брокгауза и ефрона) в 10 т. Том 1. «абандон» – «болонский университет»
- Наука и религия: гносеологические очерки. Монография
- Социология и общество: научное познание и этика науки. Монография
- Избранные труды. Анализ
- Избранные труды по общей теории права, гражданскому и торговому праву в 2 т. Том 2
- Теория чисел. Теория вероятностей. Теория механизмов
- Культура и религия: сакрализация базовых идеалов. Монография
- Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь брокгауза и ефрона) в 10 т. Том 9. «строительные общества» – «фабричное законодательство»
- Мазепа
- Избранные труды по общей теории права, гражданскому и торговому праву в 2 т. Том 1
- Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь брокгауза и ефрона) в 10 т. Том 10. «фабричное законодательство в России» – «ярмарочный вексель»
- История государства российского в 12 т. Тома IX—x
- Очерки по истории русской церкви в 3 ч. Часть 3
- Вселенские соборы в 2 ч. Ч. 2
- Этюды оптимизма
- Учение о доминанте
- Очерки по истории русской церкви в 3 ч. Часть 2
- Очерки бородинского сражения
- История государства российского в 12 т. Тома i—ii
- Этюды по русской иконописи
- Очерки по истории русской церкви в 3 ч. Часть 1
- История государства российского в 12 т. Тома III—IV
- Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях
- История государства российского в 12 т. Тома vii—VIII
- Травопольная система земледелия
- Литературные и исторические портреты
- О чайковском, русской музыке и музыкантах. Избранное
- История государства российского в 12 т. Тома v—vi
- История инквизиции
- Книговедение. Библиографоведение. Избранные работы
- История русской революции. Избранные сочинения
- Статьи о русской литературе
- Опера. Избранные статьи
- Так говорил заратустра. Рождение трагедии или эллинство и пессимизм
- Смысл творчества. Опыт оправдания человека
- Вселенские соборы в 2 ч. Ч. 1
- Закат европы
- Литературная критика. Фельетоны
- Философия свободы
- История государства российского в 12 т. Тома xi—xii
- История византийской империи в 8 т. Том 8
- История византийской империи в 8 т. Том 1
- История византийской империи в 8 т. Том 6
- Как работал достоевский
- Записки и воспоминания
- Политика
- Английские путешественники в московском государстве в XVI веке
- Богдан хмельницкий в 2 ч. Часть 1
- Происхождение христианства
- История новой арабской литературы (xix – начало XX века) в 2 ч. Часть 2 2-е изд.
- Записки
- Богдан хмельницкий в 2 ч. Часть 2
- Основные понятия истории искусств
- Жизнь пушкина
- Избранные педагогические сочинения
- Исторические очерки в 2 ч. Ч. 1
- История византийской империи в 8 т. Том 7
- История новой арабской литературы (xix – начало XX века) в 2 ч. Часть 1 2-е изд.
- Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях
- История византийской империи в 8 т. Том 2
- История византийской империи в 8 т. Том 5
- История византийской империи в 8 т. Том 4
- Введение в языкознание для востоковедов
- Страницы моей жизни
- Два града: исследования о природе общественных идеалов
- История византийской империи в 8 т. Том 3
- Исторические очерки в 2 ч. Ч. 2
- Золотой осел
- Избранные работы по языкознанию
- Из записок по русской грамматике. Об изменении значения и заменах существительного в 2 ч. Часть 2
- Основы теории чисел
- Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века
- Мнение русского гражданина. Избранная публицистика
- Очерк происхождения и развития семьи и собственности
- Русская история
- Из записок по русской грамматике. Об изменении значения и заменах существительного в 2 ч. Часть 1
- Певческий голос в здоровом и больном состоянии
- Из записок по русской грамматике. Составные члены предложения и их замены в 2. Ч. Часть 1
- Путешествие в тянь-шань
- Из записок по русской грамматике. Составные члены предложения и их замены в 2. Ч. Часть 2
- Статьи о русской музыке
- Человек в теории культуры. Избранные труды. Учебное пособие для вузов
- Морфология искусств. Учебное пособие для вузов
- Письма темных людей
- Теоретические проблемы философии. Избранные труды в 2 ч. Часть 2
- Проблемы теории культуры. Избранные труды
- Когда европа была нашей: история балтийских славян
- Теоретические проблемы философии. Избранные труды в 2 ч. Часть 1
- Град петров в истории русской культуры 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов
- Трагедии
- Проблемы методологии гуманитарного познания. Избранные труды для вузов
- Статьи и сочинения в 3 т. Том 1. О русской литературе
- Философия искусства. Се человек
- Песнь о Роланде
- История рабства в античном мире в 2 т. Т. 1. Рабство в Греции 2-е изд.
- Одиссея
- Оправдание добра. Нравственная философия
- Разыскания о русских летописях в 2 ч. Часть 2
- Избранные труды по психиатрии
- Юродивые и кликуши. Очерки по истории нищенства
- Годы странствий
- Гипноз. Внушение. Телепатия
- Метафизика
- Система философии в 2 ч. Часть 1
- О русском крестьянстве
- Познание и действительность
- Разыскания о русских летописях в 2 ч. Часть 1
- История города Рима в Средние века в 4 ч. Часть 2. Книги 5-7
- Главные течения русской исторической мысли
- О Достоевском. Избранные работы 14-е изд.
- История города Рима в Средние века в 4 ч. Часть 4. Книги 10-12
- Очерки по церковно-политической истории киевской руси x-XII вв
- Историческая грамматика русского языка в 2 ч. Часть 2. Синтаксис
- Опавшие листья
- Об опере и балете
- Чтения и рассказы по истории России в 2 ч. Часть 2. Из истории XVII-XVIII веков
- Уединенное. Избранные работы
- История города Рима в Средние века в 4 ч. Часть 1. Книги 1-4
- Статьи и сочинения в 3 т. Том 3. Музыка, театр, история, философия, живопись, наука
- История города Рима в Средние века в 4 ч. Часть 3. Книги 8-9
- Афоризмы и максимы
- Ислам. Культура мусульманства
- Сущность христианства
- История рабства в античном мире в 2 т. Т. 2. Рабство в риме 2-е изд.
- Гоголь в жизни. В 2 ч. Часть 1
- Введение в изучение современных романских и германских языков
- В погоне за провокаторами
- Философия трагедии. Избранные работы
- Избранное
- Введение в изучение социологии
- Гражданское право. История русского судоустройства
- Историческая грамматика русского языка в 2 ч. Часть 1. Этимология
- Избранные философские сочинения
- Конфуций. Будда Шакьямуни
- Литературно-критические статьи
- Смутное время
- Всходил кровавый Марс. По следам войны
- Очерки из истории средневекового общества и государства
- Чтения и рассказы по истории России в 2 ч. Часть 1. С древнейших времен до XVII века
- Система философии в 2 ч. Часть 2
- Очерк истории русской культуры
- Статьи и сочинения в 3 т. Том 2. О литературе Европы и Америки
- Гоголь в жизни. В 2 ч. Часть 2
- Покрывало Изиды
- Государство, церковь, общество. Избранные статьи
- Очерк истории русской промышленности
- История. В 2 ч. Часть 1
- История кабаков в России
- Основы русского военного искусства
- Музыка в мире искусств 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов
- Педагогическая поэма в 2 кн. Книга 2
- Русские над Индией
- Князья и монархи. Избранные труды
- Иван Грозный. Борис Годунов. Смутное время
- Об искусстве и литературе
- Педагогическая поэма в 2 кн. Книга 1
- История. В 2 ч. Часть 2
- Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы
- Воспоминания террориста
- Очерки по истории западноевропейского театра
- Ценность жизни
- Записки революционера
- Очерк истории русской торговли
- Лекции по истории фортепианной литературы. Краткий курс лекций
- История медицины
- Сравнительное языкознание в России
- "Я" и «Оно». Избранные работы
- Вырождение
- Драма и театр эпохи Шекспира
- Лекции по истории. Сочинения
- Об общественном договоре или принципы политического права
- История оперы
- Гамлет и другие опыты в содействие отечественной шекспирологии
- Чингис-хан
- Тацит
- О литературе, живописи, театре
- Очерки русской исторической географии. География начальной летописи
- Очерки из экономической истории средневековой Европы
- О Шопене
- Эволюция религиозных верований
- Театр
- Международные отношения 1870-1918 гг. Сборник документов
- Лиля Брик. Письма и воспоминания
- История письма в Средние века
- Лингвистика и поэтика
- 1812 год
- О русском языке и литературе. Избранное
- Силуэты русских писателей в 2 т. Том 1
- Наброски и очерки ахалтекинской экспедиции 1880-1881 гг
- История альбигойцев и их времени. Часть 1. До кончины папы Иннокентия III
- Нашествие Наполеона на Россию
- Система торговых действий. Критика основных понятий торгового права
- История альбигойцев и их времени в 2 ч. Часть 2. Первая инквизиция
- Образование великорусского государства
- Пир. Апология Сократа
- Авторское право на литературные произведения
- Избранные географические работы
- От Грибоедова до Анненского. Избранные очерки
- Политический трактат
- История русского таможенного тарифа
- Конституция рсфср 1918 года 3-е изд. Учебное пособие
- О Глинке, Мусоргском, Листе. Избранные статьи
- Былое и думы в 3 т. Том 1
- Древний Египет
- Лекции по эстетике
- Истоки и смысл русского коммунизма
- Силуэты русских писателей в 2 т. Том 2
- Былое и думы в 3 т. Том 2
- Былое и думы в 3 т. Том 3
- Очерки современной англо-американской философии (конец XIX – начало XX вв. )
- Душа ребенка 2-е изд.
- О физиологии. Избранные статьи и речи
- Физиология нервной системы
- Сказания иностранцев о московском государстве
- Записки в 2 т. Том 2
- Очерки по истории политических учреждений России
- Старая сибирь в воспоминаниях современников
- Испания в Средние века
- Новиков и московские мартинисты
- Император александр второй. В 3 ч. Часть 1
- Марш тридцатого года
- Записки в 2 т. Том 1
- Социология. Ее предмет, метод, предназначение 4-е изд.
- Очерки по истории древних литератур. Греческая литература
- Лекции о работе больших полушарий головного мозга
- Этюды по истории античного портрета
- Наука логики в 3 ч. Часть 1. Учение о бытии
- Детская хирургия в 3 ч. Часть 2
- Записки крепостного актера
- Декабристы. А. И. Одоевский. А. А. Бестужев-марлинский. К. Ф. Рылеев
- Очерки по истории западноевропейской литературы в 2 т. Том 2
- Искусство архитектуры
- Девятнадцатый век
- Критические исследования о потреблении алкоголя в России
- Картины парижа в 2 ч. Часть 2
- Очерки по истории западноевропейской литературы в 2 т. Том 1
- Диалоги о естественной религии
- Детская хирургия в 3 ч. Часть 3
- Император александр второй. В 3 ч. Часть 3
- Философия права
- Русское уголовное право в 2 ч. Часть 2
- Поэтика. Избранные работы
- Криминальная психология. Преступные типы
- Торговая политика России. Курс лекций
- Император александр второй. В 3 ч. Часть 2
- Русское уголовное право в 2 ч. Часть 1
- Великая французская революция. 1789-1793
- Картины парижа в 2 ч. Часть 1
- Записки социал-демократа
- Гуляй-поле в русской революции. Воспоминания
- О русской и зарубежной литературе. Избранные статьи
- История Германии с конца Средних веков
- Трактат о счетах и записях
- Елизаветинцы. Статьи и переводы
- Мир как целое
- Развитие личности и роль внушения. Избранные работы
- Шопен
- Русская история
- Детская хирургия в 3 ч. Часть 1
- Наука логики в 3 ч. Часть 2. Учение о сущности
- Логика и гносеология. Избранные труды
- Дневники 1891-1892 годов
- Наука логики в 3 ч. Часть 3. Учение о понятии
- О литературе и искусстве
- Статьи о западноевропейской музыке
- Пословицы русского народа в 2 ч. Часть 1
- Задачи русской государственности. Избранные работы
- Новейшая русская литература [взгляд из 1924 г. ]
- Лекции о работе главных пищеварительных желез
- Подождем обвинять поэтов. Статьи, заметки, стенограммы выступлений
- Об истории и литературе. Избранное
- Россия и мир
- Мнимая поэзия
- Почвоведение. Избранные сочинения
- Пословицы русского народа в 2 ч. Часть 2
- Об экспериментальном психологическом исследовании преступников
- Полное собрание речей. 1906-1911
- Болезни пищевода и желудка
- Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860—1867
- Софисты
- Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX вв
- История папства
- О Пушкине, Лермонтове, Гоголе
- Избранные педагогические сочинения
- История искусств (аполлон)
- Литературная мистификация
- Педагогика. Избранные труды
- Азбука индуизма 2-е изд.
- Воспоминания дипломата
- Гинекологическая клиника: опухоли матки
- О детской литературе и детском чтении
- Семиотика и диагностика детских болезней
- Лекции по экспериментальной патологии
- Воспоминания тяжелых дней моей службы в корпусе жандармов
- Записки
- Акклиматизация животных и ее хозяйственное значение
- Путешествия. От Кяхты на истоки Желтой реки
- Славянская мифология
- Путешествия. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор. Из Зайсана через Хами в Тибет
- Ренуар
- Геология нефти и газа. Избранные сочинения
- Бетховен
- История XIX века в 8 томах. Том 1. 1800-1815 годы
- Театральные портреты
- Язык. Введение в изучение речи
- Русская литература в 2 ч. Часть 1. Литературная старина (под знаком византийской культуры)
- Происхождение видов путем естественного отбора
- Музыканты наших дней. Стендаль и музыка
- О мастерстве литературной критики. Жанры, композиция, стиль 2-е изд.
- Философия войны
- О Рембрандте
- Древнерусские жития святых как исторический источник
- История русской музыки. М. А. Балакирев. Н. Я. Мясковский
- Очерки по методике литературного чтения
- Старое житьё
- Основы книговедения
- История моей жизни
- Крылатые слова
- Среда и сообщество: основы синэкологии
- Замечательные чудаки и оригиналы
- Бетховен. Биографический этюд
- Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под знаком европеизма)
- Минин и пожарский
- Краткий курс метеорологии
- История сословий в России
- Победители в борьбе за существование
- Размышления
- Очерк науки о характерах
- Основы экологии животных. В 2 ч. Часть 2
- Единственно возможное основание для доказательства бытия бога. Избранные труды
- О Пушкине. Избранные статьи
- Внутренние болезни. Избранные лекции. Учебник
- Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль»
- Быт русского народа в 2 т. Том 2
- Гинекологическая клиника: инфекционные воспалительные заболевания
- Проблемы буддийской философии
- Этюды по теории эволюции: индивидуальное развитие и эволюция
- Учение о виде у растений
- Европейский хаос
- Учение академиков. О пределах блага и зла. Парадоксы стоиков
- Луговодство и кормовая площадь
- Психиатрические эскизы. Иван Грозный, Петр I, Петр Iii, павел i, суворов
- Самоубийство. Социологический этюд
- Историческая география растений
- Правила для руководства ума
- Культура и искусство Индии. Избранные труды
- Начала славянофильства
- Итальянская литература
- Первобытная культура
- Записки шлиссельбуржца (1887-1905)
- Монголо-ойратские сказания
- Литературоведение. Избранное
- Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей и подростков
- Крепостной театр
- Из прошлого
- Психиатрические эскизы. Навуходоносор, Магомет, Орлеанская дева, Наполеон и другие
- История моей жизни
- Латинская словесность Средних веков и возрождения. Хрестоматия
- Этнографические труды. Избранное
- Об искусстве. Избранные произведения 2-е изд.
- История психиатрии
- Основы экологии животных. В 2 ч. Часть 1
- Преподаватель и распорядитель бальных танцев
- Очерки русской народной словесности. Былевой эпос
- Донесения я. Н. Толстого о революции 1848 г. Во Франции
- Быт русского народа в 2 т. Том 1
- Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Государев двор, или дворец
- Очерки по истории древнеегипетского искусства
- Слово о земле. Избранные работы
- Старая театральная Москва
- Вечные спутники
- Основы композиции
- Кубанское казачество и его атаманы
- Социология. Хрестоматия 3-е изд. Учебное пособие для вузов
- Почвоведение
- Возникновение и развитие техники классического танца
- География. Ее история сущность и методы
- Поэтические воззрения славян на природу в 3 т. Т. 3
- Биологические очерки
- Поэтические воззрения славян на природу в 3 т. Т. 2
- Письма И. С. Тургенева к Людвигу Пичу
- Люди и нравы французской революции
- Этика
- Земляные работы. Учебное пособие для СПО
- История западных славян
- Текст художника. Избранные работы
- Жизнь для книги. Страницы пережитого
- Толстой и Достоевский
- Логика естествознания
- О подлинной сущности новейшей философии. О назначении ученого
- Очерки по истории первобытной культуры. Первобытное общество
- История одной любви. И. С. Тургенев и полина виардо
- История музыкальных форм. Катехизис истории музыки
- Воспоминания в 3 ч. Часть 3. 17 октября 1905 – 1911 годы
- Американская школа. Очерки методов американской педагогии
- История русского летописания XI—XV веков
- Режиссура и методика преподавания. Учебник
- Философия искусства. Краткий курс лекций
- Юлий Цезарь
- Очерки из истории английского государства и общества в Средние века
- Буддист-паломник у святынь Тибета
- Далекое близкое. Воспоминания
- История русского театра. XVIII век
- Романы и романисты
- Заказ на вдохновение. Статьи о литературе
- Воспоминания в 3 ч. Часть 1. 1849 -1894 годы
- Исповедь. Избранная публицистика
- Описание путешествия в московию
- Изменение животных и растений в домашнем состоянии в 2 ч. Часть 2
- Тюрки. 12 лекций по истории тюркских народов Средней Азии
- Болезни уха, горла и носа
- Этюды о западной литературе
- Воспоминания в 3 ч. Часть 2. 1894 – октябрь 1905 года
- О преподавании отечественного языка
- О декабристах. Разговоры
- Коллективная рефлексология
- Путешествия по Китаю и Монголии
- Новые опыты о человеческом разумении
- Гоголь
- Летопись моей музыкальной жизни
- Встречи
- Поэтические воззрения славян на природу в 3 т. Т. 1
- Методология истории в 2 ч. Часть 2. Методы исторического изучения
- Агенты, жандармы, палачи. Охранники и авантюристы
- Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса
- Методология истории в 2 ч. Часть 1. Теория исторического знания
- Курс общей лингвистики
- Лаокоон, или о границах живописи и поэзии
- История социализма
- Из давних лет. Воспоминания лавриста
- Церковь и раскол в истории России
- О тюрьме, Англии, большевистском перевороте. Воспоминания
- Мифы классической древности
- История русской жизни с древнейших времен в 2 ч. Часть 1
- Вильгельм ii. Воспоминания и мысли
- Изменение животных и растений в домашнем состоянии в 2 ч. Часть 1
- Присоединение грузии к России
- Крым в 1920 г. Оборона и сдача крыма
- О повериях, суевериях и предрассудках русского народа
- Развитие речи детей
- Введение в стилистику
- Путешествия по туркестанскому краю
- Единственный и его собственность
- Процесс людовика XVI
- Лекции по общему государственному праву
- История русской жизни с древнейших времен в 2 ч. Часть 2
- Воспоминания о Блоке
- Парижская коммуна. 18 марта 1871 года
- Философия истории
- Философия убийства
- Умственные эпидемии. Историко-психиатрические очерки
- История русской общественной мысли и культуры XVII в
- Наслаждение и долг
- Невосприимчивость в инфекционных болезнях
- Замкнутое торговое государство
- Теодицея
- Очерки по истории войны и военного искусства
- Архитектура японии. Японская цветная гравюра
- Впечатления и действительность. Избранные труды
- Избранная лирика
- О кавказе и персии. Путевые заметки, письма
- Мифы Древнего мира
- История древнего рима
- Путешествие марко поло
- Кавалерист-девица. Избранное
- Классификация личностей
- Воспоминания. Давние дни
- Нечистая, неведомая и крестная сила
- О Пушкине. Воспоминания и письма
- Чайковский
- Современное искусство и колокольня святого марка. Избранные статьи
- Очерк истории музыки
- История Франции в раннее Средневековье
- О музыке и музыкантах. Избранные работы
- Крит и Микены. Эгейская культура
- Идеологии Востока. Очерки восточной теократии
- Путешествие в Кашгарию и Куньлунь
- Хроники русского
- Суждения и беседы
- Цивилизация и великие исторические реки
- Алексеевский равелин
- Введение в этнографию
- Прежде и теперь. Очерки домашней жизни в старое и наше время
- Условности. Эссе об искусстве
- Введение в историю Греции
- Римский-Корсаков
- Мои воспоминания
- Зоопсихология. Избранные труды
- Иудейские древности в 2 ч. Часть 2
- Грёзы духовидца. Избранные труды
- Очерки общей теории гражданского права
- Хирургия. Избранные труды
- Иудейские древности в 2 ч. Часть 1
- Материалы и документы по истории музыки XVIII века
- Очерки по истории изготовления смычковых инструментов
- Мемуары американского миллиардера
- Европа от Венского конгресса до Версальского мира. 1814-1919 годы
- Христианская церковь
- Убийство распутина (из дневника)
- Краткая история евреев
- Очерк истории социал-демократии в России
- Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева
- Леонардо да Винчи
- Супрематизм. Избранные работы
- Учение о типах насаждений
- Край крещеного света
- Сталинская школа фальсификаций
- Путь на амур
- Социальная статика
- Преподавание иностранных языков в школе
- Patriotica. Политика, культура, религия, социализм
- Аксонометрические проекции
- Лекции по истории английской революции
- Новый промышленный и общественный мир
- Русская опера до глинки
- Великая хартия вольностей и другие документы. Русский и латинский текст
- Наш балет. 1673 – 1899 годы
- Стили
- Поэты и музыканты Средневековья
- Начала политической экономии и податного обложения
- О переворотах на поверхности земного шара
- Ум первобытного человека
- Золотой век римской литературы. Эпоха Августа
- Симфоническая музыка П. И. Чайковского
- Романтизм и нравы
- Музыканты прошлых дней
- Музыка эпохи рококо и классицизма
- История немецкой литературы
- История XIX века в 8 томах. Том 3. 1815-1847 годы
- История XIX века в 8 томах. Том 5. 1848-1870 годы
- История XIX века в 8 томах. Том 4. 1815-1847 годы
- История XIX века в 8 томах. Том 2. 1800-1815 годы
- Русская религиозная философия. На весах Иова
- Гражданское право и процесс. Избранные труды
- Генеалогия морали
- История XIX века в 8 томах. Том 7. 1870-1900 годы
- История XIX века в 8 томах. Том 6. 1848-1870 годы
- Скрипачи XVII, XVIII и XIX столетий
- Средневековые города в западной европе
- Век Людовика XIV
- Перспектива. Учебник
- Русская женщина XVIII столетия
- Книга масок
- Царствование императора Николая II в 2 т. Том 1
- История XIX века в 8 томах. Том 8. 1870-1900 годы
- История фаянса
- Боги и люди
- Трущобные люди. Рассказы и очерки
- Художник о красках
- Революционный невроз
- Краткий курс общей и почвенной микробиологии
- Царствование императора Николая II в 2 т. Том 2
- История Армении
- Длительность и одновременность. По поводу теории Эйнштейна
- Записки. 1916—1920 годы
- История русского искусства
- Петербург в 1903—1910 годах
- Клиника психопатий: их статика, динамика, систематика
- Избранные труды в 7 т. Том 1. Психическая саморегуляция
- Избранные труды в 7 т. Том 6. психология реформ
- Избранные труды в 7 т. Том 3. Психическое расстройство 2-е изд., испр. и доп
- Избранные труды в 7 т. Том 7. Психология войны
- Избранные труды в 7 т. Том 4. Парадоксы психотерапии
- Избранные труды в 7 т. Том 2. Психическая травма
- Среди музыкантов. Воспоминания
- Избранные труды в 7 т. Том 5. современная психотерапия (статьи)
- Политические процессы в России 1860-х годов (по архивным документам)
- Первые годы русской кинематографии
- Очерки византийской культуры
- Выразительное чтение
- Современные художники. Общие принципы и правда в искусстве
- О Пушкине. Избранные труды
- Изменчивость и методы ее изучения
- Образование и воспитание. Избранные труды 2-е изд.
- Исполнительная власть в московской руси
- Судебные речи известных русских юристов. Сборник в 2 ч. Часть 1 2-е изд., испр. и доп
- Избранные труды в 2 ч. Часть 1
- Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве в 2 ч. Часть 2. Монография
- Теория искусства и история эстетической мысли. Избранные труды
- Феодализм в России
- Избранные труды в 2 ч. Часть 2
- Судебные речи в 2 ч. Часть 1
- Избранные речи в 2 т. Том 1
- Избранные сочинения в 3 т. Том 3
- Учебник русского гражданского права в 2 т. Том 2. Особенная часть
- Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве в 2 ч. Часть 1. Монография
- Избранные труды и речи в 2 ч. Часть 2. Кассационные заключения. Статьи
- Избранные речи в 2 т. Том 2
- Судебные речи известных русских юристов. Сборник в 2 ч. Часть 2 2-е изд., испр. и доп
- Судебные речи в 2 ч. Часть 2
- Избранные труды и речи в 2 ч. Часть 1. Обвинительные речи
- Учебник русского гражданского права в 2 т. Том 1. Общая часть
- Игры народов. Индия. Япония. Китай. Африка
- Художественная культура Запада
- О военном искусстве
- Венецианское стекло
- Пролегомены
- История кино на Западе
- История русской церкви
- Происхождение растений
- Профили театра
- Очерки по истории материализма
- Ритм в архитектуре
- О гротеске в литературе
- Силуэты далекого прошлого
- Лекции по истории русского права
- Документы из архива МИД Германии 1937—1938 годов
- Произведения декабристов в 3 т. Том 2. Южное общество
- Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах германских властей на временно захваченных ими советских территориях. Выпуск 2
- Новая история в документах и материалах. В 2 т. Том 2
- Новая история в документах и материалах. В 2 т. Том 1
- Произведения декабристов в 3 т. Том 3. Общество объединенных славян
- Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах германских властей на временно захваченных ими советских территориях. Выпуск 1
- Произведения декабристов в 3 т. Том 1. Северное общество
- Жизнь Магомета
- Общедоступный курс истории народного хозяйства. От первобытных времен до XX столетия
- Главные моменты в развитии западноевропейской школы
- Воспоминания
- Русские символисты
- Город
- Византийские портреты
- Исторические записки
- Великая Французская Революция
- Искусство. Ряд бесед, записанных П. Гзеллем
- О частях животных
- Жизнь Микеланджело. Гете и Бетховен
- Художественный идеал демократических Афин
- Картография. Исторический очерк
- Леонардо да Винчи. Микеланджело
- История стилей изобразительных искусств
- О Чайковском, русской музыке и музыкантах. Избранное
- Дневники. Воспоминания
- Бродячая Русь Христа ради
- Достоевский
- Собаки охотничьи. Борзые и гончие
- Вспомогательные исторические дисциплины
- Психология и педагогика мышления
- Важнейшие моменты в истории средневекового папства
- Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники
- Раннее Возрождение. Избранные работы
- Гениальность и помешательство 2-е изд.
- Собаки охотничьи. Легавые
- История Англии
- Принципы обучения, основанные на психологии
- Техника обработки сценического зрелища
- Детские игры
- История Австрии. С древнейших времен до 1792 года
- Очерк философии Платона
- Гюстав Доре 2-е изд.
- История отпадения Объединенных Нидерландов от испанского владычества
- Дневники 1911 – 1913, 1917 – 1921 годов
- Распространение культуры на земле. Основы этногеографии
- Древняя история. Египет, Ассирия
- История Сербии
- Гоголь. Соловьев
- Эволюция рабства
- Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки
- Психология ребенка и экспериментальная педагогика
- Жерминаль и прериаль
- Аграрная история Древнего мира
- Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств (конец XV – начало XIX века) 2-е изд.
- Восстание Уота Тайлера
- Италия. Genius loci
- История русского литературного языка
- История Румынии
- Италия. Театр и музыка
- История Бельгии и Голландии в Новое время
- Воображаемые портреты
- Исламоведение. Аравия, колыбель ислама
- После Чехова. Очерк молодой литературы последнего десятилетия (1898-1908)
- История Средних веков. Учебник
- Жизнь Микеланджело Буонарроти, написанная его учеником. Письма
- Константинополь. От Византии до Стамбула
- История Древнего Востока в 2 т. Том II
- Организация лечения психических больных. Избранные труды
- Сибирь и каторга. Несчастные
- Очерк истории искусств
- Очерк истории русской культуры
- Первоначальное физическое воспитание детей. Популярное руководство для матерей
- Чтение хороших старых книг
- Абсолютная монархия на Западе
- Сибирь и каторга. Политические и государственные преступники
- Основы дефектологии
- Сибирь и каторга. Виноватые и обвиненные
- В опере
- Мистическая Италия
- История Ирландии
- История великой американской демократии
- История Древнего Востока в 2 т. Том I
- Ренессанс и барокко
- Рёскин и религия красоты
- История Венгрии в Средние века и в Новое время
- История всеобщей литературы XVIII века: английская литература
- Диалоги в 2 ч. Часть 2. Протагор. Больший Иппий. Иппий меньший. Евтидем. Евтифрон. Апология Сократа. Критон
- История всеобщей литературы XVIII века: немецкая литература
- Диалоги в 2 ч. Часть 1. Феаг. Первый и второй Алкивиад. Ион. Лахес. Хармид. Лизис
- Краткий учебник нервных болезней. Краткий курс лекций
- Сократ. Биографический очерк
- Антропология
- Избранные статьи о музыке
- История русской интеллигенции. Части 1 и 2
- Музыка и ее представители. Разговор о музыке
- Мемуары, или Очерки о музыке
- Вопросы психологии творчества. Пушкин. Гейне. Гете. Чехов
- Моя школа игры на скрипке
- История колониальной империи и колониальной политики Англии
- Картины римской жизни времен цезарей
- История русской интеллигенции. Часть 3
- Новая история музыки. Средние века и Возрождение
- О псевдогаллюцинациях. К вопросу о невменяемости
- Будда, его жизнь и учение
- Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия
- Шуман и его фортепианное творчество
- По берегам Средиземного моря
- Семиотика и диагностика душевных болезней
- История всеобщей литературы XVIII века: французская литература
- Процесс выведения и помологическое описание сортов плодово-ягодных культур
- Современная английская живопись
- Китежская легенда. Опыт изучения местных легенд
- История Чешского королевства
- Дрессировка животных
- Что такое собственность?
- Эволюция воспитания у различных человеческих рас
- Экспериментальная педагогика
- Политические идеалы Древнего и Нового мира
- Мысли об истории русского языка
- Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях. История города Казани
- История завоевания Средней Азии в 3 т. Том 3
- Краткое введение в науку о языке
- История завоевания Средней Азии в 3 т. Том 1
- Очерки по истории музыки
- Исторические записки (о русском обществе)
- Физика
- История колоколов и колокололитейное искусство
- Обзор истории русского права
- Живопись и ее средства. Практическое пособие
- История философии в биографиях
- Безверие будущего
- Литературные направления Александровской эпохи
- История завоевания Средней Азии в 3 т. Том 2
- История греческой литературы
- Средневековый быт
- Труды клиники на Девичьем поле. Клинические рассказы
- География России. Избранные труды
- Религиозные отщепенцы. Очерки о раскольниках, сектантах, еретиках
- Экспериментальная педагогика
- Очерки истории астрономии в Древней Руси
- Учебник психологии. Учебник
- Справедливость
- Грибоедовская Москва. П. Я. Чаадаев
- Нимб и лучезарный венец в произведениях древнего искусства
- Социальные силы в американской истории
- Техника реставрации картин. Практическое пособие
- Смутное время на Руси (1598 – 1613)
- Избранные работы по русскому языку
- Кровавая свадьба Буондельмонте. Жизнь итальянского города в XIII веке
- Экспрессионизм
- Историческая география России в связи с колонизацией
- Педагогика творческой личности
- Гоголь – студент
- Путешествие уральских казаков в Беловодское царство
- Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII веках
- Иезуиты
- Архитектура Китая
- О русской классике
- О свободе
- Учебник логики
- Венок мертвым. Художественно-исторические статьи
- Европейские путешественники XIII – XVIII веков по Кавказу
- Средневековые процессы над ведьмами. Процессы над животными
- Очерки по истории материальной культуры. Каменный, бронзовый, железный век на юге России
- Развитие русской портретной живописи XVIII века. Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий
- Воспоминания о Ги де Мопассане его слуги Франсуа
- История английской литературы XIX века
- История религий и тайных религиозных обществ Древнего мира в 3 ч. Часть 1. Индия. Буддизм. Китай. Япония
- О судоустройстве
- Предвидения. О воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль
- Памяти прошлого
- История религий и тайных религиозных обществ Древнего мира в 3 ч. Часть 2. Персия. Египет. Сабеизм
- Скоморохи на Руси
- Приказы генерала М. Д. Скобелева. 1876 – 1882 годы
- Сказания русского народа. Русское народное чернокнижие
- Русская реалистическая иллюстрация XVIII и XIX веков
- История религий и тайных религиозных обществ Древнего мира в 3 ч. Часть 3. Греция и Рим
- Письма об Испании
- Старый Петербург. Музыка и музицирование в старом Петербурге
- Федор Толстой-Американец
- Проблема войны в мировом искусстве
- Французское искусство и его представители
- Строительное искусство древних римлян
- «Хороший тон» на Востоке
- История итальянского искусства. Первая половина XV века
- А. П. Чехов. Биографический очерк
- Письма женщин к Пушкину
- Таджики. Этнографическое и антропологическое исследование
- Искусство книгопечатания в его историческом развитии
- О причинах неравенства
- Английский парламент, его конституционные законы и обычаи
- Борьба за идеализм: от Достоевского до Дягилева
- Музыкальный катехизис
- Французская комическая опера XVIII века
- Живопись Палатинской капеллы в Палермо
- Черная книга Парижской коммуны
- Книга ликований. Азбука классического танца
- Прогресс как эволюция жестокости
- Исповедь
- Крымская война в 2 т. Том 1 2-е изд.
- Крымская война в 2 т. Том 2 2-е изд.
- Смертная казнь
- Гражданский процесс в его движении с приложением типичных дел
- История римского права
- Соборное уложение 1649 года
- От Делакруа к неоимпрессионизму 2-е изд.
- Клиническая психиатрия
- Литературная история Дон Жуана
- Сравнительная преступность
- Психопатология обыденной жизни
- Дедуктивная и индуктивная логика
- Основатели современной медицины. Пастер. Листер. Кох
- Судебная психиатрия
- Происхождение крепостного права в России
- История семьи
- Античный словарик к произведениям а. С. Пушкина. В помощь читателю
- Психология ревности
- Физиология вкуса
- Безумие, его смысл и ценность. Психологические очерки