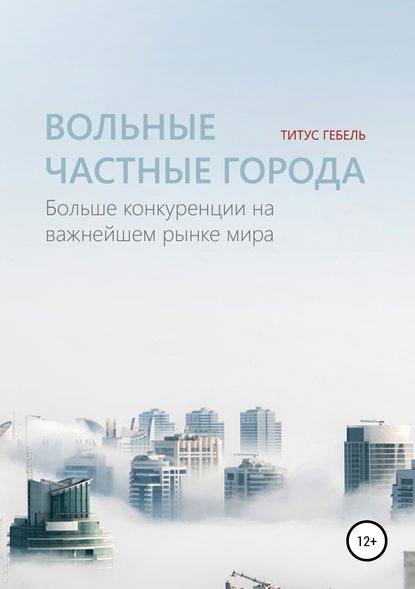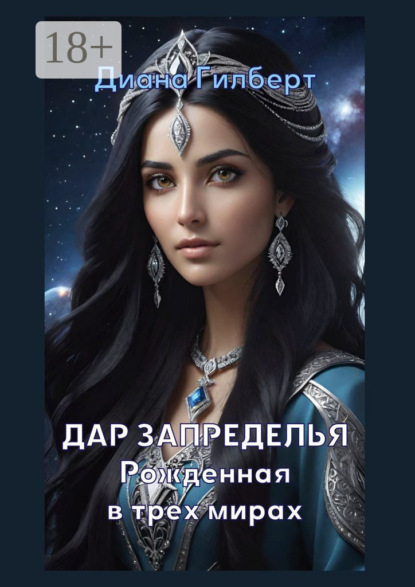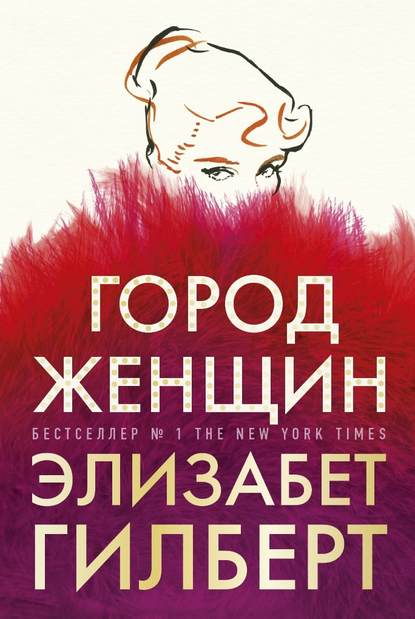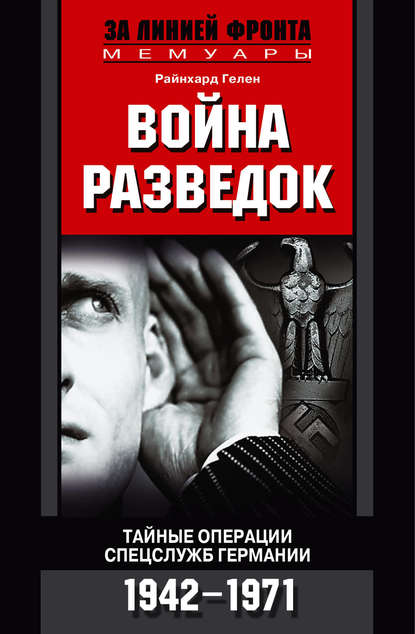Сергей Довлатов: время, место, судьба

- -
- 100%
- +
Призыв опираться при оценке конкретных произведений на «критерий художественности» был актуален и исторически справедлив, но вряд ли выполним. Сердце не хотело соглашаться с доводами вкуса и разума.
Диалог из довлатовских записных книжек: «Губарев поспорил с Арьевым: „Антисоветское произведение, – говорил он, – может быть талантливым. Но может оказаться и бездарным. Бездарное произведение, если даже оно и антисоветское, все равно бездарное“. „Бездарное, но родное“, – заметил Арьев» (5, 23).
Конфликт между верхом и низом, условия, в которых существовали авторы сам– и тамиздата, не способствовали спокойным дискуссиям о художественности. Писатели ощущали себя подводниками, погруженными во враждебную среду, где можно было выжить за счет свойств почти религиозных: чувства избранности и служения, опоры на общину «своих», аскетизма, перемежаемого разгульными «праздниками души».
Ленинградским символом второй культурной реальности стал (и наверное, навсегда останется) «Сайгон».
Знаете ли вы, что такое «Сайгон»?
«В Ленинграде нет человека, имеющего хоть какое-то отношение к искусству и не знающего, что такое „Сайгон“»[17].
Ну что «Сайгон»… Грязноватое кафе в центре Питера, на углу Невского и Владимирского проспектов, со странной богемно-уголовной публикой, где встречались, пили кофе и портвейн, обменивались новостями, читали стихи… Юный лопух, случайный посетитель (сам был из таких) мог заметить только это.
Но для своих, для посвященных (тут должны были совпасть не только место, но – время и поколение) «Сайгон» был непрерывно творимой легендой, продолжением петербургского мифа (у «них» – салон Волконской или башня Вяч. Иванова, у нас – «Сайгон»), символом второй, настоящей культуры, оказавшимся, как по заказу, напротив – на расстоянии Литейного – официальных цитаделей: кагэбэшного Большого дома и ленинградского Дома писателей.
«Естественно, читались стихи, естественно, передавались рукописи, так что это время можно с полным правом окрестить как „сайгонский период русской литературы“»[18].
Безыллюзорный взгляд со стороны легко обнаруживает изнанку легенды. «Никто не знал, кто чего стоит. И в первую очередь, чего ты сам стоишь. Заклинанием звучали слова „гамбургский счет“. Даже те, кто не читал книгу Шкловского, твердили к месту и не к месту: „По гамбургскому счету…“ Как правило, по гамбургскому, то есть по независимому от лежащих вне искусства обстоятельств и мотивов, по чистому счету выходило, что ты – гений и что ближайшие друзья твои гениальны, потому что вы, ваша компания – это компания гениев… Другого выбора не было: гений или бездарность.
Никто не знал, кто чего стоит, потому что не было открытого рынка. Была видимость литературы, музыки, живописи, которые появлялись в виде книг, симфоний, картин, выполнивших ряд условий, никак с искусством не связанных. Так что какая-то точка отсчета была: что не признано, то и гениально. Так было в середине 50-х; в середине 80-х, несмотря на коррективы, вносимые опытом новой эмиграции, все еще было так» (А. Найман) (МД, 405).
Довлатова нельзя назвать полностью своим в этой гениальной среде. «В Союзе я диссидентом не был. (Пьянство не считается.)» (3, 107). Детские публикации, литературные связи родственников, филологические притязания были предпосылкой официальной судьбы «прогрессивного молодого литератора». «Невидимая книга» представлена как исповедь маргинала, «признания литературного неудачника», который пытается прийти в литературу обычным, накатанным путем: кружки, чтения, группы, учеба у старших товарищей, газетная и журнальная поденщина, первая книга. «Сайгон» здесь даже не упоминается (хотя Довлатов вспомнит о нем в одной эмигрантской рецензии – 5, 175). Действие происходит в коридорах и гостиных Дома писателей, редакторских комнатах, издательских лабиринтах. По ним скитается человек, для которого возможность быть услышанным, прочитанным намного дороже клановых разборок и предрассудков.
На вопрос, кому нужны его рассказы, герой «Заповедника» отвечает: «Всем. Просто сейчас люди об этом не догадываются» (2, 262).
Из позднего интервью: «Я писал, ходил по редакциям, всех знал и даже среди непечатающейся ленинградской молодежи считался сравнительно удачливым. Я помню, как один менее преуспевающий автор, мой приятель, говорил: „Ну что тебе жаловаться? С тобой даже в „Авроре“ здороваются!“»[19]
Еще одно признание: «Я уехал, чтобы стать писателем… Если бы меня печатали в России, я бы не уехал»[20].
Довлатов рвется в официальную литературу с парадного подъезда, пытается зацепиться хотя бы за первую ступеньку, но система безошибочно распознает в нем чужака и отбрасывает в сторону. Так что вторая культурная реальность оказывается в данном случае не столько осознанным выбором, сколько единственным выходом.
«Круг замкнулся.
И выбрался я на свет божий. И пришел к тому, с чего начал. Долги, перо, бумага, свет в неведомом окошке…» (3, 436).
«Выбирающий – не выбирал».
В 1977 году рассказы Сергея Довлатова публикуются в тамиздатских журналах «Континент» и «Время и мы». В издательстве «Ардис» появляется «Невидимая книга». «Скажу без кокетства: издание этой книги тогда значило для меня гораздо больше, чем могла бы значить Нобелевская премия – сейчас, – написано в восемьдесят четвертом. – В моей жизни появился какой-то смысл, я перестал ощущать себя человеком без определенных занятий» (5, 273).
Тамиздатский автор – это тоже профессия.
Точнее, в данном случае – ремесло.
Ремесло: Рассказчик
Зубы, устав от чечетки стужи,не стучат от страха. И голос Музызвучит как сдержанный, частный голос.Бейся, свечной язычок, над пустой страницей,трепещи, пригинаем выдохом углекислым,следуй – не приближаясь! – за вереницейлитер, стоящих в очереди за смыслом.«Рассказчик действует на уровне голоса и слуха. Прозаик – на уровне сердца, ума и души. Писатель – на космическом уровне.
Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик – о том, как должны жить люди. Писатель – о том, ради чего живут люди» (5, 71).
Это суждение часто и с удовольствием повторяют как краткую формулу довлатовского художества. Довлатов варьировал его многократно. В одном американском интервью трехчлен сокращается до двучлена, но с тем же смыслом. «Не думайте, что я кокетничаю, но я не уверен, что считаю себя писателем. Я хотел бы считать себя рассказчиком. Это не одно и то же. Писатель занят серьезными проблемами – он пишет о том, во имя чего живут люди. А рассказчик пишет о том, КАК живут люди. Мне кажется, у Чехова всю жизнь была проблема, кто он: рассказчик или писатель?»[21]
Но порой такое объяснение вызывает некоторую растерянность даже у людей искушенных. «Как это, собственно, понимать? – спрашивает литературовед-зарубежник, знакомый рассказчика. – Что Чехов, в представлении Довлатова, не писатель? Что близок ему на самом деле Антоша Чехонте, а вовсе не автор „Дамы с собачкой“? Или, хоть и уверяет Довлатов интервьюера в обратном, это все-таки жеманство, каким грешил, например, столь почитавшийся им Уильям Фолкнер…»[22]
Понять это действительно необходимо и важно. И начать можно хотя бы с того, что Чехов не только в довлатовском, но и в своем представлении не был писателем вроде Льва Толстого.
«Бывший филолог в нем все-таки чувствовался», – сказано Довлатовым о своем приятеле. Рассуждения о писателях и рассказчиках не парадокс и не жеманство, а четкая филологическая интуиция и точное осознание собственной авторской задачи. Чтобы разобраться в этих коллизиях, придется ненадолго отступить к Чехову и еще дальше в XIX век[23].
Кто сочиняет литературные тексты? – Автор.
Но под «автором» в разных случаях и контекстах подразумеваются весьма различные феномены.
Во-первых, автор – реальный создатель художественного произведения, с биографией, датами жизни и смерти, про которого написано в словарях и энциклопедиях, про которого рассказывают в музеях. Пушкин – автор «Евгения Онегина». Об этом авторе рассказывает туристам герой «Заповедника».
Во-вторых, автором или «образом автора» называют героя произведения, персонажа, который, наряду с другими персонажами, существует в хронотопе произведения и в то же время сочиняет свой текст будто бы на наших глазах; такой образ является частью литературной стратегии, направленной на стирание границ между миром реальным и миром вымышленным, художественным. Автор как герой гуляет вместе с другим героем, Евгением Онегиным, в пушкинском романе. Далматов – герой «Филиала», в то же время сочиняющий, рассказывающий его.
В-третьих, повествованием от «лица» автора называют особую объективированную форму рассказа от третьего лица («Он задумчиво посмотрел в окно»), противопоставленную субъективному повествованию от первого лица. Для довлатовской прозы характерна именно эта последняя форма («С тревожным чувством я берусь за перо» («Невидимая книга»). – 3, 351; «Мама говорит, что когда-то я просыпался с улыбкой на лице» («Филиал»). – 4, 295). От лица автора написаны лишь некоторые рассказы «Зоны» и периферийные тексты, не попавшие в главные довлатовские книги.
Наконец, в-четвертых, автор может пониматься как «знак, символ системы» (Г. Гуковский), как культурологическое понятие, сжато и целостно обозначающее своеобразие художника, его место в эстетической иерархии. Автор в этом смысле – не конкретный человек, не герой, не повествователь, не лицо. Это – голос, который слышен, сквозит сквозь изображаемую художественную реальность. Это – позиция, способ взаимоотношения с текстом и через него – с читателем.
Особенно очевидна необходимость такого разграничения в текстах, сочиненных совместно. Братья Гонкуры, Ильф и Петров, братья Стругацкие – шесть биографических авторов, но всего три авторские позиции, три авторских голоса. Пушкин (который «наше все»), Гоголь или, скажем, Зощенко – тоже сегодня не просто биографические обстоятельства, но культурные знаки, метонимические обозначения художественных миров.
Взглянув с такой точки зрения на русскую литературу XIX века, мы увидим три сменяющих друг друга (и в то же время сложно взаимодействующих) культурологических образа, три парадигмы, три литературные эпохи, в центре которых: поэт – писатель – литератор.
Эпоха поэтов – это пушкинско-лермонтовско-гоголевская эпоха. Ее самосознание воплощено в «Пророке» и «Памятнике», в «Смерти поэта» и «Поэте», в «Мертвых душах» и многих других произведениях двадцатых – сороковых годов.
«Поэт!.. Поэт есть первый судия человечества. Когда в высоком своем судилище, озаряемый купиной несгораемой, он чувствует, что дыхание бурно проходит по лицу его, тогда читает он букву века – в светлой книге всевечной жизни, провидит естественный путь человечества и казнит его совращение» (В. Одоевский. «Русские ночи». 1842)[24].
«И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в священный ужас и блистание главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром иных речей…» (Н. Гоголь. «Мертвые души». 1842)[25].
Второй член оппозиции в этой культурной парадигме может обозначаться по-разному: народ, толпа, царь, Бог, Муза… Но в любом случае Поэт занимает центральное место, культурное пространство вокруг него универсально и иерархично. Он осознает свое творчество как миссию, пророчество. Он транслирует известную только ему истину сверху вниз.
В сороковые – восьмидесятые годы культурная парадигма меняется. На смену Поэту приходит писатель.
«Общественное значение писателя (а какое же и может быть у него иное значение) в том именно и заключается, чтобы пролить луч света на всякого рода нравственные и умственные неурядицы, чтобы освежить всякого рода духоты веяньем идеала… Писатель, которого сердце не переболело всеми болями того общества, в котором он действует, едва ли может претендовать в литературе на значение выше посредственного и очень скоропреходящего» (М. Салтыков-Щедрин. «Петербургские театры». 1863)[26].
Культурное пространство вокруг «писателя», как видим, уже конкретизируется. Особое значение приобретает не универсальный, а социально-исторический контекст. Ведущей в этой парадигме становится оппозиция писатель – общество. На смену миссии как творческому стимулу приходит обязанность (перед обществом, народом). Но объединяет эту эпоху с предшествующей иерархический тип отношений с аудиторией, авторитарное слово.
Чехов, как и другие писатели его поколения, смотрит на эту традицию, последним и наиболее мощным представителем которой оказывается поздний Толстой, со сложным чувством зависти и отчужденности. В одном из писем он четко противопоставляет «вечных или просто хороших» писателей предшествующих эпох, творчество которых проникнуто сознанием цели (даже если цель – «водка, как у Дениса Давыдова»), и писателей своего поколения, своих современников, пишущих жизнь «такою, какая она есть», не имеющих «ни ближайших, ни отдаленных целей»[27].
Этот новый тип автора и можно назвать литератором (слово любимое и многократно использованное Чеховым), беллетристом, газетчиком, даже «писакой» (ранний Чехов определял себя и так, видимо в отличие от писателя).
Культурное пространство вокруг «литератора» теряет свой универсальный характер. Оно становится фрагментарным, неоднородным, специализированным. «Пишем мы машинально, только подчиняясь тому давно заведенному порядку, по которому одни служат, другие торгуют, третьи пишут…»[28]
Литератор тем самым теряет иерархическую роль пророка или учителя, превращаясь в такого же по статусу профессионала пера, как чиновник или торговец. Организующей культурной оппозицией в этой парадигме становится отношение литератор – публика. Литератор уже не иерархически вознесен над ней, а напротив, попадает в зависимость от читателя (или зрителя) – заказчика. «Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики, она была страшна мне, и когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны», – жалуется беллетрист и драматург Тригорин, одно из чеховских воплощений, в «Чайке»[29].
Вместо утерянного, исторически исчерпанного авторитарного слова литератор должен искать слово «внутренне убедительное»[30]. Творческим стимулом становится уже не пророческая миссия и не высокая обязанность, а долг – чувство, имеющее преимущественно внутренний характер.
«Мы все, профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные поденщики, сколько нас есть, такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица… Если бы мы послушались вашего „не пишите“, если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу.
А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель…
Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею, не переставая»[31].
Эту исповедь профессионального литератора из раннего чеховского рассказа «Марья Ивановна» (1884) словно подхватывает уже упомянутый Тригорин: «День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен… И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший?»[32]
Конечно сумасшедший, потому что, в отличие от поэтов («Слух обо мне пройдет по всей Руси великой») или писателей («„Дворянское гнездо“ имело самый большой успех, который когда-либо выпал мне на долю»), литератор – внутренне, психологически – не может рассчитывать ни на прижизненное признание, ни на посмертную славу. «А публика читает: „Да, мило, талантливо… Мило, но далеко до Толстого“, или: „Прекрасная вещь, но «Отцы и дети» Тургенева лучше“. И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо – больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: „Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева“»[33].
Положим, это литературный герой. Но вот и сам автор «Чайки» в откровенной ночной беседе с почитателем (им был Бунин): «„Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь“. – „Почему семь?“ – спросил я. – „Ну, семь с половиной“. – „Нет, – сказал я. – Поэзия живет долго, и чем дальше, тем сильнее“… – „Поэтами, милостивый государь, считаются только те, которые употребляют такие слова, как «серебристая даль», «аккорд» или «на бой, на бой, в борьбу со тьмой!»“»[34]
Довлатовский ряд «писатель – прозаик – рассказчик», как видим, отвечает сути дела и легко сводится к только что описанному «поэт – писатель – литератор».
Как и всякая обобщенная схема, эта типология несколько условна. Культурные образы не обязательно сменяют друг друга. Они могут сосуществовать в одном писательском сознании. Пушкин-поэт в лирике, «Евгении Онегине», «Борисе Годунове» и маленьких трагедиях превращается в литератора в «Повестях Белкина». Но может быть, не случайно эту новую форму конвенции с читателем он скрывает под псевдонимом, не смешивая метафизического Пророка с занимательным рассказчиком.
Самое любопытное, что в двадцатом веке литературные циклы повторились приблизительно в том же порядке.
Серебряный век (В. Розанов, впрочем, предлагал считать серебряным веком эпоху Толстого с Достоевским; тогда это век бронзовый), символисты прежде всего, культивирует образ Поэта. В «настоящем двадцатом веке» бывших противников символизма объединил тот же образ. Но не только лирических поэтов. Поэтом (Мастером) ощущал себя создатель «Мастера и Маргариты». Такой тип сознания позволяет легче пережить катастрофические времена, ибо поэт действует на «космическом» уровне, апеллируя к метафизическим субъектам – Богу, Будущему, Народу, – и, значит, всегда имеет некую внутреннюю опору. Кажется, Последним Поэтом (вслед за Баратынским) считал себя И. Бродский.
Социалистический реализм явно подхватил и тиражировал писательскую парадигму второй половины прошлого века. Его привычные лозунги – «Жить идеями и страстями времени», «Писатель на службе народу», «Инженеры человеческих душ» и т. п. – укладываются в рамки оппозиции писатель – общество, приобретая, однако, уже не свободный, а партийно-принудителъный характер. Недаром об официальном учителе официозной обоймы слуг партии и народа (от Фадеева до Федина с поздним Шолоховым) с тяжелой неприязнью не раз говорил В. Шаламов. «Знаменосцем этого движения был Белинский, а главным практиком – Лев Толстой. Критик и писатель приучили поколения писателей и читателей русских к мысли, что главное для писателя – это жизненное учительство, обучение добру, самоотверженная борьба против зла. Все террористы прошли эту толстовскую стадию, эту вегетарианскую, морализаторскую школу… Как только я слышу слово „добро“, я беру шапку и ухожу»[35].
Культурная роль писателя может быть реализована, однако, и вполне независимо от официальной идеологии, в противостоянии ей. Классический вариант учительства и борьбы воплотил и воплощает своей судьбой, конечно же, автор «Архипелага ГУЛАГ» и «Красного колеса».
Неофициальная культура, литература «Сайгона» чаще всего противостояла официозу по-иному. Она формировала литераторскую парадигму, начиналась с эстетства как формы поведения и эстетической самодостаточности текста в самых разных, причудливых его видах и формах.
Предельный вариант с иронией упоминает Довлатов в самом начале «Невидимой книги». Там речь идет о двух романистах: роман одного представляет собой «девять листов засвеченной фотобумаги», главное действующее лицо наиболее зрелого романа другого – презерватив (3, 352). В конкретном контексте эти художественные жесты вовсе не бессмысленны. Засвеченная фотобумага вызывающе отрицает требуемые партией и народом от официального писателя духоподъемные произведения вроде: «Биссектриса добра», «Гипотенуза любви», «Сердце на ладони», «Чайки летят к горизонту», «Веди меня, Русь», «Дождь идет ромбом», «Верблюд смотрит на юг» и т. д. (пародийные примеры из довлатовского письма, за которыми без труда распознаются реальные прототипы. – МД, 518). Презерватив – кукиш (конец), показанный вымученным литературным героям, надрывающимся в буднях великих строек, перевыполняющим (или, наоборот, недовыполняющим) план.
Более мягкий вариант противостояния писательской позиции «отражения и борьбы» возникает в наставлении старшего товарища по содружеству «Горожане»: «Борис Вахтин провозглашал: „Не пиши ты эпохами и катаклизмами! Не пиши ты страстями и локомотивами! А пиши ты, дурень, буквами – А, Б, В…“» (3, 370).
Исходная установка понятна: литература – искусство слова, словесность. Акцент на буквах (у Довлатова он потом превратится в забавное внутреннее правило: слова в предложении не должны начинаться с одной буквы) позволяет отодвинуть в сторону обязательные для официозной литературы эпохи и катаклизмы. Но далее возникает любопытная и весьма принципиальная эстетическая развилка: литератор пишет буквами о буквах или только с помощью букв?
«Слово и есть главный герой Довлатова. К приключениям слов сводится и весь сюжет его рассказов. В принципе ему не важно, о чем рассказывать, – эффектно формулирует критик. – По Довлатову, искусство рассказчика сродни другим искусствам, не владеющим членораздельной речью, – музыке или живописи» (МД, 479).
Таков Довлатов по Генису. (Правда, через две страницы в той же статье критику кажется, что «из всех искусств Довлатову ближе всего скульптура» и его книги превращаются в «портретную галерею, где автор бредет мимо персонажей». – МД, 481. И остается только полностью согласиться с тем, что сказано еще через несколько строк: «Сегодня все мы пытаемся найти к Довлатову ключ. При этом одни подбирают шифр, другие – отмычку, третьи орудуют фомкой». – МД, 481.)
Можно подумать, что автор «Чемодана» – какой-то прозаический Крученых с пафосом простого, как мычание, слова как такового и знаменитыми стихами «дыр, бул, щил, убещур».
Между тем даже эксцентричная фраза о буквах и катаклизмах окружена корректирующим контекстом. «Желая вернуть литературе черты изящной словесности, они (литературное содружество „Горожане“. – И. С.) настойчиво акцентировали языковые приемы. Даже строгий Ефимов баловался всяческой орнаменталистикой». И далее: «В общем, пригласив меня, содружество немедленно распалось. Отделился Ефимов. Он покончил с литературными упражнениями и написал традиционный роман „Зрелища“» (3, 370). «Литературные упражнения», «баловаться орнаменталистикой» – так не говорят о родном и близком.
Но самое главное, что против буквального понимания идеи «буквенности» восстают довлатовские тексты. При всем своем внимании к слову, фразе рассказчик Довлатов, подобно «отделившемуся» Ефимову, в чем-то не боится быть вызывающе традиционным. Его эстетизм – особой, не экстремально-авангардистской, а скорее флоберовской природы (о чем точно написал Л. Лосев)[36].
Пресловутые «муки слова» есть на самом деле трудности выражения в слове, имманентного преодоления слова, как сказал бы Бахтин. Слово в прозе Довлатова не ткань, не материя, не поверхность, не орнамент, не музыка, не чистая пластика, а скорее прозрачное стекло, окно, через которое мы вслед за повествователем заглядываем в мир.
«Люблю обычные слова, / Как неизведанные страны. / Они понятны лишь сперва, / Потом значенья их туманны. / Их протирают, как стекло, / И в этом наше ремесло»[37].
«Как я хочу, чтоб строчки эти / Забыли, что они слова, / А стали: небо, крыши, ветер, / Сырых бульваров дерева! / Чтоб из распахнутой страницы, / Как из открытого окна, / Раздался свет, запели птицы, / Дохнула жизни глубина»[38].
Почти уверен, что строчки эти были на слуху и в памяти рассказчика Довлатова. Д. Самойлова он считал одним из немногих авторов, определяющих уровень современной поэзии (МД, 340). Стихотворение В. Соколова парафразирует другой, намного более известный текст (или счастливо совпадает с ним).
В письме конца семидесятых Довлатов, перечисляя любимые романы, сопровождает список «единственной цитатой, которую выписал за всю мою жизнь». Цитата такова: «…Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он далек от этого идеала… (Пастернак)» (МД, 525).
Конец ознакомительного фрагмента.