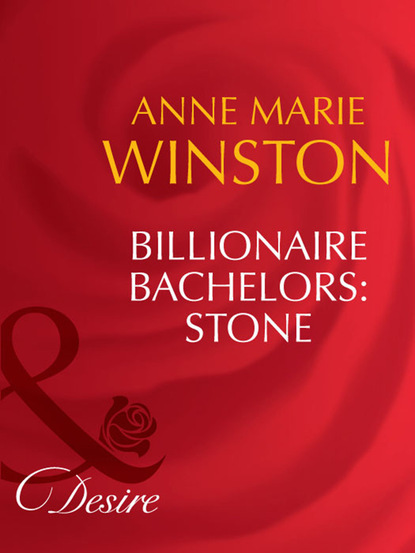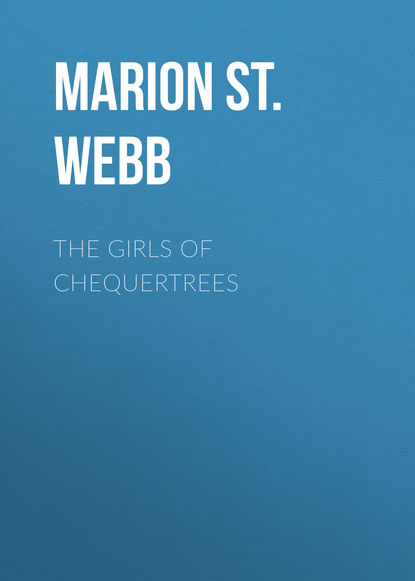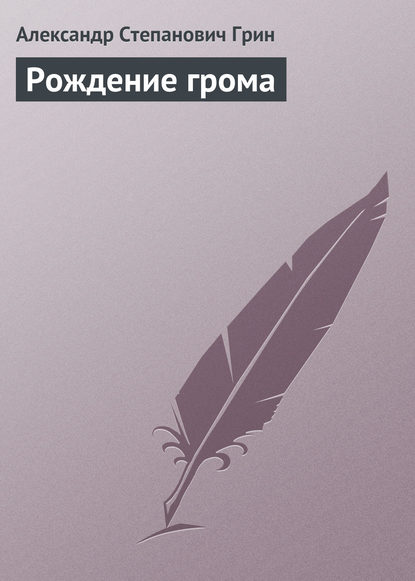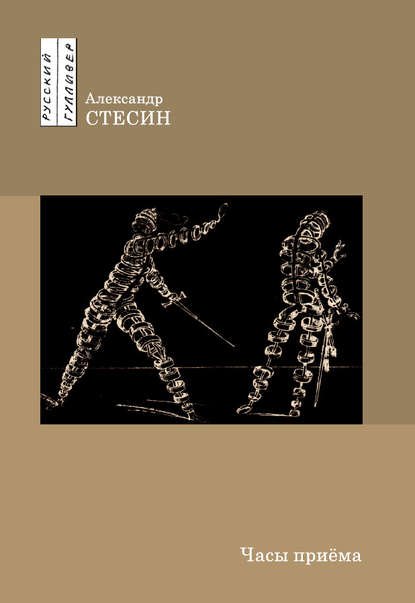Когда зовёт муэдзин. Дневник летнего романа

- -
- 100%
- +

Начало путешествия
Самолёт вздрогнул и медленно пополз к взлётной полосе, словно расправлял крылья перед дальним полётом. Я пристёгнута, как и положено. Но внутри зреет ощущение, будто ремни ни капли не удерживают меня в кресле. Будто я уже лечу без страха, без отягчающего багажа из ненужных сожалений и тревог, с лёгким сердцем и пустым блокнотом для романтических отпускных историй.
И вот я в воздухе. В салоне слышен ровный успокаивающий шум двигателей, а вокруг самолёта плывут облака. Такие белые и пушистые, что хочется дотянуться до них рукой сквозь стекло иллюминатора и оторвать кусочек. А вдруг окажется, что это сахарная вата, купленная тебе в детстве в парке?.. Только эта «облачная вата» невесомая, без приторности на вкус, без липкости, и как будто пахнет… Только чем? Запах облаков трудно уловим, но он есть. И я чувствую его. Он как дыхание неба: чуть влажный, прохладный, с примесью прозрачности и покоя. В нём нет ни тревоги города, ни кофе на бегу, ни запаха офисной бумаги с недельной пылью. Здесь пахнет по-другому: будто чем-то неизведанным, ускользающим от памяти, неосязаемым ни запахом, ни вкусом. И ещё обуревает рой новых мыслей, тех, что рождаются, когда ты отпустил всё и словно стал независимым от самого себя.
Я беру ручку. На первой странице блокнота пустота и свет, ни единой буквы, и в голове нет никакой подсказки – с чего начать. А вообще, с чего начинаются все истории? С первого вдоха, важного обретения или с потери? С какого-то случайного взгляда, который меняет всё, или с тишины, в которой вдруг рождается мысль? Может быть, любая история – это просто момент, когда ты решаешь услышать себя и, наконец, написать первое слово. И тут мне становится отчётливо ясно: эта книга начнётся с неба. С того, как пахнет свобода, с того, когда ты впервые после долгих лет метаний по замкнутому кругу осмелился выбрать себя.
День 1. На берегу Средиземного моря
Я проснулась в полутьме. Ставни дрожали от порывов ветра, в воздухе стоял запах влаги и соли. Голова всё ещё хранила странную смесь: недосмотренные сны и усталость от перемотанных часовых поясов. Вчерашняя мечта – выбежать на пляж, чтобы наконец-то встретить первый рассвет в отпуске, – рассыпалась о штормовое предупреждение. Море теперь гудело басом за окнами, словно великан, недовольный, что его потревожили.
Но раз уж я выбрала свободу, значит, выбираю и новые дорожки. Быстро собрала волосы под капюшон, подхватила блокнот и покинула гостиничный номер.
Улочки приморского города намокли как краски на акварельном рисунке: цвета расплылись, как во взгляде у человека в очках с неправильно подобранными диоптриями. Лодки на берегу моря покрылись «водным» лаком и ярко отражали просачивающиеся из-за плотных свинцовых облаков редкие солнечные лучи. Чайки сидели поодиночке, нахохлившись, как белые запятые на строке надвигающегося моря.
В узком проходе между развешанных рыбацких сетей тонкой швейной строчкой внезапно показалась тропинка. Она тянулась вдаль, маня мокрой галькой, туда, куда цивилизация не успела ещё добраться. Я пошла по ней наугад, и вскоре мир вокруг стал прозрачнее, будто краски смыло дождём, оставив только лишь контуры окружающего меня пейзажа. Именно здесь, на диком пустом берегу, я и обнаружила её.
Сначала показалось, что это скульптура из какого-то древнего камня: длинное тело, изгибы плавные, отшлифованные морским прибоем. Коварный ветер откинул прядь водорослей‑гривы на скульптуре, и она зашевелилась – совсем чуть-чуть, будто сделала несколько вдохов. Голубоватая кожа мерцала под рваным светом, проникающим сквозь щели в тучах, чешуя отражала предгрозовое небо, и я заметила глаза: огромные, бесстрашные, с оттенком той глубины, которую не измерят даже морские эхолоты. В этих глазах я разглядела желание догнать бешено несущийся над морем ветер и нескрываемую вечную тоску.
Существо по своей фактуре отдалённо напоминало русалку, и при этом она как будто улыбалась, её губы были слегка приподняты, а хвост был опущен в воду. Каждая чешуйка её тела – как маленькое зеркало отражало отблеск далёких молний, то вспыхивая, то угасая.
Я подошла ближе, протянув руку не к ней – к блокноту: пальцы сами нашли карандаш, как щупальца медузы искали мелких рачков в бескрайнем пространстве моря. Знала, стоит мне моргнуть, и она моментально ускользнула бы в море с первой же волной, поэтому я жадно всматривалась, впитывая детали: тонкую линию ключицы, полоску тёмно‑зелёного перламутра вдоль ребра хвоста, крохотные ракушки‑браслеты на запястьях, её прерывистое дыхание, смешанное с голосом ветра.
Я не собиралась спрашивать её об имени: ведь море редко делится таким тайнами. Вместо этого шёпотом сказала ей своё: пусть знает ту, кто запомнил её взгляд. Русалка кивнула едва заметно, как будто согласилась заключить негласный договор. В этот миг волна поднялась выше её плеч. Водяная броня сомкнулась, и на камне остался лишь мокрый отпечаток, похожий на распахнутую ладонь.
Едва только начавшийся дождь постепенно стал усиливаться. Я успела вернуться в номер как раз перед тем, как с небес хлынул поток. Сидя в кровати, перебирала страницы мокрого блокнота – они пахли морем и вчерашними облаками. В моём воображении прочно завис образ увиденной на берегу русалки. Понимала, что не смогу в полной мере передать её образ, ведь в мире линий и букв нет таких оттенков сияния. Но, может, именно в этой невозможности и рождается настоящая история. И мой карандаш вдруг как-то сам по себе нацарапал в блокноте первую фразу: «Она уплывает вдаль штормового моря, оставляя за собой мерцающую серебряную подкову…»
***
К вечеру шторм угас, как утомлённый дирижёр, который в последний раз взмахнул палочкой и обессиленно опустился на услужливо подставленный стул. Воздух стал совсем солёным, с привкусом морской капусты и свежей сырости. Я решила вернуться туда, где была утром. Не за ответами – за ощущением. За отпечатком, который остался во мне после неожиданной встречи с морским сказочным существом.
Кажется, я снова пришла туда же – а всё вокруг уже другое. И расположенный рядом пляж тоже другой. Волны облизали его заново, как мать, пригладившая волосы ребёнка после беспокойного сна. Камешки на берегу – осколки звёзд, обкатанные временем и трудолюбивыми волнами. Скидываю шлепанцы, пальцы тут же зарываются в прохладный мокрый песок. Он влажный, тёплый, лёгкий и сыпучий, как мука, с вкраплениями ракушек. Пружинит под ногами, не отталкивает, а будто приглашает идти дальше. Иногда попадаются острые кромки ракушек, и я, наступая на них, невольно вздрагиваю и вдыхаю глубже – в теле рождается готовность: принять, ощутить, запомнить.
Через несколько шагов под ногами скользит галька гладкая и округлая. Пальцы ног перебирают её как чётки. Когда я наступаю на камешки, то каждый из них звучит по-своему: то шепчет, то возмущается, то визгливо смеётся. То тут, то там попадаются осколки разбитых неугомонным прибоем раковин. Одни раскрыты, будто уставшие веки после бессонной ночи. Другие – плотно сомкнуты и хранят внутри грустное молчание. Из одной осторожно выглядывает краб-отшельник: тёмный, с тонкими усиками и немалой уверенностью в себе. Он смотрит на меня так, как будто знает: пусть я и чужая на этом пляже, но для него совсем не опасная.
Удары волн теперь не угрожают скорой расправой, а тихо шепчут умиротворяющую мелодию. Каждая волна – это аккорд, разбивающийся о валун, и каждый валун – барабан гулкий и глубокий. Где-то выше по склону мох покрывает скользкие камни. Я захватываю в объятия один – большой, словно доброе сердце, и чувствую, как он дрожит от прибоя. Или, может быть, это дрожу я.
Я сажусь на один из валунов у самого моря и спускаю ноги прямо в тёплую воду. Волны ласкают лодыжки, шепчут на ушко. Достаю из рюкзака блокнот. Пальцы мокрые, и от этого написанные слова ложатся неаккуратно расплывшимися пятнышками, как будто и слова хотят быть частью влажного морского пейзажа, а не просто сухим описанием местности.
«Заброшенный безлюдный берег, где камни слушают, а раковины поют. Где ноги перестают быть частью тела и становятся одним целым с мокрым песком. Здесь не нужно искать волшебства. Достаточно остаться, замереть, стоя босиком в воде, пока мир не начнёт говорить с тобой на своём древнем языке…»
Время наполненности вдохновением отпускает. Я перечитываю вслух то, что написала и закрываю блокнот. И тут вдруг обнаруживаю, что моё одиночество нарушилось.
Незнакомец устроился чуть выше, на склоне, у самой кромки прибрежной травы. Я бы и не обратила внимания, если бы не лёгкое, ритмичное движение: кисть размашисто скользила по бумаге. Он явно что-то рисует.
Он – мужчина лет тридцати пяти-сорока, волосы цвета выцветшей охры, короткие и растрёпанные, будто их разметал тот ветер, который ещё недавно гнал чаек прочь от берега. На нём свободная рубашка с закатанными рукавами, в руках большая тонкая доска, скорее всего с прикреплённым к ней альбомом. По первому впечатлению в нём не было ничего необычного, простой мужчина средних лет, но сразу бросилось в глаза та необыкновенная лёгкость и уверенность его движений, как будто он здесь не рисовал, а как фокусник создавал нечто удивительное и сверхъестественное.
Я медленно, стараясь не привлекать к себе внимания, приподнялась и собиралась незаметно уйти. Краем взгляда заметила, что он посмотрел в мою сторону и улыбнулся лёгкой доброжелательной улыбкой, как бы приветствуя меня на языке молчания.
– Вы можете продолжить писать, – заговорил мужчина по-русски с лёгким акцентом. – Ваши слова так и носились в воздухе, я прямо ощущал их физическое присутствие. Мне жаль было вас прерывать.
Я смущённо улыбнулась в ответ, хотя уголки губ раздвинулись скорее от неловкости, чем от радости. Ведь незнакомец раскрыл не просто мои скрытые в блокноте тайны, а и само дыхание моей души.
– Я пишу свой дневник. Путевой. Только не только про маршруты и достопримечательности, а про море и облака, местные обычаи, людей, народные традиции, восточный колорит.
Незнакомец слегка склонил голову, будто раздумывая над степенью откровенности, которая возникла между нами.
Я решилась подойти и сесть рядом, он не возражал. Некоторое время мы молчали.
– А что вы рисуете? – спросила его.
Он не ответил сразу, сделал ещё пару штрихов и только потом, не поднимая взгляда, почти шёпотом произнёс:
– Вас.
– Меня? – удивилась, хотя где-то глубоко в душе именно этого ответа и ждала.
Мужчина повернул альбом: точно я, в платье, с блокнотом, босая, волосы спутаны ветром, и вокруг – не просто берег, а как будто зыбкая граница между сушей и фантастически-необыкновенным сном.
– Но вы же… вы не могли видеть меня раньше. Как вы так быстро изобразили? И так красиво?
Он снова улыбается, и в глазах уже не только лукавство, но и что-то доброе, располагающее.
– Иногда не нужно долго наблюдать за человеком, – говорит он. – Мы способны представить его образ ещё до встречи. Если вы можете вообразить морскую русалку, то для меня ею являетесь вы.
– Что вы имеете в виду?
Он молчит, добавляя последние штрихи к рисунку, и только потом поднимает глаза.
– В моём воображении русалка однажды поднялась с глубин морского дома, принесла с собой песни волн, научилась взаимодействовать с людьми, чтобы завоевать любовь дорогого ей человека. Разве не это делают русалки в многочисленных сказаниях и мифах, когда вопреки здравому смыслу становятся людьми?
Я не нашлась, что ответить ему по поводу сказанного.
– А если я и вправду она? – спрашиваю шёпотом.
– Тогда тебе решать: плыть обратно домой или остаться на берегу ради чего-то неизведанного и большего. Но, – он делает паузу, – даже если ты останешься, море всё равно будет помнить тебя.
Я опускаю взгляд. Земля начала остывать. И даже сквозь покрывало к ногам липнет холод. Где-то вдалеке кричит чайка.
– Можно посмотреть? – тихо прошу, протягивая руку к альбому. Он передаёт.
На следующем листе не портрет, а движение: волны, спина русалки, волосы, сливающиеся с пеной, и над всем этим лёгкий след света, будто тропинка. Она плывёт прочь от берега, но инстинктивно оборачивается. Смотрит с тоской и надеждой.
– Вы видели её тоже? – спрашиваю.
– Нет, – говорит он. – Но мне не нужно было видеть. Она осталась у вас в глазах. А у меня – просто отображение того, что увидели вы.
Мы снова молчим. Солнце медленно опускается к линии горизонта.
– А как вас зовут? – спрашиваю наконец.
– Мне кажется, что сейчас это неважно, – отвечает он, закрывая альбом. – Но если хотите, назовите меня так, как назвали бы того, кто узнал вас ещё до нашей встречи.
Я смотрю на него. На грифель в его пальцах, на тонкую чёрную бороздку на запястье, в его глаза, в которых так тихо, как в морской лагуне на рассвете.
– Тогда вы… – я перебираю слова мысленно, будто гладкую гальку:
«Берег. Хранитель. Слушатель. Оберег… Беран?»
Имя произносится само, и я не знаю, откуда оно появилось, но оно подходит ему по моему мнению так, как едва слышимое дыхание человека подходит тишине.
– Вы… Беран.
Он смотрит на меня и улыбается. В его взгляде нет удивления – скорее тихая уверенность, будто он знал, что я непременно разгадала бы его имя. Меж тем я открываю блокнот и торопливо записываю:
«Сегодня на берегу моря я встретила местного художника. Он говорил по-русски свободно, с лёгким акцентом. Его мама – русская, вышедшая замуж за араба, и в их семье с детства принято говорить на двух языках. Он не спрашивал моего имени. Он просто его знал. А я назвала его. У нас с ним какая-то необычная мистическая связь. Может, я и правда русалка, но с того самого мига, как прозвучало его имя, я поняла: здесь мой Берег, мой Оберег и… мой Беран».
Мне совсем не хотелось уходить от моего нового знакомого. Наша беседа текла плавно в такт тихому шуршанию неугомонных волн. Очнулась, когда солнце коснулось горячим краем далёкой фиолетовой полоски горизонта.
– Пора. Мне надо в гостиницу, – произнесла с сожалением, закрывая блокнот, в котором больше ничего не записала.
– Тебя проводить? – мягкий голос обволакивал, заставляя ухватиться за это предложение.
– Не стоит. Лучше давай встретимся завтра.
– Завтра я поеду по северной дороге в горы.
– На пленэры? – уточнила я.
Беран кивнул, а я чуть разочарованно не выдохнула. С трудом сдержалась, чтобы не напроситься. И всё-таки сдержалась. Не сейчас. Пусть всё, что нужно, произойдёт в свой момент.
Я вернулась в гостиницу, но так и не смогла уснуть. Кондиционер в номере был неисправен, окна распахнула настежь, но всё равно это не дарило желанной прохлады, было слишком влажно и душно. За деревянными ставнями во всю кипела ночная жизнь восточного города. Похоже, здесь издавна так повелось: в жаркие часы дня люди спят, как сонные мухи, или, укрывшись в тени, тихо беседуют о хитросплетениях жизни. Но стоит солнцу скрыться за горизонтом, как сразу город просыпается, сбрасывая с себя тяжёлое дневное покрывало нагретых каменных улиц и удушающей жары. Вот и сейчас до меня доносились смех, звон посуды, скрипучие заунывные звуки неведомого мне музыкального инструмента и ароматы уличной еды.
Я выбралась на веранду из душного гостиничного номера. Улица шумела, пахла чабрецом, мятой и пылью. Внизу под раскидистым жасмином за угловым столиком сидела пожилая женщина в яркой лёгкой накидке. От чего-то я про себя решила составить компанию её уютному одиночеству.
– Здравствуй, милая, – сказала она как-то певуче по-русски, когда я подошла к ней совсем близко. – Ты сегодня поздновато.
Старушка произнесла это так легко и непринуждённо, словно была знакома со мной с десяток лет.
– Простите… мы разве знакомы?
– Да кто тут не знаком, – улыбнулась она. – Я мадам Мария. Хотя меня зовут Адель, но уже несколько лет я Мария. Не смотри так удивлённо, я с детства знаю русский язык, мама у меня русская была, Царство ей небесное. Выучила меня с самого раннего детства говорить и по-русски, книжки заставляла читать, дай ей боженька успокоения. А тут у меня своя комната, вон в том доме. А здесь люблю посидеть вечерами. Очень уж тут приятно. А хозяин отеля мой давний большой друг, не против, разрешает старым косточкам примоститься под деревом, отдохнуть, подумать. Я почти что как местная достопримечательность. Сюда все приезжают на недельку, на две, потом убывают, а я всегда остаюсь. Видела тебя с блокнотом, ты на море постоянно ходишь. Рисуешь что-то или записываешь?
– Дневник веду, – поделилась я, – может, получится написать что-то стоящее. Не знаю…
– Присаживайся со мной, чаю выпьешь. Только что заварили. С мятой, как положено.
Я присела напротив, забравшись с ногами в плетёное кресло. Под тонким скатертным стеклом на столе лежали засушенные листочки лаванды. В чашке колыхалась тонкая долька лимона.
– Вот читала я вчера, – сказала внезапно мадам Адель спустя короткое молчание, – из Ветхого Завета… Про Фамарь.
Она взглянула на меня с лукавым блеском в глазах.
– Фамарь? – переспросила я. – А кто это? О чём эта история?
– Я частенько в последнее время обращаюсь к этой удивительной книге, дорогая, и открываю много в ней для своей души. Так вот, ты послушай, это потрясающая история, не то что современные бестолковые и запутанные сериалы. Муж у Фамари умер. А по тогдашним обычаям следующий брат должен был взять её в жёны, чтоб не прервались имя и род. Но и он умер. И третий мальчишка был, но Иуда – свёкор – тянул, боялся, что и тот умрёт. Отослал её обратно к отцу и сказал: жди, мол, пока подрастёт. А сам забыл, как звали. А время шло…
Она отпила глоток чая и вдруг тихо рассмеялась.
– Вот же женщины… Когда нужно – они обратятся кем угодно, чтобы добиться справедливости. Фамарь сняла с себя одежду вдовы, покрылась, села у дороги… и прикинулась блудницей.
Я удивлённо приподняла брови.
– Да-да, – кивнула она. – Иуда её не узнал. Был в пути, увидел женщину – да и взял, как говорится. А она говорит: а где залог? И он оставил ей посох, печать и шнурок. Всё, что подтверждало его личность.
Я уже слушала с открытым ртом.
– А потом?
– А что потом… Когда стало ясно, что Фамарь ждёт ребёнка, Иуда возмутился: мол, она позорит дом. Хотел было её осудить. А она спокойно достаёт посох, печать и шнур. "Вот от кого". И тогда он – Мария взглянула на меня с огоньком в своих глазах, – сказал: "Она правее меня". Понял. Признал. И никто её не тронул.
Мадам Мария на время умолкла.
– До чего же изобретательны бывают женщины, когда им нужно выжить. Не мстят, не вредят, а просто возвращают себе место. Такое некое право быть и, чтоб с ними тоже считались.
Я почувствовала вдруг охватившее меня волнение, история более чем двухтысячелетней давности полностью завладела мной.
– Иуда ведь не был жестоким мужчиной, – добавила мадам Адель. – Он просто был уверен, что знает, как правильно. А Фамарь знала, как справедливо. Вот и вся разница.
Мы замолчали. Ночной ветер приятно обдувал тело, было легко и уютно и хотелось, чтобы это состояние продолжалось максимально долго.
– А вы сами откуда? – спросила я, чтобы не дать интересной собеседнице умолкнуть надолго.
– Италия, под Генуей, – кивнула она. – Но я уже давненько здесь. Крестилась в православие. Не для галочки, сердце позвало. Тут есть маленькая церковь, намоленная, такая светлая и родная. Если пойдёшь влево от площади, под кипарисами. Там свечи пахнут мёдом, а старый батюшка поёт службы, вот побожиться готова, так поёт, как с самим с Богом говорит, а проповеди какие читает… Если хочешь, покажу как-нибудь. Можем вместе сходить.
Она потянулась за жестяной коробочкой на столике, достала мятный сухарик, обмакнула в чай.
– Жизнь ведь это не про шум. Жизнь – это когда ты находишь кого‑то, кто увидел тебя. Не придумал, не захотел, а просто – увидел. Вот ты, например. Ты ведь кого-то встретила?
Я молча улыбнулась, и она кивнула, – мол, понятно.
Мы помолчали некоторое время. Я пыталась переосмыслить услышанное. Легко быть умной задним числом, когда читаешь о библейских женщинах как о символах. Но когда тебе под жасмином и при луне, кто-то говорит: «Иногда ведь только прикинувшись кем‑то, можно вернуть себе право быть собой» – это проникает под кожу. Становится твоим и про тебя.
Я допила чай, ощущая на языке прохладу мяты, и вдруг мне захотелось ещё. Не чая, а вот этих историй. Голоса веков, которые звучат через эту женщину, простую, в ярком платке и с глазами, как древняя бронза.
– А расскажите ещё, – попросила я. – Ещё про кого-нибудь. Из тех, кто выстоял.
Мадам Мария посмотрела в сторону города, где улицы медленно и неохотно стали засыпать.
– Хочешь, расскажу про Анну – мать Самуила?
Я кивнула, и она начала.
– Анна была из числа тех женщин, которые очень хотели ребёнка, а не могли. Муж её любил, но другая жена смеялась, потому что у той были дети, а у Анны – нет. А в те времена женщина без ребёнка считалась почти пустым местом.
Она откинулась на спинку стула, положив руки на колени.
– И вот однажды Анна пришла в храм. И не молилась, как все. Она шептала. Горячо, искренне, с надрывом и слезами. Так, что даже священник подумал, будто она пьяная. А она говорила Богу: «Если Ты дашь мне сына, я отдам его Тебе».
– Я не представляю себе такой страшный зарок, – прошептала я.
– Это – чисто её вера, – Мария кивнула. – Не торг, не шантаж, не каприз. А полное доверие. Мол, я не удержу – Ты удержи. И Бог услышал. У неё родился мальчик – Самуил. А потом она и правда отдала его в храм с трёх лет.
Я сжала край пледа, не заметив, как вокруг словно похолодало.
– И не жила она потом как пустая, – добавила Мария. – Бог дал ей ещё детей. Но Самуил стал великим пророком. Тем, кто слышал голос Бога в ночи.
Она опять на время замолчала.
– Я иногда думаю: вот что чувствует женщина, когда приносит такое обещание? Не «дай мне», а «я не удержу». Это надо быть либо безумной, либо святой. Но чаще всего – просто очень живой.
Я кивнула. Потому что у меня внутри шевельнулось что-то очень личное. И потому что иногда ты слушаешь истории, которые как будто рассказываются о тебе самой, но в будущее.
– Значит, можно и с Богом – по-человечески? – спросила я тихо.
– По-человечески с Ним и надо, – улыбнулась она. – А если с игрой, с маской, то Он сразу распознает. Он всё делает нам на пользу и спасение души. Нас так же создал по Образу и подобию Своему.
Ветер принёс запах печёного хлеба с улицы. На небе тихо качались звёзды.
Мария встала медленно, будто не хотела прерывать этот вечер.
– Пора и мне. А тебе – спать. Сегодня рассвет будет красивым. И кто знает… может, кто-то захочет нарисовать его вместе с тобой?
И уже отходя, добавила:
– Шерстяной платок не забудь. В горах бывает холодно.
И оставила меня одну, удивлённую и обескураженную.
День 2. Истории восточного кафе. "Пряные" сказания
Я шла по тёплой, сухой горной тропе, усеянной мелкими пыльными цветами. Где-то внизу, между оврагами, блестели оливковые деревья, а воздух пах шалфеем и известью. Ветер царапал щёки, и у меня был платок, тот самый, шерстяной, как советовала мадам Мария. Я легкомысленно смеялась.
Он тоже шёл, но чуть впереди. Светлый рюкзак, выгоревшие плечи, папка под мышкой. Беран. Он что-то рассказывал, но я не могла разобрать слов, только интонацию. Голос был тёплым и чуть замедленным.
И вдруг перед нами возник берег – с песком и галькой, щёлкающей под ступнями. Солнце низко, волны тяжёлые. Мы стояли рядом, смотрели на линию прибоя. Тогда Беран сказал:
– Знаешь, следы бывают разные. Есть те, что оставляют на память. А есть те, что уносятся морской водой. И слава Богу. Потому что не все следы должны оставаться.
Я опустила глаза. В песке были отпечатки наших следов – две пары. Он нагнулся, нарисовал рядом длинной веткой знак – похожий на бесконечность, но прерывистый. Я спросила:
– А если следы всё-таки потеряешь?
Он усмехнулся, взмахнул рукой:
– Главное – помнить, что ты по ним уже ходила. И что кто-то идёт рядом.
Я хотела ответить, но вместо этого услышала скрип открывающегося от сквозняка окна. Свет ударил в лицо.
Я проснулась.
Глубоко за полдень. Моя гостиничная душная комната, простыни сбились в клубок. Чашка с недопитым чаем, которую я забрала с собой после разговора, стояла на тумбочке. Мята завяла.
Я ничего не записала этот день в блокнот. Только довольно долго лежала в постели и смотрела в потолок. И встав с кровати, интуитивно поняла, что сегодня потеряла что-то важное.
В вестибюле портье сказал, что какой-то мужчина утром спрашивал меня. С альбомом и на мотоцикле. Я рассеяно поблагодарила, радуясь, что Беран за мной всё-таки заехал и хотел пригласить на прогулку в горы. Но тут же мне стало грустно, что я по собственной глупости и лени не смогла этого осуществить.