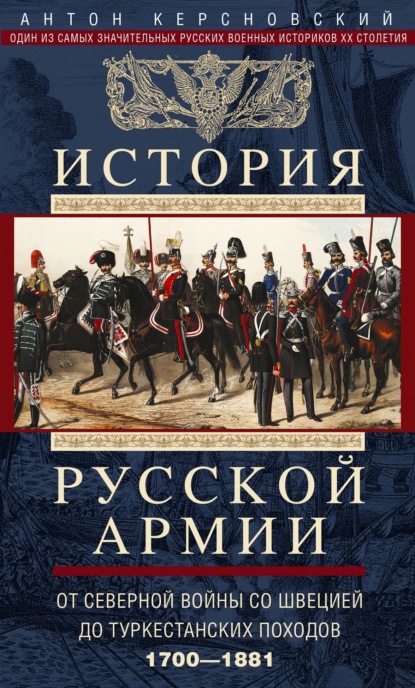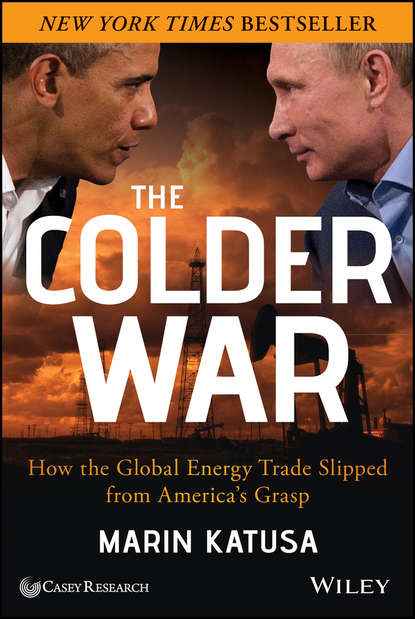Катанда, или Точка невозврата
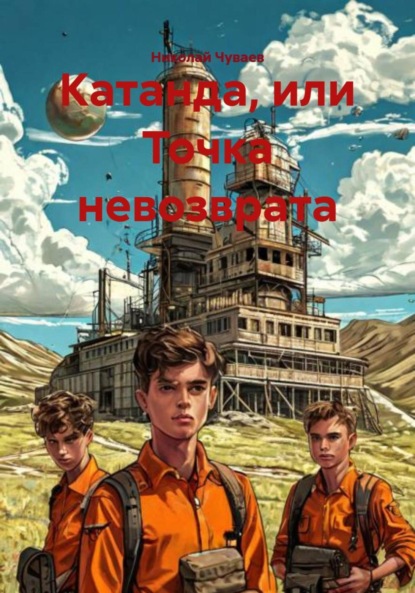
- -
- 100%
- +
Николай Александрович смотрел на юных «ракетчиков», пахнущих серой и отчаянием, потом на своих аккуратных «кисточников», потом обратно:
– Марина Николаевна, Олеся Николаевна, поймите! У нас экспедиция академическая! Там Полосьмак! Там мировая наука! Это не лагерь для… – он запнулся, подбирая политкорректное слово, но глаза его кричали: «МАЛОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ!»
Но мольбы завучей, подкрепленные визуальными доказательствами разрушений (и, возможно, угрозой лишить Музей финансирования на новые витрины), сделали свое дело. Научная экспедиция под эгидой великой Полосьмак невольно превратилась в… исправительно-археологическую колонию для одаренных подростков с ракетными наклонностями. Вот так, любезный читатель, неиссякаемая жажда познания (и создания взрывоопасных предметов) привела наших героев в Катанду, а оттуда – прямиком в портфолио Данилы, а теперь и под пристальный взор Большемысова в приемной комиссии Дегроидска.
Большемысов слушал этот рассказ, попеременно хмурясь, хмыкая и потирая лоб. Китайский модуль навигации… Дендро-фекальная технология… Двойное попадание в кабинет завучей… И Полосьмак, святая Полосьмак, которая, оказывается, терпела это у себя на раскопе! В его глазах читалось: «Господи, кого ко мне принесло степное эхо? Гениальных безумцев или просто безумцев?» Но принцип «потенциал важнее баллов» уже был запущен, как та самая ракета. Остановить его было сложнее, чем предсказать траекторию полета изделия с Али-экспресса.
Большемысов, услышав про «исторический факультет», мысленно перекрестился так, будто отгонял не бюрократического, а самого настоящего дракона: «Нет, только не ко мне, не на исторический! Они ж у меня весь культурный слой к чертям сожгут ракетными испытаниями!» Но долг ректора-первопроходца обязывал докопаться до сути. Палец его, загрубевший от лопаты и сокрушения бумаг, ткнул в грамоту с гербовой печатью ФСБ:
– Так. А это что? Генерал Плотников… подпись… «За содействие». Содействие чему? Расшифруйте, граждане абитуриенты!
Данила-Мастер, осознав, что в пылу откровений с Катандой зашел слишком далеко, попытался отыграть назад с видом этакого юного Штирлица:
– А это… военная тайна! Мегакатализатор всех химических реакций. Одна капля на бочку ракетного топлива… – он заговорщицки понизил голос, – Нам ведь всё ж удалось завершить разработку, запатентовать её и передать на секретные заводы в Удмуртии… – Тут он замолчал, поняв, что сболтнул как раз столько, чтобы его могли завернуть в тот самый секретный завод в качестве опытного образца.
С соседнего стола «Химический факультет» донесся голос, полный научного азарта и, возможно, легкого безумия:
– Давайте их к нам! Срочно! Мегакатализатор! Секретные заводы! Это же Клондайк!
Но Большемысов был непреклонен. Он, как археолог, копал до материка. Его палец переместился на диплом «Мирный атом – в каждый дом»:
– Ладно, с ракетами и мегакатализаторами ясно. А тут? «Мирный атом»… Прославились как? Мирно фонили?
И тут, любезный читатель, история приняла поистине эпический, слегка феерический и очень тревожный оборот. Кирилл Попов, покраснев, пробормотал:
– Это я… пеноплекс купил… Для модели катандинского кургана неизвестной культуры раннего железного века… Пока я в магазин за краской бегал…
А Данила-Мастер, загоревшись, подхватил:
– …я нашел пеноплексу другое применение! Я же где-то вычитал, что углеводородные полимеры задерживают альфа, бета и гамма-излучение! А у меня… – он понизил голос до шепота, – …в ящике стола лежал в пакетике ториевый песок! С Азовского моря! Чуть-чуть фонил, для души! Идеально для проверки гипотезы!
И что вы думаете, дорогой читатель? Бытовой дозиметр (купленный, несомненно, на том же Али-экспрессе, что и злополучный ГЛОНАСС) подтвердил: пеноплекс – реально работал! Щит из строительного магазина! И тут в голове Мастера сверкнула молния гениальности, осененная духом Курчатова и отчаянной русской «авось»: «А что, если?…»
И он собрал. В своей комнате. На третьем этаже дома на Потоке. Настоящий атомный реактор на быстрых нейтронах, работающий на ториевом цикле.
Да-да, вы не ослышались! Мечта ученых десятилетий, реализованная школьником из Барнаула с помощью пенополистирола (который «в тысячи раз сократил сроки постройки и снизил вес конструкции»)! «Школотрон-1»! («Школьный, транспортируемый, 1 мегаватт тепловой мощности»). Теперь верные оруженосцы Денис (берет!) и Кирилл (сила!) таскали этот «чемоданчик мирного атома» на все конференции, включая ту самую в Новосибирском Академгородке.
Профессора из ИЯФа1, созерцая сие творение из пеноплекса, фольги и ториевого песка, испытывали когнитивный диссонанс вселенского масштаба:
– Невероятно! Грандиозно! Этого не может быть! – восторгались/возмущались они, но призовое место «зажали». Видимо, академическая ревность к «пенополистирольной технологии» была сильнее научного интереса.
Не смутившись, юные Кулибины пришли с «Школотроном» к директору лицея. Аргумент был железобетонным:
– Татьяна Викторовна! Представьте: подключаем «Школотрон» к тепловым магистралям! Сэкономленные на коммуналке деньги – прямо в зарплаты учителям! Это ж социальная ответственность и инновации!
И директор… согласилась! Видимо, вид пеноплексового реактора и перспектива роста учительских зарплат перевесили здравый смысл. Начался великий эксперимент по обогреву Лицея имени Дзержинского силой тория и пенопласта.
…И вот, «Школотрон-1», гордость Лицея имени Дзержинского тихо гудел в подвале, обогревая кабинеты и питая мечты о теплых учительских зарплатах. Лицеисты гордились своими Кулибиными, а их мамы тайно мечтали о скидке на коммуналку. Казалось бы, идиллия? Как бы не так!
За углом, в точно таком же типовом здании эпохи первых спутников, ютилась Школа №5#. Мамашки Школы №5#. Существа особой породы. Их жизненное кредо: «Если у нас не ладится – пусть и у соседей все горит синим пламенем!». Они вечно косились на успехи Лицея: то олимпиады какие-то подозрительные выиграют, то ракеты у них в завуча летят (слухи-то разносились!), а теперь вот – ядерный реактор в подвале! И обогрев! И экономия! Это было уже слишком! Как так?! У них в 5#-й батареи еле теплые, а у Дзержинцев – собственный мини-Белоярск!
И вот, в один прекрасный (для них) день, подогретые слухами о «страшной радиации», мамашки №5# совершили свой звездный час. Не выходя из дома, в тапочках и бигуди, анонимный пост! Куда? В святая святейших местных разборок – сообщество «Инцедент_22» ВКонтакте! Это вам не просто паблик, любезный читатель! Это кузница скандалов, место, где разбиваются карьеры дворников и рушатся репутации продавщиц из «Ярче!». Пост был шедевром жанра:
СПАСИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ЯДЕРНОЙ СМЕРТИ!!!
В соседнем Лицее (мы все знаем, каком! У них там и ракеты летали!) САМОДЕЛЬНЫЙ АТОМНЫЙ РЕАКТОР В ПОДВАЛЕ!!! В ПОДВАЛЕ!!!! Наши детки ходят мимо! Воздух отравлен! Воду пьют радиоактивную! Директорша-вредительница покрывает! Власти молчат! ФОТО ПРИКРЕПЛЯЮ (фото было размытым снимком какого-то серого ящика в полутьме, подписанным: «ЧУГУННЫЙ ГРОБ С РАДИАЦИЕЙ!»).
#радиацияБарнаул #Дзержинкаубиваетдетей #Роспотребнадзорпроснись #мынеболванчикидляопытов #анонимноночестно
Эффект был мгновенным и предсказуемым. Пост взлетел на первые позиции местного топа. «Инцедент_22» загудел, как растревоженный улей. Комментарии: «Ужас!», «Караул!», «Я всегда знала, что там одни сумасшедшие!», «Это ж надо было додуматься!», «Куда смотрит ФСБ?!» (последний – особенно ироничен, учитывая КТО был шефом у Лицея имени Дзержинского). Слух пополз по городу, обрастая чудовищными подробностями: якобы у детей из Лицея уже светятся уши, а директор скупает весь йод в аптеках.
Роспотребнадзор и Рособрнадзор, естественно, не могли проигнорировать такой «народный» порыв. Тем более, что анонимка идеально ложилась в отчеты о «бдительности граждан». Проверка нагрянула внезапно и беспощадно. Несмотря на все заверения Татьяны Викторовны, демонстрации сертификатов с конференций и уверений, что «Школотрон» – чисто демонстрационная модель с минимальным фоном (меньше, чем у гранитной набережной!), эксперимент пришлось свернуть. Анонимные мамашки из 5#-й торжествовали в своем чатике: «Вот видите! Мы же говорили! Теперь у них нет своего атомного отопления! Пусть мерзнут, как мы!».
А Даниле, еле-еле получившему аттестат (под аккомпанемент проверяющих и визг мамашек), оставался лишь один путь – срочная эвакуация в Дегроидск. Под покровом ночи, с заглушенным на всякий пожарный «Школотроном» в рюкзаке.
Большемысов слушал, открыв рот. Его лицо выражало всю гамму чувств – от ужаса до восхищения, от желания вызвать МЧС до желания немедленно дать Нобелевку. Он посмотрел на скромный пеноплексовый корпус «Школотрона», торчащий из Данилина рюкзака, потом на грамоту ФСБ, потом на сертификат Полосьмак… И принял самое Большемысовское решение в истории:
– Всё ясно! Берем Доломаева! На физический факультет! И выдать ему… – он огляделся, – …дополнительный вагончик под лабораторию! Подальше от основного корпуса!
– А нам можно с ним?! – хором выдохнули Никита, Денис и Кирилл, предвкушая новые эксперименты в степной дали, вдали от мамашек и Рособрнадзора.
Большемысов махнул рукой, смиряясь с судьбой:
– Валяйте, мушкетеры! Один с реактором, трое с лопатами… или ракетами. Главное – без окон, без жертв, и чтобы вагончик не улетел в степь! Так и запишем: «Кафедра экстремальной физики и нестандартного материаловедения».
И вот так, любезный читатель, под сводами фанерного рая и мраморных колонн, среди запаха краски, степного ковыля и едва уловимого фона тория, был сделан первый шаг к великому перевороту в отечественной науке. Перевороту, который должен был случиться без лишних бумаг, но с изрядной долей пеноплекса, русской смекалки и академической свободы посреди Кулундинской степи. Дегроидск обретал своих первых героев. И первый ядерный реактор в вагончике. Слава науке! И да хранит нас Большемысов от бюрократии и истеричных мамашек!
Глава 2: ССО «Квант» рвётся в бой!
Дегроидск встретил своих первопроходцев не колокольным звоном, а дружным скрипом дизельных генераторов и запахом свежеструганной фанеры, щедро приправленным степной пылью. Зачисление прошло с той же скоростью, с которой Большемысов расправлялся с бюрократическими отчетами – то есть молниеносно и с легким налетом незаконности. «Кафедра экстремальной физики и нестандартного материаловедения» обрела своих первых студентов: Данилу «Мастера» Доломаева (официально – «младший научный сотрудник вагончика №3»), Никиту Онегина (зачислен как «силовой элемент и философский камертон»), Дениса Путина («ответственный за оптимизацию процессов и протирку очков») и Кирилла Попова («энергетический резерв и тестовая площадка для идей»).
Общежитие? Ха! Оно существовало пока только в мечтах Большемысова и на криво начерченных планах, валявшихся под кирпичом в его вагончике-ректорате. Но выход был найден с истинно дегроидской прямотой:
– Лаборатория ваша – дом ваш! – объявил Антон Олегович, хлопая Данилу по плечу так, что тот чуть не врезался в «Школотрон», мирно гудевший в углу вагончика №3. – Там же и спать будете! Койки поставим! Заодно и реактор присмотрите. Двух зайцев! Академическая свобода – это когда ты можешь просыпаться от щелчка счетчика Гейгера!
Так «Кафедра» обрела кров. Вагончик №3 стал эпицентром их вселенной: с одной стороны – пеноплексовый корпус «Школотрона», аккуратно обмотанный фольгой «для эстетики» (и, по словам Данилы, «для фокусировки пси-поля»), с другой – четыре шаткие армейские койки, стол из двери и «кухня» в виде электроплитки и ведра с водой. Воздух был густой, как суп: запах пота, ториевого песка, вареной тушенки и юношеских амбиций.
Каникулы? В Дегроидске это понятие растяжимое, как резинка от семейных трусов. Пока не начались лекции (а когда они начнутся и начнутся ли – знали только степные суслики), четверку прикрепили к «университетской рембригаде». Звучало пафосно, а на деле означало: штукатурить стены будущих аудиторий, таскать мешки с цементом (которые вечно рвались на радость ветру), и красить все, что не двигается, в «оптимистичный оранжевый» (цвет МЧС, видимо, стал корпоративным стилем).
И вот тут, среди облаков гипсовой пыли и ведер с краской, случилось чудо. Чудо в юбках. Абитуриентки исторического факультета. Света и Катя. Две девчонки, чьи предки, видимо, совершили роковую ошибку, поверив пафосным репортажам о «крае академической свободы» и отправив дочерей в степь с аттестатами девятиклассниц и мечтами о Помпеях. Света – рыжая, с веснушками и взглядом, способным докопаться до тайн неолита. Катя – темноволосая, с ироничной улыбкой и умением шпаклевать стены так ровно, что Путин снял очки от изумления.
Работа закипела с новой силой. Гипс летел, шпатели скребли, а разговоры лились рекой. Кирилл Попов, обнаружив в себе недюжинный талант рассказчика, живописал Катанду красками: «А там орлы! Размером с трактор! И Николай Александрыч – он как Индиана Джонс, только с кисточкой! Однажды медведя отогнал криком археологическим!» Никита Онегин, штукатуря очередную стену, периодически вставлял басом: «Медведь… Да… Сильный зверь…» Денис Путин, аккуратно выравнивая угол, делился рациональными соображениями о преимуществах гипсокартона перед саманным кирпичом в условиях степного климата. А Данила… Данила молча кидал цемент в бетономешалку, изредка бросая взгляд на степь, где ковыль колыхался, как зеленовато-серая тоска.
Вечера у костра (навык, отточенный в Катанде наравне с зачисткой «бровок» на раскопе) стали ритуалом. Варили «степную солянку» из всего, что удалось выцарапать в единственном вагончике-магазине с вывеской «ПРОДУКТЫ? МОЖЕТ БЫТЬ!». Делились историями. Девчонки ахали, узнав, что четверка лично знакома с самой Натальей Викторовной Полосьмак! Это был их козырь, их пропуск в мир доверия и восхищенных взглядов. «Вы?! В Катанде?! А правда, что там клад Чингисхана зарыт?» – забрасывали вопросами Света и Катя. И Попов, раздувая щеки, начинал: «Ага! И мы его почти нашли, да вот дяди Лёшины пчёлы…»
Счастливы? Путин, Онегин, Попов – безусловно!
А Данила… Данила смотрел на веселящихся друзей, на смеющихся девушек, на пламя костра, отражавшееся в блеске их глаз, и грустил. Причина тоски носила имя – Вероника. Два года разницы… Ее смех, который не заглушить даже расстоянием, временем и рёвом дизеля генератора. Так хотелось ощутить её руку в его руке – теплую, живую, а не виртуальную в мессенджере с надписью «Слабый сигнал». Он рванул в Барнаул в ту же пятницу вечером. Поезд «Славгород-Барнаул» на этот раз казался не черепахой в меду, а реактивным санями Деда Мороза. Суббота и воскресенье пролетели как один миг сладкого безумия: парк, шаурма («Ашот узнал тебя, Дань! Сказал: Студент-ядерщик? На, добавлю курицы!»), арбуз на берегу Оби, дрессировка бурой немецкой овчарки – Рекса, разговоры ни о чем и обо всем сразу. Вероника слушала его рассказы о вагончике, о «Школотроне», о Большемысове, о друзьях, Свете и Кате и смеялась: «Ты там как в фильме про безумных ученых!»
А потом снова был вокзал. Снова скрежет тормозов, запах дешевого кофе и безнадеги. Снова платформа, растворяющаяся в ночи, и тень Вероники, машущая рукой, пока ее не съела барнаульская тьма.
Обратный путь в Дегроидск был вдвое длиннее. Вагончик №3 встретил его знакомым гулом «Школотрона» и храпом Попова. Счастье друзей, их радости, даже милые ухаживания за Светой и Катей – все это било по нервам, как плохо сбалансированная бетономешалка. Он смотрел на степь, на бесконечную дорогу, которая только что разлучила его с самым важным человеком, и понимал.
Нуль-транспортировка.
Эта идея, родившаяся на крыльце лицея Дзержинского при виде картонной Катанды, обрела теперь плоть и кровь. Имя ей было – Вероника. Расстояние стало не просто километрами, а физической болью, дырой в пространстве-времени, которую нужно было залатать.
– Эх, скорее бы первое сентября! – выдохнул он как-то утром, наблюдая, как Путин аккуратно приклеивает скотчем оторвавшийся угол плаката «Техника безопасности при работе с нестабильными изотопами» (нарисованного Поповым).
– А что в сентябре? – лениво поинтересовался Онегин, доедая гречку.
– Учиться начнем. Курсовую писать. – Данила ткнул пальцем в свежеприобретённый блокнот. На первой странице, выведенное с невероятной для него аккуратностью, красовалось:
«Технология телепортирования путём квантового сбора-разбора. Обоснование возможности и первичные расчеты».
Путин снял очки, протер их, надел снова, прочитал надпись:
– Квантовый… сбор-разбор? – Он прикинул что-то в уме. – Мастер, это ж расходники какие нужны? Энергия? И фанера… Много фанеры. Для кабинки. Или хотя бы для макета кабинки. Надо бюджет считать.
– Фанеры?! УРА! – завопил Попов, проснувшись от слова «фанера». – Стартап оживает! Кабинка для Веронички! Собираем-разбираем ее квантово! Я – за!
Данила лишь мрачно кивнул. Он горел. Горел идеей пробить дыру в пространстве между Дегроидском и Барнаулом. Он видел ее перед собой: маленькую, уютную кабинку. Дверь открывается – и ты там. У ДК Химиков. Вон у того фонаря. Где Вероника ждет его с бурым Рексом.
И ради этого стоило мазать стены гипсом, слушать храп друзей и терпеть легкий фон «Школотрона» по ночам. Скоро сентябрь. Скоро настоящая работа. И академическая свобода, черт побери, должна же на что-то сгодиться, кроме как штукатурить стены!
Сентябрь в Кулундинской степи принес долгожданное облегчение… но только от жары. Воздух стал не таким густым, как суп в столовой школы №5#, а скорее похожим на жидковатую кашу. Но академическая жизнь, как и стройка, не знала передышки.
Торжественная линейка. Она проходила не на мраморных ступенях помпезного корпуса (там как раз красили последнюю статую – Муза Искусства теперь держала не только линейку, но и сломанный шпатель), а на импровизированном плацу перед вагончиком-ректоратом. Антон Олегович Большемысов, облаченный не в мантию, а в заляпанный цементом комбинезон, стоял на ящике из-под гвоздей.
– Товарищи студенты! Первопроходцы академической целины! – гремел его голос, перекрывая гул генератора. – Вы помните, откуда растут корни нашего Дегроидска? Нет? Так я напомню! – Он сделал паузу, драматически оглядев разношерстную толпу. – От деградации! От тотального, повального, всепоглощающего отупения! – Его палец, загрубевший от лопаты и сокрушения бумаг, тыкал в небо, будто обвиняя само мироздание. – Вы! Да-да, Вы – поколение смартфонов! Поколение, у которого мозги усохли до размеров экранчика! Которое вместо Платона листает мемы про котиков! Которое «Капитанскую дочку» знает только по трейлеру! Вы – лупни! Лупни информационного века!
Толпа замерла. Даже генератор на секунду сбавил обороты от такого накала страстей. Большемысов, довольный эффектом, выдержал паузу, достойную Шекспира на открытии Глобуса.
– И вот, – продолжил он, понизив голос до зловещего шепота, который все равно разносился на всю степь, – для вас, дорогие лупни, мы и создали этот город! Город-антидот! Город-детокс! С сегодняшнего дня, с этой самой минуты, смартфоны на территории Университетского Центра «Дегроидск» – вне закона! Запрещены! Изъяты! Уничтожены! – Он сделал еще одну паузу, сверкнув глазами, в которых читалась непоколебимая решимость археолога, нашедшего бюрократический черепок и готового докопаться до целого скелета. – Кого поймаем с этой цифровой заразой – выгоним. Сразу. Без права восстановления. Без разговоров! Без бумажек! Вот так! – Он хлопнул себя ладонью по комбинезону, подняв облако цементной пыли. – Академическая свобода – это свобода от тупящего экрана! Усвоили?!
Тишина была гробовой. Даже степные волки притихли, почуяв неладное. Никто не сомневался, что Большемысов не шутит. Проверять его решимость совсем не хотелось. Попов судорожно засунул руку в карман, проверяя, выключен ли его древний кирпич. Путин нервно протер очки. Онегин задумчиво пробормотал: «Лупни… Звучит… монументально». Данила машинально потрогал спрятанный в нагрудном кармане кителя старый кнопочный телефон (единственная ниточка к Веронике) – холодный пластик внезапно показался раскаленным углем.
На следующий день. Данила Доломаев, только что зачисленный первокурсник – и уже и.о. заведующего кафедрой экстремальной физики и нестандартного материаловедения? Да легко! Это же Дегроидск! Пока настоящий профессор Гефке из Питера вязнет в трясине тамошних согласований и бумаг с гербовыми печатями размером с блин (что являлось для Большемысова личным кошмаром), кто-то же должен был руководить УИРС! А кто справится с этим лучше юного гения ядерной мысли и фанерных технологий, уже отметившегося в анналах ФСБ и археологии? Логика Большемысова была проста, как лопата: меньше формальностей – больше дела. Пусть кафедрой временно рулит тот, у кого есть работающий (пусть и пеноплексовый) реактор и идеи, способные разнести половину степи.
И вот этот временный завкаф вел первое занятие по УИРС в вагончике №3. Тема: «Практическое применение слабофонищих материалов в бытовых условиях (на примере «Школотрона-1»)».
Атмосфера была творческой: «Школотрон» гудел как довольный кот, Попов пытался прикрутить к его корпусу «усилитель квантовой связи» из фольги и медной проволоки, Путин составлял список «Расходники: фанера, гвозди, торий, изолента (оранжевая)», Онегин философски созерцал трещину в полу вагончика.
И тут дверь скрипнула.
На пороге стоял он. Фёдор Журавлев.
Выходец с Потока? Технически – да. Жил буквально через дорогу от Лицея имени Дзержинского, в том самом четырёхэтажном доме на углу Тимуровской и Космонавтов. Но назвать его земляком у нашей четверки язык бы не повернулся. В его истории была трагедия шекспировского масштаба. Роковая развилка. Безжалостная сингулярность. Закономерность под маской случайности.
Девять лет назад. Мама Феди вела своего ребёночка в предвкушении. Вот, всего несколько десятков шагов, надо только написать заявление и… И её чадо будет героем постов в соцсетях! Федя в парадной форме с аксельбантом, в оранжевом берете и ярко начищенных туфельках с букетиком тюльпанов 9 мая, теги #МойСынСамыйЛучший #СпасибоДедуЗаТикТок, тонны лайков и комментов от восторженных подружек и бывших одноклассников!
Перед ними легла Тимуровская – прямая, как стрела башенного крана и спокойная, как сытая слониха, улочка, куда со всего Барнаула все автошколы свозили своих самых безнадёжных курсантов сдавать на «права». И те сдавали. Переход ровно перед крыльцом Лицея. Новенький светофор, как заговорщик, мигнул Феде желтым глазом: «Ну, смелее, парень, шагай навстречу приключениям!», Федя уже сделал решительный шаг, ступив на свежую «зебру»…
Но! В тот же миг что-то безжалостное, неумолимое и отчаянное дернуло его за руку. «Как же мой сыночек-пирожочек будет переходить эту адскую трассу?! – рыдала мамочка Феди – Нет, только не Лицей! Это же опасно для жизни! И для психики!» И она отвела Федю… в школу №5#. Ту самую. В которую можно было попасть через двор и… дырку в заборе.
Ох уж, эта школа №5#! Обитель вечного недовольства, зависти гуще строительной побелки и педагогических методик, основанных на принципе «не высовывайся, а то заметят». Да простит меня читатель за еще одно её упоминание, но без этого контекста Федя – просто скуф, а с ним – трагедия целых миров! Младшая сестра-близнец, построенная всего лишь на несколько месяцев после их родной 52-й, в самом начале 1960-го года (это еще когда Гагарин не сказал своего «Поехали!» – представляете, как давно? Ну, примерно сразу после того, как вымерли шерстистые носороги, но до изобретения дезодоранта в шариках!), эта школа вела безуспешную, но ожесточенную войну длиною в эпоху с дзержинцами. И зависть их была черной, густой и… увы, отчасти обоснованной. Ибо в школе №5# не было:
Кадетских классов МЧС;
Народного музея истории органов государственной безопасности (с собственноручным письмом Софьи Сигизмундовны Дзержинской юным пионерам и настоящим рисунком Рудольфа Абеля!);
Археологических экспедиций;
Вероники Юрьевны – только что пришедшей из Педагогического «биологички», которая могла так деликатно и понятно ответить на вопрос «откуда берутся дети», что ни одному даже самому прыщавому восьмикласснику с последней парты не приходило в голову начинать гыгыкать;
Галины Александровны, у которой каждое новое поколение выпускников сдавало русский на 90+
Двух Ольг – Олеговны и Андреевны, и созданного ими лучшего в крае педагогического отряда подростков «Альфа», чьи вожатые могли за минуту поставить палатку, за пять – разжечь костер в ливень, а за десять – морально подготовить подростка к встрече с барсуком-людоедом;
Профильных смен в легендарном детском лагере «Маяк», где учили не только играть в «Зарницу», но и основам выживания в условиях информационной войны (читай: как отличить фейк в «Инцедент_22»).
Родителей, готовых поддержать педагогов в самых невероятных авантюрах;