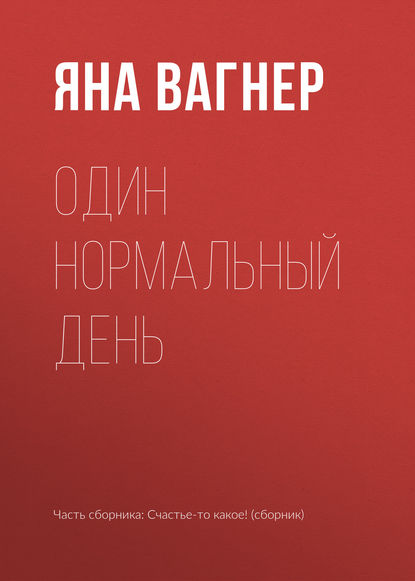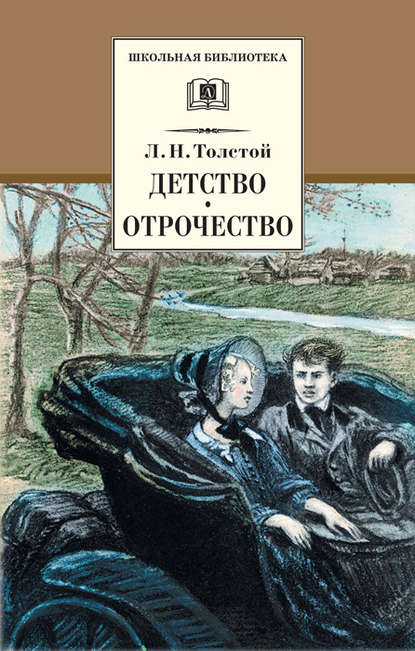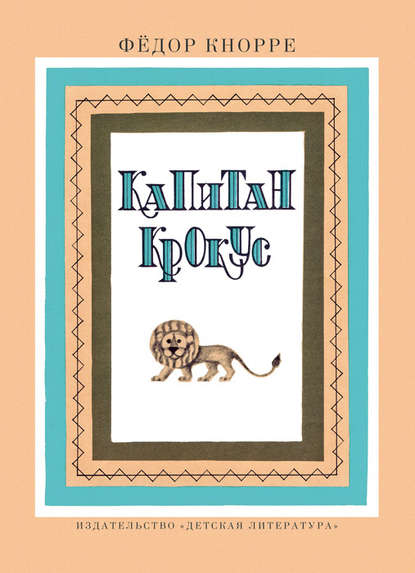Катанда, или Точка невозврата
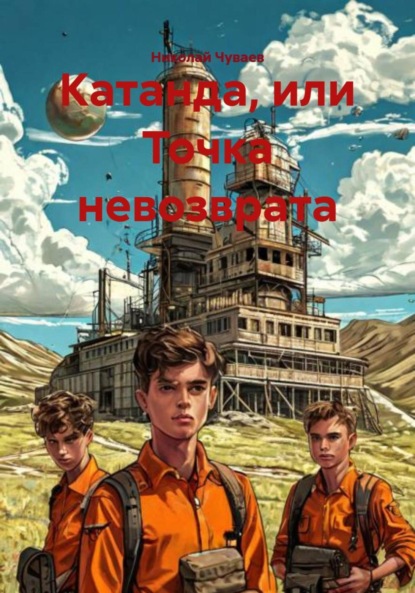
- -
- 100%
- +
И, конечно же, не было таких отпетых технохулиганов, как Данила, Никита, Кирилл и Денис! Ни ракет, летящих в окна завучей (пусть и по ошибке китайского ГЛОНАССа), ни ядерных реакторов в подвале, ни благодарностей от ФСБ за «мегакатализаторы»!
Там были тишина, скука и родительские чаты, бурлящие, как плохо сваренный борщ.
С тех пор жизнь Феди покатилась по наклонной плоскости. Он был бы идеальным лауреатом несуществующей программы «стать скуфом к 15». Выражение лица – вечно недоуменное, как у суслика, увидевшего экскаватор. Одежда – мешковатая, будто куплена на три размера больше «на вырост» (который так и не случился). Чувство юмора… ну да, присутствовало. Шутки его были плоскими, как степь после бульдозера, и понятными только ему самому. Мотивация к учебе стремилась к абсолютному нулю, а то и уходила в отрицательные значения («Зачем учить, если мама напишет смс, что я болен?»).
И вот этот продукт системы №5#, этот редкий экземпляр, сумевший-таки пролезть в Дегроидск сквозь сито «потенциала» (видимо, потенциала к выживанию в атмосфере тотальной зависти), стоял на пороге святая святых Кафедры, держа в руках листок распределения. Его записали в… рембригаду. Ту самую, где уже вовсю блистали Света, Катя и… Марина. Ах, да, Марина! Читатель ее еще не знает. Девушка, появившаяся в приемной комиссии за пять минут до ее закрытия, с аттестатом, завернутым в газету «Советская Сибирь», и фразой: «Куда берут без ЕГЭ? Сюда? Ок, записывайте. Исторический». Тихоня с глазами, в которых читалась вековая усталость от всего, кроме, возможно, пыльных архивов.
– Журавлев Федор, – бубнил Федя, разглядывая «Школотрон» с видом человека, впервые увидевшего инопланетянина. – Мне тут сказали… в бригаду… к вам? Или куда? – Его взгляд скользнул по Свете, которая с интересом разглядывала фольгированный «усилитель» Попова, потом по Кате, аккуратно записывавшей что-то в блокнот с надписью «Раскопки мыслей», потом задержался на Марине, копавшейся в своем рюкзаке, явно ища что-то более интересное, чем происходящее.
Шансы Феди? Абсолютный ноль. Он-то в Катанду не ездил! Не мог похвастаться знакомством с Полосьмак, навыками выживания в условиях нашествия барсуков-людоедов или умением отличить артефакт раннего железного века от ржавой подковы. Его багаж – это компетенция писать анонимки и чувство глубокой обиды на мир, где у соседей-дзержинцев все было круче, громче и опаснее.
– Кафедра экстремальной физики, – с невозмутимостью монумента произнес Данила, указывая шпателем на шаткий стул в углу. – Садись. Вот тебе первое задание по УИРС. – Он протянул Феде веник. – Экстремальное материаловедение пыли в окрестностях «Школотрона». Исследуй состав, происхождение и потенциал использования в качестве альтернативного топлива или шпаклевки. Отчет – к завтраку.
Федя взял веник, как артефакт неизвестной цивилизации, и уныло поплелся к указанному месту. Его попытки завязать разговор с девчонками («А у вас… смартфоны есть? А то тут нельзя…») потонули в гудении «Школотрона», спорах о квантовой сцепленности фанерных частиц и философском замечании Онегина: «Скуф… Да… Сильное явление».
Данила взглянул на этого «земляка», потом на свой блокнот с чертежами нуль-транспортировщика, потом мысленно на Веронику в Барнауле. Расстояние снова стало физически ощутимым. Но теперь к тоске добавилось новое чувство – легкое брезгливое недоумение. Дегроидск собрал под свои фанерно-мраморные своды не только мечтателей с оранжевыми беретами, но и продукты самой системы, от которой они бежали. Борьба за академическую свободу, похоже, включала в себя и борьбу с наследием Потока и школы №5#. И это обещало быть не менее абсурдным и энергозатратным, чем квантовый сбор-разбор. Хотя бы веник у Феди был. И пыли под койкой Попова – на годы исследований вперед. Слава Большемысову, запретившему смартфоны! Теперь хотя бы жаловаться в «Инцедент_22» Федя не сможет. Пока не доберется до Барнаула. А это, как знал Данила, было ох как не просто.
Пока вся страна, по указке министра Скворцова (человека, которого Антон Олегович подозревал примерно так же сильно, как кот подозревает собаку в краже сосиски), делила старшеклассников на «физиков» и «лириков», Дегроидск просто… отменил эти два последних школьных года!
Большемысов считал саму идею профильных 10-11 классов полным абсурдом. Он любил повторять старую фразу известного дореволюционного политика Павла Милюкова: «Что это – глупость или измена?» И каждый раз, отвечая сам себе, Антон Олегович решительно хлопал кулаком по фанерному столу: «Измена! Сплошная измена!»
Почему? Все просто! Вот сидит парень, который уже горит физикой. Запихнули его в «физмат» класс? Отлично! Но что он делает на уроках истории или литературы? Скучает! Рисует в тетрадке формулы… Учитель машет рукой: «Сиди, главное – не мешай». А если он будущий историк в «гуманитарном»? Тогда он будет скучать на физике, открыто говоря: «Елена Михайловна, зачем нам ваши законы относительности? Мы же ЕГЭ по обществу сдаем!» Два года! Целых два года его мозг простаивает на уроках, которые ему неинтересны и «непрофильны»!
– Вот она, измена! – мысленно орал Большемысов – Украли у парня два года жизни! Зачем «готовить» его к вузу эти два года, если его можно было УЖЕ СЕЙЧАС взять и УЧИТЬ в вузе!
Именно так и работал Дегроидск. Зачем 16-летнему Даниле сидеть на скучной школьной «алгебре и началах анализа», если он может (пусть с трудом!) слушать настоящий университетский матанализ у профессора? Зачем школьный учебник истории, если можно сразу прийти на семинар ученого, который держал в руках древние рукописи? Зачем странная смесь под названием «обществознание», если за те же два года можно получить азы настоящих наук: философии (тут Онегин кивал), социологии, экономики, права?
Это ещё полбеды! Думаете, в «физическом» классе физике учат? Или в «историческом» профиле историю глотают? Ха! В «физмате» – натаскивают на ЕГЭ по физике, а в «гуманитариях» – долбят тесты по истории. Но! Умение сдавать ЕГЭ – нужно только для того, чтобы сдать ЕГЭ. Как умение есть тараканов нужно только таракану на арене тараканьих бегов. В реальной жизни, когда клепаешь отражатель фотонного звездолёта или варишь лекарство-панацею, навык вписывать правильную циферку в квадратик – абсолютно бесполезен! А вот умение думать, изобретать, анализировать – бесценно! И этому – вот тут сюрприз! – учат в университете. Даже если твоя «аудитория» – это воняющий тушенкой вагончик №3.
Что до министра Скворцова… У Большемысова не было доказательств, что тот шпион. Пока. Но Антон Олегович был уверен: «Измена!» Скворцов явно работал на врагов, которые хотели, чтобы русские дети не умели читать, думать, формулировать мысли, а только тренировались сдавать тесты. «Готовят безмозглых биороботов, а не ученых!» – подозревал он. Позже, когда у него появился квантовый суперкомпьютер «Кулунда»… (Тут мы не можем сказать больше. Скажем лишь, что министр Скворцов внезапно уехал в очень долгую… командировку. В места, где профильные классы нужны разве что для изучения повадок местных комаров).
Данила посмотрел на Федю. Вот контраст! В десятом классе Федя сейчас скучал бы на ненужном ему уроке и мечтал запостить жалобу в сеть. А здесь? Он подметал пыль рядом с настоящим ядерным реактором под началом студента-завкафедры, который хотел пробить дыру в пространстве! Да, Федя был скуф. Да, его мозги слегка заржавели от зависти и школы №5#. Но он был здесь, в самом сердце Большемысовской свободы, где можно было ненароком вдохнуть пыль знаний (или ториевого песка).
Но философские размышления отошли на второй план перед новым вызовом. Студенческий строительный отряд «Квант» (бывшая рембригада, переименованная для солидности) получил задание государственной важности. Нет, не стройку нового корпуса в степи. Нечто более эпичное и в то же время приземлённое: ремонт полупустой средней школы в соседнем Яготино!
Любезный читатель, позвольте объяснить сию абракадабру. К сентябрю Дегроидск расцвел макарошками цивилизации:
Университет? Открыт! Со скрипом вагончиков и гулом «Школотрона».
«Пятерочка»? Прибыла! Где можно купить хлеб, тушенку и… иногда… мыло (если степной волк не уволок его на сувениры).
«Озон» с «Валберис»? Доставляли! Правда, пункт выдачи находился в полуразобранном экскаваторе, но это мелочи.
Котельная? Запущена! Хотя Большемысов, глядя на дымящие трубы и вспоминая тихий гул «Школотрона», чесал затылок: «Эх, поторопились… Можно было и реактор доработать…»
Четыре многоквартирных дома для профессуры? Заселены! Привезли жен, детей, кошек и тонны книг, которые теперь служили подпорками для шатких столов в вагончиках.
А школы для профессорских отпрысков не было! Первоначально попытались учить их в вузовских аудиториях (аккредитация и лицензия-то позволяли всё, кроме яслей!). Эффект был нулевой. Школяры в родителях-учёных всерьёз учителей не видели. Папа, специалист по квантовой хромодинамике, на уроке физики для семиклашек тут же превращался в цель для запуска бумажных самолетиков. Мама-музеевед, пытавшаяся вести историю в пятом классе, получала вопрос: «А ты мне двойку поставишь? Я же твой сын! Ха-ха!».
Выход нашел Большемысов. По-дегроидски. Договор о сотрудничестве с МБОУ «Яготинская СОШ». Написанный на тетрадном листочке в клетку, скрепленный не печатью, а пятном от чая и надписью «Одобряю! А.Б.». Главный пункт: силами вуза (читай: ССО «Квант») провести капитальный ремонт школы за ДВА ВЫХОДНЫХ ДНЯ!
Объем работ поверг бы в уныние даже героев соцтруда. За субботу и воскресенье надо было:
Перекрыть крышу (которая текла так, что в кабинете биологии образовалось болото с местной флорой и фауной).
Вырвать старые деревянные рамы (по легенде, по подоконнику одной из них в 1972 году ступала нога самого Леонида Ильича Брежнева во время визита на Алтай – факт, свято чтимый местными краеведами и абсолютно игнорируемый Большемысовым).
Вставить пластиковые стеклопакеты (чтобы профессорские дети не замерзли, изучая глобальное потепление).
Содрать линолеум эпохи развитого социализма (с узором «Виноград», вытертым до дыр в местах, где стоял учительский стол и парта отличника).
Наклеить современный кварцвинил (под «дуб премиум»).
Повесить интерактивные панели (которые пока не к чему было подключать, но «пусть висят – для солидности!»).
Побелить потолок в кабинете завучей (где пятно от протечки напоминало очертания Австралии).
Демонтировать прогнившие металлические трубы и чугунные батареи (весом каждая как небольшой танк).
Смонтировать пластик и алюминиевые радиаторы (чтобы тепло шло к знаниям, а не грело улицу).
Установить душевые кабины в раздевалке спортзала (где до этого мылись из шланга, подключенного к колонке во дворе).
– Вы скажите, нереально? – усмехнулся Большемысов. – Успокойтесь, это же Дегроидск!
И «Квант» рванул в бой. Света и Катя, вооружившись строительными фенами и скребками, сражались с «Виноградом» Брежнева. Марина аккуратно расставляла метки для новых розеток под интерактивные панели. Путин, с калькулятором в одной руке и ключом для радиаторов в другой, координировал потоки материалов и людей с точностью швейцарских часов. Онегин, используя свою монументальную силу, выносил чугунные «танки» как пушинки. Попов носился по крыше, грохоча, как стадо слонов, но укладывая новый профлист с неожиданной ловкостью. Данила, возглавил «оконный фронт»: его команда (он сам и два соседа-историка, случайно попавшие под горячую руку) выдирала старые рамы с такой скоростью, что казалось, они испаряются.
Федя? Федя пытался. Он неуклюже тыкал шпателем в стыки старого линолеума, ронял банки с краской, путался под ногами и постоянно спрашивал: «А это куда? А это зачем? А можно я пойду… доложу дяде Васе о прогрессе?» Его присутствие было скорее испытанием на прочность нервной системы «Кванта».
– Уф! – Никита Онегин, вытирая пот со лба после выноса очередной батареи, грохнувшейся во дворе с гулом разорвавшейся бомбы, пробормотал свое самое длинное предложение за месяц: – Надо было назвать отряд… не «Квант»… а «Золушка». До полуночи… все успеть… а потом карета в тыкву…
И в этот момент, когда пыль столбом стояла в разгромленной бывшей «Австралии», ворвался Большемысов. Он пах степным ветром, соляркой и азартом первооткрывателя, нашедшего клад.
– Стойте! – заорал он, перекрывая грохот. – Старые окна! Демонтированные! Где?! Во дворе?!
– Там… – показал пальцем, запорошенным шпаклевкой, один из историков. – Куча…
– Не выбрасывать! – прогремел ректор так, что с новой крыши посыпалась стружка. – Стекла не бить! Очень нужны!!! На вес золота буквально!
Воцарилась тишина, нарушаемая только астматическим покашливанием старого генератора. Все переглянулись. Светка и Маринка фыркнули в кулак. Даже Федя, почуяв необычность момента, начал двигать шпателем чуть быстрее (хотя и безрезультатно).
– Зачем ему это барахло? – прошептал Попов Даниле. – На дрова? На музей совка? На мишени для ракетных испытаний?
Данила пожал плечами, но мысль о мишенях его зацепила. Интересный вариант для отработки точности…
Без лишних вопросов (в Дегроидске вопросы к приказам Большемысова, особенно озвученным с таким энтузиазмом, были чреваты отправкой на поиски жуков-навозников для профессора Жужжалкина), старые рамы со стеклами были бережно (насколько это возможно) погружены в подогнанную «Газельку». Потому что приказ ректора – закон. Даже если он не оформлен на бумажке. Даже если он звучит как бред сумасшедшего археолога. Особенно если так.
Глава 3. Прорыв.
Разгадка пришла позже, громом среди (относительно) ясного степного неба. Оказывается, в высших кругах Университета зрела Грандиозная Идея. Родилась она, как водится, не в головах наших героев, а где-то между чаем с тушенкой у Большемысова и паяльной станцией в вагончике под табличкой «Лаборатория Информатизации».
Никто в Дегроидске, включая степных волков (которые, впрочем, интересовались в основном степлерами), точно не знал, зачем Антону Олеговичу Большемысову был нужен квантовый суперкомпьютер. Слухи витали гуще пыли над стройплощадкой. Существовало как минимум три теории.
Теория Бюрократической Реконкисты: Большемысов, измученный бумажными драконами, задумал победить их… их же оружием. Он хотел развернуть под степным небом нейросеть-монстра, которая бы генерировала тонны безупречных, но абсолютно фиктивных отчетов об успехах Дегроидска. По щелчку пальца! Вернее, по нажатию кнопки мыши, купленной на том же «Озоне». «Завалим Минобр бумагой так, что они сами сбегут в степь к волкам!» – якобы заявил он в узком кругу, потягивая чай из кружки «Лучшему археологу-ковбою».
Теория Археологического Грааля: Увлеченный загадкой таинственной каменской культуры раннего железного века Лесостепного Алтая (которую снобы из Новосибирска нагло отрицали, называя «археологическим фантомом»), Большемысов мечтал нанести на карту края все уже известные курганы. А потом, с помощью суперкомпьютера и одной ему известной формулы (выведенной на салфетке во время раскопок под дождем), вычислить координаты всех ещё неизвестных памятников! «Найдем столицу приобских скифов! Или хотя бы капище! И утрём новосибирцам нос!» – шептались в вагончике историков.
Теория Недоброжелателей (и Феди Журавлева): Самая простая и, возможно, самая правдивая. Говорили, что Антон Олегович с детства, тайком от всех, мечтал… запустить «Сапёра» на 256-битном 86-ядерном процессоре с дофигалиардом оперативки и бесконечным SSD! «Чтобы мины взрывались по-настоящему эпично! И флажки были оранжевыми!» – злорадно фиксировал в своем блокноте Федя, готовый доложить дяде Васе о «нецелевом использовании госсредств».
Но в действительности… Иметь в распоряжении Университета суперкомпьютер – это же не только полезно (для чего? ну, для чего-нибудь!), но и чертовски престижно! Особенно если этот суперкомпьютер – собственной, дегроидской сборки! Это был вызов системе, бюрократии и законам физики одновременно! Фактор «Сделано у нас!» перевешивал все разумные доводы.
Техническое задание на этого квантового монстра сформулировал Степан Антонович Глушков. Молодой кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией информатизации (пока что – одним вагончиком с табличкой), однофамилец (и, по упорным слухам, дальний родственник через троюродную тетку) самого Виктора Михайловича Глушкова – советского кибернетического титана. ТЗ было шедевром научно-технического абсурда:
Полностью отечественная элементная база. «От кабеля до кубита! Никакого зарубежного шпионского кремния!» – декларировал Глушков, чиня в это время что-то паяльником времен Глушкова-старшего.
Неограниченная масштабируемость. «Чтоб рос, как степной бурьян! Прикрутил вагончик – добавил петафлопс».
Поддержка логик: Двоичной («Ну, классика!»), Троичной («Для баланса!»), Десятичной («Для бухгалтерии!»), Случайной («Для творчества!») и… Безлогичной. «Абсолютно необходимая опция для работы с документами Рособрнадзора!» Причем все эти процессы должны были идти одновременно, где нужно – пересекаясь, где не нужно – параллелясь, а иногда и просто игнорируя друг друга. «Как жизнь в Дегроидске!» – философски заключал Глушков.
Ирония судьбы: В Минобрнауки инициативу… одобрили! Видимо, кто-то там тоже мечтал о «Сапере» космических масштабов.
Но денег не дали. Ни копейки. Более того, намекнули, что могут отобрать и то, что уже выделено на что-то менее амбициозное (например, на туалетную бумагу для вагончиков). Кризис!
Очередной мозговой штурм. Пахло торием, тушенкой и отчаянием. И тут слово взял аспирант Баранов, сбежавший в Дегроидск прямиком из технопарка «Алабуга», где ему надоело паять одно и то же.
– Братья по разуму! – воскликнул он, стуча кулаком по столу. – Забудьте про кремний! Забудьте про дорогущие литографы, которые только и умеют, что прожигать дыры в бюджете! Я предлагаю революцию! Дегроидскую! – Он выдержал паузу, оглядев заинтригованные лица. – Собственный литограф! Но не такой, как у всех! Наш литограф будет… печатать транзисторы! Как принтер! На обычное оконное стекло! Чернила? Кавитационный наноразрушитель! Насыпаем обычную «серебрянку» – алюминиевую пудру, мешаем с ацетоном дяди Васи, бомбардируем ультразвуком до состояния нанораствора! И наш литограф, как струйный принтер, печатает этими наночернилами прямо на стекле! Транзисторы, дорожки, память – всё! Техпроцесс? 1.5 нанометра! Обещаю! Стабильно! Intel и AMD после этого разорятся! Даже «Хуавэй» зачешется! – Он говорил с таким энтузиазмом, что верилось, несмотря на всю абсурдность.
– Глушков! Баранов! Берите стекло! Берите… – Большемысов огляделся, – серебрянку и ацетон! У дяди Васи в кандейке его – дофига! Он им ржавые гайки отмачивает! Конфискуем для науки! Вперед! Печатайте транзисторы, оперативку, видеокарты… всё! Суперкомпьютер должен быть готов ко Дню космонавтики! Или ко дню археолога. Какая разница!
Так начался Великий Дегроидский Стеклянный Проект. Рядом с вагончиком №3 вырос шатер из брезента (чтобы ветер не сдувал нанотехнологии). Внутри стоял станок, собранный Барановым из списанного плоттера, микроволновки (для нагрева) и деталей того самого экскаватора, где был пункт выдачи «Озона». Рядом – горы старых рам из Яготино, стекла которых теперь бережно протирали волонтеры-историки, пытаясь сохранить отпечатки эпохи Брежнева для потомков (или для музея). В воздухе витал едкий дух наноацетона – «чернил» нового литографа. Дядя Вася ходил вокруг и хмурился, лишенный своего любимого растворителя.
Федя Журавлев, чувствуя свою уязвимость после яготинского провала (его шпаклевка отвалилась кусками на новый «дуб премиум»), пытался примазаться к великому делу. Он норовил поднести стекло, протереть тряпкой, но чаще всего путался под ногами. Из-под его тряпки выходил исключительно брак. Стекла мутнели, покрывались разводами, на которых литограф Баранова печатал не транзисторы, а невнятные кляксы. Процессоры, рожденные на стеклах Феди, не могли возвести 3 в куб. Видеочипы… страдали от смеси дальтонизма и астигматизма в особо запущенных формах. Оперативная память получалась девичьей – все забывала мгновенно. Если бы Федя работал в Intel, из его кремния не вышел бы даже самый бюджетный Celeron, а так… получались артефакты, годные разве что для музея компьютерного брака.
– Он же анти-Мидас! – стонал Баранов, глядя на очередную партию стекол после Феди. – Все, к чему он прикасается, превращается в… в целеронный песок! 1.5 нанометра? Ха! У него техпроцесс – 15 сантиметров! В лучшем случае!
– Может, это и есть «безлогичный модуль»? – предположил Путин, изучая кристалл с явным дефектом. – Он не подчиняется законам физики. Как Федя.
Но проект шел. Лучшие стекла, очищенные не Федей, превращались под шипение ацетоновых сопел в пластины с причудливыми узорами – будущие процессоры «Салют-7» (ностальгическое название от Баранова), терабайтные плашки «оперативки» и чипы графических ускорителей. Их бережно несли в аудиторию 304а Главного корпуса, где медленно росло нечто грандиозное и пока безымянное (читателю подсказка: «Кулунда»). Сердце будущего суперкомпьютера.
И вот настал этот день. Сначала была красная ленточка у аудитории 304а, пафосные речи Глушкова о «квантовом скачке прямо из вагончика» и «триумфе дегроидской смекалки», вспышки камеры телеканала «Катунь-24» (которая упорно ловила в фокус Музу с системником, а не людей). Глушков щелкнул тумблером, сделанным из кнопки звонка яготинской школы. «Кулунда» проснулась не гулом, а странным мелодичным звоном стеклянных пластин под напором охлаждения.
На единственном мониторе (телевизор, ранее висевший в вагончике историков) побежали зеленые строчки написанной здесь же, в Дегроидске ОС «КуЗЯ» (Кулундинская ЗелёнаяЯдрёная):
user@kulunda:~$ _.
Глушков торжественно вывел:
echo "Привет, Дегроидск!".
Система послушно ответила. Муза на фасаде как будто улыбнулась. Аплодисменты! Баранов уронил от волнения паяльник.
А потом… Поздним вечером, когда последний журналист укатил в райцентр, а последний волонтер уснул лицом в винегрет, Антон Олегович Большемысов, таясь как школьник от родительского комитета, тихо, на цыпочках, взял ключ от актового зала. Сердце его билось чаще, чем во время защиты докторской по каменской культуре. Он включил пультом д/у огромный 8К экран (подарок спонсора, который так и не приехал) и аудиосистему «Аймакс». Акустика завыла степным ветром от внезапной нагрузки. Большемысов сдул пыль с бархатной коробочки, извлек коллекционный диск «Red Alert 3: Uprising. Ultimate Edition». Он был полон предвкушения. Сейчас-то! На таком-то монстре! Боевые медведи в 8К будут рапортовать «Так точно, тофарисч!» четко, что услышит сам Верховный главнокомандующий! Стаи дирижаблей «Киров» поплывут по экрану с частотой в 240 FPS! Вакуумная бомба обрушится на головы альянса НАТО с реалистичностью, от которой содрогнется кресло! Колонны танков «Апокалипсис» прокатятся по вражеским базам под аккомпанемент многоканального звука – настоящая симфония цифрового разрушения!
Он с трепетом вставил диск в широкий, многообещающий привод. Привод бодро замигал синим огоньком, зажужжал с надеждой новенькой техники… и вдруг издал звук, похожий на ворчание обделенного пса. На огромном экране всплыло окно: «ОШИБКА НОСИТЕЛЯ. Диск не распознан. Проверьте региональную защиту и наличие царапин.»
«Царапин?!» – фыркнул Большемысов, разглядывая девственно-блестящую поверхность диска. Он попробовал вставить диск снова. Привод зажевывал его, как невкусную кашу, и тут же выплевывал обратно. На третий раз «Кулунда» вдруг выдала на 8K-монитор:
user@kulunda:~$ ERROR: /dev/sr0: Attempt to read non-existent sector. Medium may be faulty or… excessively optimistic.
«Оптимистичный диск?! Да я тебе покажу оптимизм!» – прошипел Антон Олегович. Он попробовал запустить игру напрямую через «КуЗю», набрав startx (ведь где-то же должен быть графический интерфейс?!). ОС ответила: command not found. Он ввел game RA3. Ответ: RA3: not a valid quantum entanglement protocol. Use –help for available protocols. Помощь предлагала симуляцию бюрократических процессов.
Тогда он попробовал вставить диск в древний DVD-плеер, валявшийся в углу зала и подключить его к «Кулунде» через гору переходников. «Кулунда» отреагировала на подключение нового устройства резким скачком потребления энергии. Лампочки в зале померкли. На экране появилась надпись гигантскими пикселями: «НЕПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ФОРМАТ. Ожидался квантовый кубит. Обнаружен… DVD? SERIOUSLY?» А потом экран погас, сменившись классическим «синим экраном смерти» ОС «КуЗя», на котором весело плясали пиксельные медведи в беретах, держа в лапах табличку: «ОШИБКА АРХИТЕКТУРЫ. Ваш ЦПУ говорит на «Стеклянно-Ацетоновом». Игра требует «Древне-Кремниевого». Перевод невозможен. Сожалеем. Или нет.»