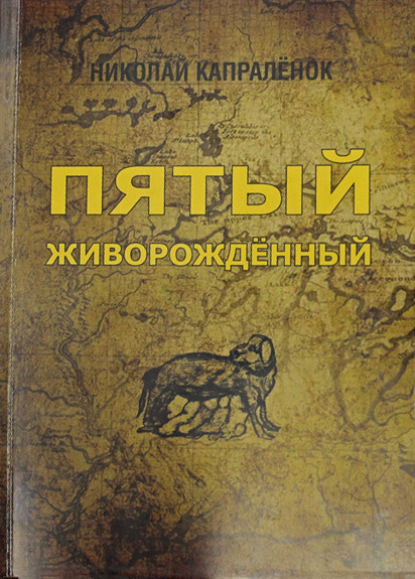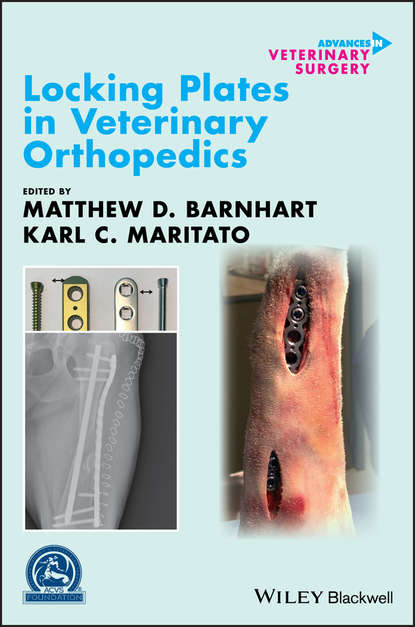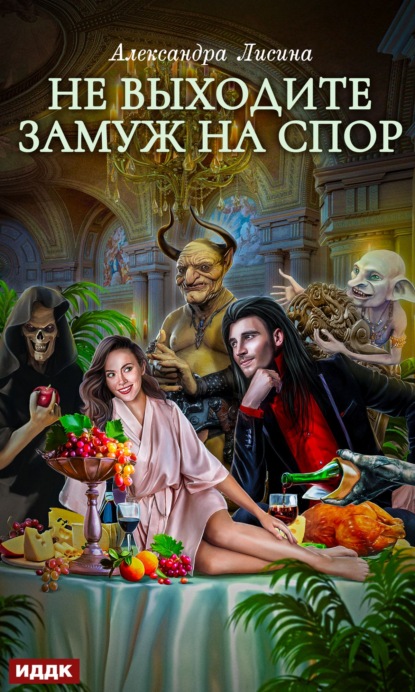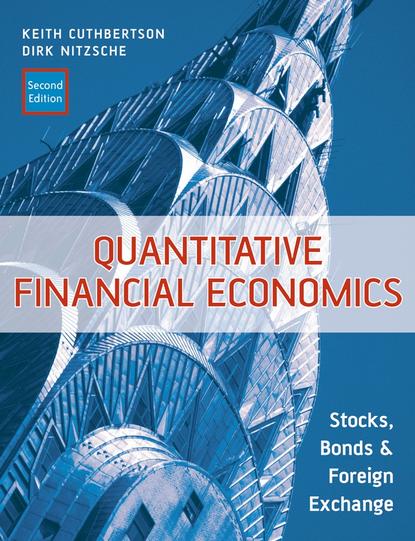- -
- 100%
- +

И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживёте, и узнаете, что Я Господь.
Иез. 37
ЭТО

Книга о Сахалине. География заменена биографией, социальное сексуальным, политическое эротическим. Исторической правды – вообще никакой. Это любовный роман с империей. Страшное побеждено, поглощено и выделено. Новая книга с картинками о каторге. Место, где погибает последний выродок и нарождается первый человек. Поражающее сходство с детством А. Камю – конечно, одного меня поражающее.
Рискованное дело: рассказывать о книге, которую ты ещё не написал, которой может никогда и не быть. Тут, выкладываясь сразу без всяких обиняков, я поступаю нагло и беспардонно, ибо как будто втравливаю в сомнительное дело людей ни в чём не повинных, свободных, и мне самому неведомых, которые вовсе и не жаждут моих выворачиваний лицезреть. Высокопарный слог я путаю с высоким стилем, идеи со словами – Гоголя с Гегелем, одним словом.
Тем не менее, меня должно хватить ещё года на три, чтобы я успел выработать ресурс своих сил и запасы резервного золотовалютного фонда.
• Юрка позвонил 12 февраля. Я сидел пил сто граммов, отца поминал – бате сегодня 114 лет, то есть сто тех и 14 этих, в смысле веков. История, печёный блин, не кончается. Я её почти было отменил, ан Нехороший человек опять её пишет. Я не читаю, а он пишет. Я говорю, к бесу всю вашу историю, и всемирную, и государства Российского, и КПСС, и СССР, и постмодернистическую федералистическую историю России – всё, всё на хоры, на галёрку, в дальнюю дыру! Я начинаю новую, и она называется «Синопсис к жизни», вот эта преамбула. Впрочем, пусть кое-что историческое возляжет не «на хорах», а в партере: архивах и трудах историков по полочкам разложено, но чтобы детям мозги не затирали. Пусть дети живут доброй сказкой, страшно доброй и бесполезной, ещё лучше – со счастливым концом.
• Всякий раз, возвращаясь на остров, я замечал перемены в жизни земляков, я хотел перемен, и я видел их, и не всё мне нравилось.
МОЛИТВА

Господи, прости меня, грешного! Пятый живорождённый – это я, Николай Капралёнок. Счастливчик. Так меня и называйте.
В деревне моего отца, Николая Ивановича Старовойтова, в детстве звали – Колька Капралёнок, бабка была Капралиха, а всё семейство – Капралята. Ну и я так назвался. Для всех, кто меня знает, это будет большая новость: я взял себе псевдоним, а по сути – имя пращура, чтобы разом покончить с генеалогией как семейной наукой, с родословной и наследием предков. Всё, что у меня от них осталось, от смоленских крестьян Ельнинского уезда, Заболотской волости – это имя.
Пишущий роман от первого лица вынужден что-то да рассказать о себе, хоть какое-нибудь враньё и выдумки. И мне нравится нередко встречаемая у американских писателей первая фраза биографических сочинений: Call me… Вот он я есть, зовите, звоните мне… Далее следует имя повествователя или сочинителя, героя или автора, что, впрочем, не всегда легко разделить.
Вот наугад сначала.
Герман Мелвилл. Моби Дик: «Зовите меня Измаил». Ирка, когда я послал ей эсэмэску «кол ми исмаил», поняла это как «позвони мне и улыбнись» – неплохо, да? И позвонила, и улыбнулась.
Курт Воннегут. Времятрясение: «Называйте меня Младшим»… О, да! (Я и есть младший из Капралят, то есть последний помнящий о своём происхождении.)
Пол Андерсон: «Зовите меня Джо», Уильям Сароян: «Меня зовут Арам» и даже «Call Me Marianna».
Наконец, мой любимый Рокуэлл Кент. «Это я, Господи!» – стою, перед Тобою, Боже! Ты, конечно, всех помнишь поимённо.
Это хороший обычай. Приятно быть вежливым и, начиная разговор с людьми, представиться, тем более тому, кто собирается долго и (возможно, местами) излишне подробно рассказывать о своей жизни. Бог весть, откуда это повелось, может, со времён царя Гороха, что человек хочет отметиться с первых страниц своего писания. Может, он боится не успеть: а вдруг его кондратий хватит раньше, чем труд будет завершён и сдан в печать, и странствие оборвётся.
Тем не менее, господа (тут я позволю себе толику пафоса), у меня действительно есть документ, удостоверяющий тот факт, что я родился, а вернее сказать, мама меня родила, и пятым, и живорождённым. Все выжили, впрочем, с разным успехом. Есть такая бумага из дербинского ЗАГСа. Но не стану я до поры до времени грузить читателя подробностями зарождения человеческих существ в утробе матери.
Эта книга, в сущности, про явление человека во внешней среде обитания. Показан ещё один из способов человеческого существования. Однако писана она, как бы это сказать поизящней, писакой-самозванцем, на старости лет вдруг понявшим, что ему всё можно. Ничего не нужно, но всё можно! Лишь бы только не впасть в старческую болтливость.
Автобиографический роман чем хорош? Тем, что уже всё знаешь, что было, не нужно ничего выдумывать. А вот в чём смысл всего, что было, ты, конечно, не знаешь и выясняешь это в процессе писания, пиша, так сказать. И это, писомое тобой, постепенно обретает образ откровения в том сакральном, избытом и забытом, трудно читаемом, неведомом тебе смысле, как это было во времена пророков. В те времена пустых слов не записывали. Бумаги не было, не говоря уж о компьютерах – одни палимпсесты, папирусы и пергаменты. Да что там, младенца не во что было обернуть – в сено-солому, в тряпицу какую…
Теперь писать легко. Достаточно обладать необходимой долей легкомыслия. Даже записные книжки делают в виде книги – уже в твёрдом переплёте.
Книги у нас в семье до сих пор любят читать, мама в 90 лет читала, шевеля губами и едва слышно пришёптывая, современные «романы про любовь». Она у меня была умница и любила учиться, да только четыре класса и закончила в церковно-приходской школе в сельце Николаевском.
Я отлично понимаю, что написать роман в духе А. Милна или любого другого английского писателя, в духе лёгкого концентрированного юмора, так сказать, разгрузочного и омолаживающего душу, свободного от навязываемых шаблонов жанра, я не смогу. Даже если расскажу вам всё, что хочу рассказать, ничего не утаив в своей довольно хорошо мне известной жизни, вы не будете так смеяться, как вы ржёте над самым коротким рассказом указанного автора. Именно А. Милн сообщил мне, что он где-то слышал, что, дескать, каждый человек (он выразился «каждый из нас», но я уверен, что он имел в виду не менее чем всё человечество), так вот, каждый из нас, будем уж точны, «носит в себе материал по крайней мере для одной книги», а женщины так по две.
Я подумал, что уж у меня-то хватит и на пятитомное собрание, если не слишком экономить бумагу. Апофеозом моего писательства, я предупреждаю, станет текст Конституции для Российской империи.
Именно эта мысль сделала меня смелым и нахальным: я решил написать книгу о пятом живорождённом счастливчике, неизвестно для чего появившемся на белый свет. Мама мне об этом не сказала, и я, прожив с нею ровно 55 лет и 7 месяцев, не осмелился спросить, ибо, если уж на то пошло, спрашивать такое у матери было бы верхом бестактности, бестолковщины и даже, может быть, подлости. Как видите, я до такого не опустился.
Только сейчас, когда мне почти 70, а мамы нет со мной 15 лет, и мне наконец-то всё можно, я задаю себе – увы, только себе – этот вопрос: «Мама, зачем ты меня родила? Зачем я прожил эту прекрасную, тобой подаренную мне жизнь? Как это у тебя получилось – сделать меня одним из самых счастливых людей на земле? Что ты сотворила с этим страшным временем, двадцатым веком, что он стал для меня не просто терпимым для жизни, но и захватывающе интересным и лёгким?» И вопрос, что мне делать с этим веком и миром дальше, приходится решать самому.
Таким образом, собрание сочинений я начал писать с конца, с завершающего тома. Вполне возможно, что мне не хватит ума, сил и времени на полное собрание, зато квинтэссенцию своих бредней я успею спрессовать и выдать на-гора.
Философы разное говорят про смысл жизни… Генетики уверяют, что, с их точки зрения, жизнь вообще лишена смысла, то есть в геноме человека нет такой штуковины, как смысл. Говорят, в природе нет ни цели, ни смысла, ни вечных ценностей для торговцев ценностями, ни вечных идей для умников и бездельников. И, Господи прости! Сама жизнь не имеет никакой ценности. Вот до чего дошла наука, докатилась…
Но тут в голове моей заиграло, зазвенело, и я спросил у ясеня: где моя любимая? Где моя любимая, ты знаешь, где она! Мамочка, жёнушка, внученька-подруженька… Где все мои любимые? Вот они, со мной, и жизнь обретает смысл, цель и соблазн жить дальше.
«Я передала тебе, сынок, генетическую информацию от твоего отца и себя лично. Если сможешь, передай её дальше, и ещё – трансформируйся, дитя моё, способ трансформаций – там же», – сказала мама, и я проснулся: значит, смыслы надо создавать! Самому!
«Опять эта чёртова свобода воли!» – заревел я голосом Курта Воннегута.
И поехал, поехал далеко. Выйди мне навстречу, Господи!
Аминь!
ВХОЖДЕНИЕ В РЕКУ
Нарезка из путевых записей, снов, разговоров, соображений и цитат – обо всём, что будет далее… Из всего этого читателю станет ясно, стоит ли тратить время на остальные главы
Мы, Капралёнки, происходим из Смоленской земли. История Родины хорошо расшвыряла наш род по всей земле, а крестьянская судьба кое-кого и сохранила. Мы с сестрой на сей день за старших остались. Дай Бог памяти, то ли из вятичей, то ли из радимичей – какого-то такого лесного племени дети – ну и, естественно, грибы и ягоды сильно любим.
Семью нашу хоть и занесло на край света, и даже за край, на Сахалин-остров, однако ни отец с матерью, ни старшие братья не забывали, откуда они родом. Я и сам, хотя родился уже на острове и Япония мне ближе, чем Европа, и по ландшафту, и по еде, и по звуку, и по солёному духу воздуха и воды, а всё же по Смоленщине я тоже как-то как будто скучал, даже ни разу не видев её. И звуки маминой речи отличал от прочих говоров – волжан или кубанцев, или архангелогородцев-северян. У нас, у смолян, к белорусскому звуку ближе речь была, чем к поморам или вологодцам. На Сахалине со временем все русские варианты языка смешивались, и хохлы и татары, армяне и корейцы вырабатывали правильный, единый русский язык, хотя порой и не совсем печатный. Мату много в нашем говоре, зато его и зулусы понимают.
Вот пишу сейчас про эти вещи, а за горло меня берёт тоска – вообще по России, которой я, по сути, и не знаю. Мало там жил, и в это же самое время Японию люблю, Сахалин свой. И слеза на глаз лезет, жгёт череп в правой теменной доле. Я этот земной шар с нашей стороны очень люблю, и выпуклость его из рук выпускать не хочется. С малых лет ощущаю, чем сижу на земле, лежу или стою, даже теменем чую, затылком – круглая она, земелька наша.
ЗЕМЛЯ
При звуке этом что видится тебе, друг мой читатель?
«Пекод» или «Пелорус»? «Юнона» и «Авось»? Убиваемые цингой Магеллан и Витус Беринг? Слышишь ли ты спасительный крик вперёдсмотрящего с фок-мачты? Видишь ли ты убитую забавы ради чайку, раздолбанную на песке вороной? Или непролазная грязь бесконечных российских дорог приводит в содрогание твой позвоночный столб, а может, золотистая рожь при луне в белоснежных полях под Москвой навевает нечто? Или танки в подсолнухах под Донецком?
Какой драгоценный образ земли родной возникает, что встаёт перед мысленным твоим взором при звуках: зееемляааа!?
Я живу в мастерской. Тысячи дней своей жизни провожу один в небольшом и изрядно захламлённом, беспорядочно, бесстильно, случайно меблированном пространстве. Столы, стулья, подоконники, полки, подиумы, всякая мало-мальски горизонтальная плоскость – всё это поля сражений после битвы или сцены драм и комедий, которые ещё будут разыграны. Рулоны, кипы, клочья, листы и пачки бумаги. Стены, холсты, висящие на стенах, стоящие на мольберте, планшеты, рамы, картины в рамах и без рам. Краски в банках, коробках и ящиках, на полках, столах, на полу, карандаши и палочки древесного угля. Сотни мелких привычных предметов, мелочей, любимые орудия и жертвы моей экспансии. Часами я сижу неподвижно, пялясь на холст – белый, идеально загрунтованный, отшлифованный мелкой шкуркой. Мне кажется, что дом слегка подрагивает, а в белом грунте холста возникают какие-то линии и пятна. Да, там движутся тени, обретая всё более зримые очертания людей, коней, летящих птиц, виолончелей и контрабасов. Я безвольно в полудрёме сижу перед мольбертом. И только моё воображение рисует линии, членит холст, намечает планы. Наконец, наступает пора проявить волю. Начать работу, провести первую линию композиции.
Что это будет? Я не знаю. Линия, разделяющая Небо и Землю? Отделяющая свет от тьмы? Уносящаяся в дали или в выси?
Я не всегда могу заранее сказать это. Часто я отдаюсь интуиции, доверяюсь тому стихийному началу, которое движет птенцом, взламывающим скорлупу яйца. Оно проклюнется…
«Ах, Россия такая большая страна!» – восклицает иностранец, пустившийся в странствие по Сибири. Китаец говорит: «Какая пустая земля!» (размер его не пугает). А мы – чтό мы только не говорим о своей стране… «Россия – моя Родина» говорить вроде глупо и смешно – всё равно, что сказать: «Моя Родина – земной шар». Сахалин – это да, это звучит…
Поезд на Тымовск. На поронайском перроне ночью, в 3.16. В темноте собаки подошли к вагону, они нервно зевали в ожидании. К ним вышла проводница с ведром помоев, собаки поели. Проводница с ведром полезла под вагон стоящего на соседнем пути поезда. Собаки двинулись за ней. Падал сырой снег. Полицейский спросил меня, что я держу за пазухой. Я достал фотоаппарат и показал ему.
«А, камера», – привычно определил он вещь и отвернулся.
…В январе у меня был первый разговор с издателем Александром Колесовым о каторге. «Идея проста, – сказал он. – Надо сделать иллюстрации к чеховскому «Сахалину». После паузы добавил: «И к Дорошевичу. Ты же знаешь эти книги?»
Поволновавшись, пометавшись мыслию, преодолев маету сомнений и страха, я принялся читать, как в первый раз, – и совершенно по-новому – эти тексты.
С первых же страниц стали попадаться слова и фразы, которые хотелось подчеркнуть, запомнить или забыть и вычеркнуть их из словарей. Понятия пространства, пластические ориентиры, опорные точки: путь, страдание, страх, смерть, воля, каторга, еда, холод, сырость, океан, горы, зарево пожаров, тюрьма, лагерь… Двадцатый век калёным клеймом выжег эти понятия в сознании целых народов.
Не мне рассуждать о литературных достоинствах этих книг. Мне нужно впитать образы. Не тексты, а живую плоть этой литературы. Вновь пережить то, что въелось в память с детства, что читано и видано в течение жизни на родном острове. И начинать рисовать, искать и находить подходы к этой работе. Сразу сказал себе: я не иду за буквой, текст – это тропина, дорога, направление. Я их знаю, эти тропы. Я ходил с отцом по этим дорогам. Путь моей семьи во многих пунктах совпадал с чеховским. И с севера на юг, и с юга на север. Мне захотелось сделать рисунки так, как будто книгу читает сын или внук каторжанина, поселенца или аборигена – одним словом, уроженца и жителя острова, мало смыслящего в художествах и глобальных проблемах, занимающих умы великих писателей. Я ничего не хочу знать о них заранее: кто и как иллюстрировал Чехова, что думал об очерках Дорошевича, какие образцы и образы создали художники книги до меня. Ничего не знать и делать всё как будто впервые. Будто во всём белом свете больше нет художников.
В мае, чуть потеплело, я рванулся на север, туда, где похоронена моя бабка Наталья Максимовна, где родились мои сестра и брат, и я сам. Александровск, Ноглики, Мгачи, Дуэ, Дербинск, Арково, Армудан – родные топонимы-экзоты. Как не расчувствоваться, люди!
Но тут я слышу голос…
Да, я уже стою в Александровске на причале, у Трёх Братьев, и слышу недоумённые вопросы современников Чехова: «Зачем он поехал в такую даль? Здоровье угробить? Кто эту книгу и читать-то станет?» И я, конечно, не могу ответить в точности на такие вопросы, но всё же кажется мне, что Антон Павлович Чехов бежал от невыносимой жизни в столице России. Плохо ему там стало, невмоготу. А куда бежать? В степи? Так он сам из степей в столицу убегал. Наш Сахалин понадёжней место будет. Тут всем всё смертельно открыто – и море, и вольное небо, и Богородица в нём.
Почему да отчего из России люди бежали, да и бегут, не вопрос для меня, а вот к чему прибегают – это вопрос, большой и обширный. Экзистенциальный, так сказать, вопрос.
Ну, вот, приехал, приплыл Антон Павлович на остров, а там мы. И взяла его ещё большая тоска по идеалу, и ужас охватил его, и мотался он от поста к посту, от острога к острогу – всё хотел понять, где она, правда, с истиной разминулась. Тридцать лет ему было, до всего дойти он хотел, в самую тёмную, смрадную дырь проникал, до тюремных нужников доходил и всё разглядывал. Да где она, истина? Не в дерьме же. Она, попы говорят, на небе.
Большой начальственной важности в нём не было, он не ругался и кулачищами не махал, а всё что-то писал и в душу заглядывал, но сильно не лез, а глядел жалостливо и как будто слезу сглатывал. Кадык у него ходуном ходил, дышать ему было трудно – в наших бараках оно душно.
Я рисую картинки про сахалинскую каторгу. Для всей России Сахалин остаётся за пределом интереса. А ведь это мой рай, моё детское блаженство. Там где-то, в сизых небесах, и бабка, и мама, и батя, и брат. Солдатские и каторжные души. Я думаю о них, и ясная картина, не светлая, но ясная, понятная, перед глазами моего ума встаёт. В простоте и пестроте, и тонкости и толщине. В пластах рыжих и белых, чёрных и красных глин. Там растворяется без следа плоть моих предков. Это моя земля, но мы уже не нужны друг другу. Антон Павлович, по всей вероятности, не владел основами марксизма-ленинизма – он людей ещё жалел. А больше ничего, пожалуй, и не мог. У доктора не было рецепта от нашей дурости, да и от своих болячек у него не было рецепта. Сахалин его угробил, меня породил. Тут большая экзистенциальная разница. Он в тридцать три перестал что-либо понимать и чему-либо радоваться, а только выл и выл во всех своих смешных комедиях. А я в 66 окончательно свихнулся и тоже завыл. По чём вою? По гибели Помпей и Геркуланума. Только наш пепел ничего не сохранит. Иссыхает кровь, испаряется тело, каменеет душа. (Бессмысленный высокий стиль. Антон Павлович, бедный, не зря боялся в него впасть. Он чувствовал, как империя погружалась в шлаки. Шлак – человеческий отброс, то, во что превращается жертвенная скотинка.)
Для нас каторга – дом родной. В громадной пустыне России для нас не нашлось и не найдётся другого родного места. Сахалинцы, только они, любят этот остров. Всю грязь бараков, каторги мы тянем на себе, не замечая, и детям передаём. Водкой, блевотиной, бессмысленной злобой к ним, чадам своим, к себе, к земле.
Звонок подруги из Москвы. Пьяным голосом поздравляет с Рождеством, не называя этот день праздником, просто повторяет: «Я тебя люблю, Старый». Хлынуло ванинским и сахалинским розливом. Если женщина говорит пьяным голосом – это каторга. Это её голос.
Так вот как-то потащился я за Антоном Павловичем и Власом Михайловичем, припадая то на одну, то на другую ногу. На полтора года растянулась эта дорога домой. Землячок мой, теплоход «Пионер Сахалина», как будто дожидался меня с пустыми контейнерами у причала «Баграм». Это был май 2011 года, и первая зелёная тетрадь для путевых записок уже была начата.
ВПЕРЁД К ЭКСТРЕМОФИЛАМ
Вторая зелёная тетрадь
В Рождественскую ночь 25 декабря 2012 года летим мы с А.К. из Владивостока в Южно-Сахалинск с частью тиража нашей книги – презентовать её заказчику, главному читателю «Острова».
Мою левую коленку терзает артроз, Большой Вертел терпит, и я тащусь за своим издателем, как подстреленный. Сустамед и Живокост – творения аптекаря-языкотворца – «мягко втирать». Да тру я, тру! Мне нужно дойти, добрать то, чтό ещё можно, чтό не до конца рассыпалось в прах на моём острове…
Найти отпечатки следов на песке, пока их не смыло волной.
Архив УФСИН Сахалинской области. Генерал Гектор Францевич Гродт – начальник всех тюрем Сахалина. Он меня не принял. Не записался я заранее, но не зарекаюсь… ещё приду.
СТРОИТЕЛЬСТВО 506. ИТЛ
Тут сидел и пахал мой брат Старовойтов Анатолий Николаевич.
Время существования: организован 12.05.1950 [1]; закрыт 29.04.1953 (лаг. подр. переданы в ОИТК УМЮ по Сахалинской обл., реорг. в УИТЛК УМЮ) {35}.
Подчинён: ГУЛЖДС {18}, [2. Разд. 1. Л. 1];
ГУЛАГ МЮ с 02.04.1953 {33}.
Дислокация: Сахалинская обл., в р-не н.п. Дербинское на 12.05.1950 [1]; г. Александровск-Сахалинский на 11.09.1951 [2. Разд. 1. Л. 2], [3]1; Сахалинская обл., Кировский р-н, пос. Тымовск на 27.02.53 {31}, [2. Разд. 1. Л. 2].
С 26 на 27 декабря. Наступает главный Сустамед. Ночью, когда я захрапел, чья-то мягкая ладонь закрыла мои дыхальца. Я стал задыхаться и целовать ладонь. Рядом не оказалось никого, но в смежной комнате, судя по всему кухне, совершенно мне не знакомая дама громыхала посудой и напевала, пахло оттуда хоть и родственно, но неаппетитно – лаком и уайт-спиритом.
Архивные документы по культбазе посёлка Ноглики. Товарищу Ли Фу Сену выговор – за самовольство и поломку ванны, вычесть стоимость с него и уплатить владельцу ванны товарищу Алимовой. Второй раз за месяц: то он глаз подбил товарищу Дё, то вот – долблёное корыто разбил. «Что жрать будешь, тов. Ли Фу Сен? Я ж у тебя всю зарплату штрафами вычту!»
Специальности: зав. культбазой, уборщицы, банщик, печник, зав. туземной школой, учитель туз. школы (отец), оклад 235 рублей + 20 % за выслугу, больничная сиделка…
Уф, Господи! Готовлю спич для презентации. Тезисно. – А.П.Чехов и «Остров Сахалин» – как молитвенный объект для нас, сахалинцев, непознанный и неразгаданный в упор.
– Так объект он или что? А может быть, он всё ещё субъект?
Он задал вопрос, а отвечать приходится нам; наш ответ: «Всё было ништяк!». А.П. поторопился помереть, лет пяток бы ему ещё пожить, и он стал бы экспертом в наших скверных русско-японских делах.
Это ж было такое чувствилище человеческое, Антон Павлович Чехов, такое специальное и специфическое, что никто его, кроме моей подружки Зинки, и не понял.
Она так мне прямо и сказала: «Не х… было ему торопиться сюда и ехать, здоровье гробить, всё равно его никто читать не будет, кроме артистов…».
– Ах, Егор, Егор… ты-то, дурачина, простофиля ты косноязыкая, дубьём зачем на человека махал…
Утром архив, обед в «Сеуле», потом музей, вечером – Ирка Ким.
Зарылся в бумаги.
Партийный товарищ, бывший каторжанин из «Общества политкаторжан», покашливание курильщика. Стоит, тяжко дышит исторический персонаж.
У публики явно разгорелись глаза. Ещё бы – этакая невидаль. Вставная челюсть Боткина, а почему нет? Не совсем ему подходит. Да и климат… и по государственному строительству и самоуправлению что-то не того…
В ночь на 30-е. В Сахалинском архиве откопал! – хранится тут бетховенский симфонический цикл «Кот в сапогах», потерянная и вновь найденная партитура, но без главной партии – кошачьей. Б. хотел включить в симфонию голос живого кота, но так как магнитофон не был изобретён, он пытался скрестить флейту со скрипкой и написать мяукающий дуэт. По каким-то причинам этого не получилось, или кусок партитуры был потерян. Очень большая и содержательная (должна была быть) партия.
В выдаче рукописи из архива и в снятии копии практически было отказано (заломили по сорок рэ за страницу). По легенде, при единственном прижизненном исполнении использовали живую кошку. Вольфганг Амадей лично втыкал в неё иголки и ковырял под рыжей шкурой. После премьеры был банкет с шампанским и супом «харчо» на 6 персон.
Сашка с утра на речке – на излучине Лютоги у старой больницы. Поговорили по телефону.
А вчера я навестил Колю во Владимировке, в психиатрической лечебнице. «Заберите меня отсюда, я хочу умереть». «Я не знаю, о чём у тебя спросить». «Юра, привези мне одежду, я хочу домой». «Это хорошо, что ты приехал, но я не знаю, что спросить». «Как я помню, ты всегда много ел». Я и правда, как приму один грамм, так прорва моя не знает удержу – Колька это помнит и уворачивается.
– Ира улетела с дочерью на Окинаву – в Новый год под пальмами – дяденька любимый – я тебя жду – нога – чёртова кочерыжка – тащусь по Комсомольской куда-то к парку – да где вы – выйди, посигналь – тьма ведь колючая.