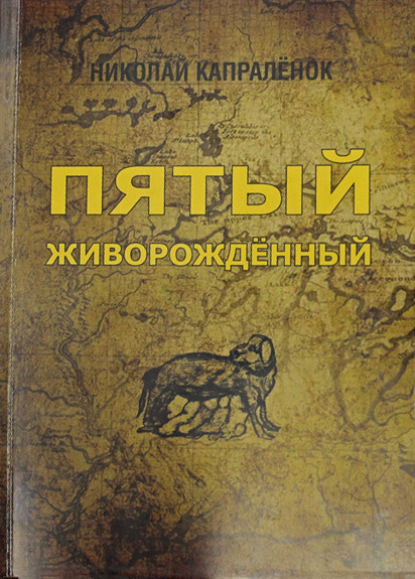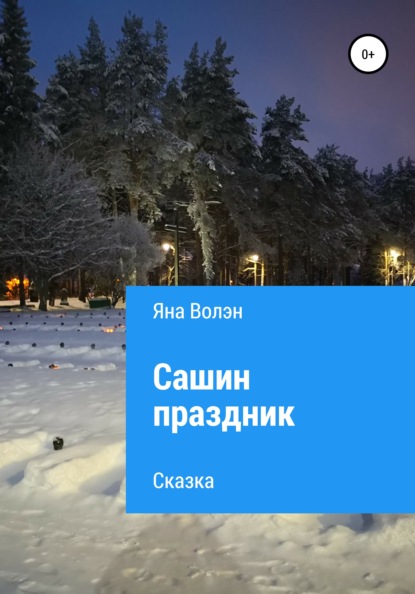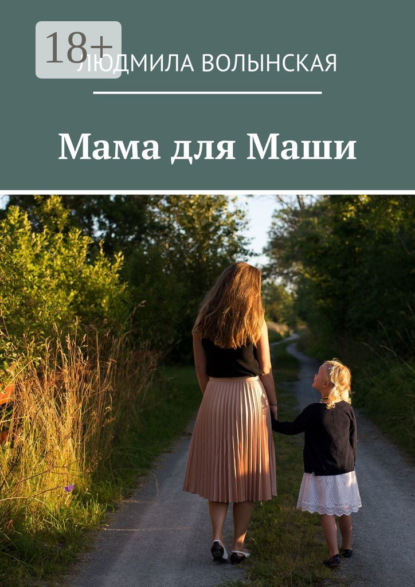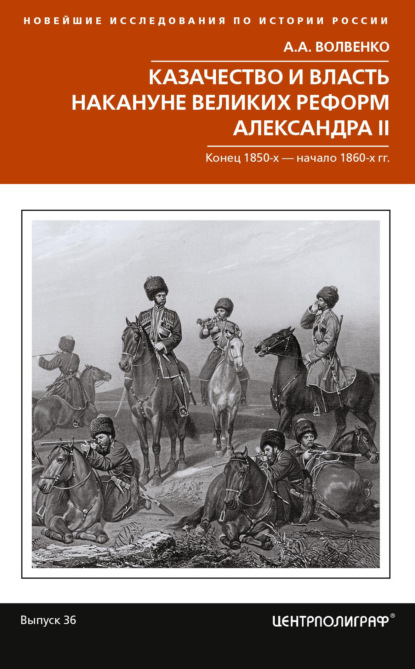- -
- 100%
- +
Бегать с колокольчиками, звенеть велосипедным звонком по высохшей августовской колее, по дороге детства, изрытой, избитой – это ли не хорошо! – по окаменевшей грудами обочин дикой траншее, залитой вечной грязью… Вы говорите, там сейчас асфальт положили и восстановлен мост? И по мосту пройду, куда бы он ни вёл.
Куда ведут мосты, построенные на острове? Туда, туда, сынок, на кудыкину гору. Тут все мосты-дороги ведут в гору – через Огоньки, Бамбучки, Пятиречье. А если спускаешься с горы – в воду. Вниз, с кудыкиной горы… К заливу, к причалам, на брекватер к кораблям и рыбацким сеткам – ракушки собирать, ловить чилимов, каракатиц, верхоглядов. Мы живём между жёлтым и синим мирами. Кажется, я хочу не только удержать в памяти этот остров, эти картинки детства. Собрать осколки и песчинки… Я хочу их оживить, вернуть к жизни всю японщину, которая досталась нам в 1945-м году, была потоптана нами и осталась непонятой. Да, мы прожили её слишком поспешно, свою японщину, и изжили бездумно – непонятой, невпитанной, поруганной, враждебной, чужой.
Но и мы сами изменились: малость побиты, изрядно потрёпаны. Мы уже не те русские. Я не тот. Я забортный, запредельный. Может быть, только во мне какие-то крохи той жизни ещё чудом живут… Никогда я не хотел стать москвичом, парижанином, вашингтонянином и даже токийцем. Я остался навеки сахалинцем, хоть и уехал с острова. И там остались мои друзья…
Там моя лужа, не хуже миргородской, большое и тёплое животное, не домашнее, не дикое, а космическое, когда-то давно просочившееся к нам с небес, легло на землю дороги и осталось с нами навсегда – задышало, заволновалось, разрослось и расплодилось…
В луже отражается небо, в лужах плещутся, как голубки, ангелы…
* * *Когда умирают родные люди, уходят от нас навсегда в иные миры, они начинают нам сниться. Они приходят к нам, располагаются естественно и непринуждённо во внутренних пространствах наших снов, покоях бесконечных комнат, галерей, палат, хором… в безграничных мастерских нашего духа. Они живут своей жизнью, отделённые от нас занавесами ирреального. Какими импульсами вызываются их образы из нашей памяти, сие неведомо никому. До утренних позывов на горшок, пока не прокукарекает мой петушок, длятся эти встречи.
Мама, когда я рассказывал ей сны, сетовала, что не видит своих умерших сыновей, моих старших братьев, Анатолия и Валерку. Я же довольно часто, особенно в первые годы их ухода, встречался с ними и с отцом, который умер за девять лет до смерти старшего, Анатолия. Я рассказывал маме сон, она радовалась и, завидуя мне, спрашивала: как они там? Как будто и впрямь думала, что я гостил на том свете. Но снов я не записывал. Мама никак не могла понять того, что её сыновья исчезли навсегда, она надеялась ещё их увидеть и приласкать, да я и сам не понимаю, как это происходит. Ты любил, любил человека, общался с ним, он был тебе дорог, а потом вдруг – бац, никого и ничего вокруг, пустое место, и ты ничего – живёшь себе как ни в чём не бывало.
Теперь и мама ТАМ, и я навещаю частенько и её, иногда даже несколько ночей подряд мне снятся сны небесные, летательные и райские. Летательные – это когда я летаю, а райские – это когда уже прилетел и наслаждаюсь общением.
Мама умерла 2 апреля 2001 года в возрасте девяносто одного года и семи месяцев. В этот день в небе буйствовало cолнце, сияло так, что не хватало смелости смотреть в синь, в бездну света, силы и славы царящего над миром светила. Бесконечные снега, ослепляющие рефлекторы снежных линз, стекленеющих сугробов ещё и усиливали будоражащие всё живое излучения небес. Зима уже не могла сохранить свою неподвижность, она отступала, городок наш оживал, разоблачался от зимних одежд. Оттаяли людские носы – засопливели… Такое назревало в мире движение, что невозможно было стоять на месте. Хотелось куда-то бежать.
И я засобирался в город Эн к другу Юрику (целую зиму не виделись) попить водочки, поболтать о весеннем и планах на развесёлую нашу старческую жизнь. Я только что отработал прощальную выставку в Толстоберёзовском музее изящных искусств, немножко продал, немножко денежек получил и готовился к переезду во Владивосток, городок на противоположном берегу Восточного моря, которое находится от нас на зюйд-вест-вест.
Забежал к маме попрощаться, сказал, что уезжаю на два дня к другу.
– А я, – сказала мама, – пойду погуляю, всю зиму сиднем просидела, пойду погуляю, подружек проведаю.
Я сказал, что погода чудо как хороша, и улицы очищены от снега, и асфальт просох, и я видел множество фланирующих по улице старушек – иди, гуляй вволю, поцеловал маму и убёг, и больше никогда не видел её живой.
Те райские места, где обитает сейчас моя мама, весьма, впрочем, схожие с нашими земными, не постоянны: то это небольшой городок и квартирка в маловысокоэтажном здании, то отдельно стоящий в пустынном месте дощатый домик, то пространство моей мастерской, а то и некая «фазенда» в колониальном стиле…
Через полгода – первый записанный сон.
Мама умирает, пытается встать на ноги, я подхватываю её и укладываю на постель. Она просит растереть ей колени – мучают боли. Я глажу её колени. Потом прикладываю ухо к её груди и слышу угасающее биение, последние удары маминого сердца. В точности так, как было с Валеркой, братом, когда умирал он и вспоминал ручей под Лысой сопкой за конзаводом и воду, тихо шевелящуюся под снегом. Семнадцать с лишним лет назад.
Дальше – глина, ломы, чёрная охра – рыхлая красивая земля, как будто вспаханная. Где-то рядом женщины мои… Вот, вдруг дурь: пожалел маме десятку на хлеб. Заскочил к ней в старый наш дом на Невельской, мама живёт там одна, мне обрадовалась и спрашивает, нет ли у меня мелочи – на хлеб, а у меня в кармане крупные купюры. Я спешу куда-то ехать. Говорю, что принесу хлеба, ухожу и просыпаюсь. Неоплатный долг. На душе стыд и скверная тоска.
Широкая речка, на берегу мамин домик в одну комнату с сенями. Дом у самой воды, а берег высокий и дорога от дома круто поднимается. Красиво. Мама тут одна живёт. Печка у неё не штукатурена, но ладно сложена, тепло дома. – Чем топишь, мама, – спрашиваю, – где дрова берёшь? – На речке, по бережку собираю.
Весной река несёт на себе множество предметов и горючих материалов: деревья, заборы, сараи и всякие доски и брёвны. И прямо в анивский залив, а волны в заливе выбрасывают просоленную древесную рухлядь на берег… И люди собирают всё это добро в пирамиды, оно сохнет и превращается в дрова.
* * *Повёл маму на концерт симфонического оркестра. Зал, как в нашем РДК, что стоял на берегу речки у подвесного моста. Его построили в 1948–1949-м годах общими усилиями русские солдаты-строители и японцы – плотники и электрики…
Я припоздал и место нашёл только на балконе. Мама внизу в партере слушает, я думаю, как она воспримет впервые живой оркестр. Но в программе 7-я симф. Шостаковича, которую мама может помнить по фильму «Ленинградская симфония» про блокаду, он у нас в Аниве шёл в 1960-е годы в этом самом зале, где мы сейчас с нею слушаем оркестр.
(Когда случился пожар (в 1982 году, в январе) и сгорел наш любимый Дом культуры, он долго стоял чёрный, обледенелый и дымящийся, напоминая декорацию из фильма про войну.)
После концерта, когда отзвучали аплодисменты и публика двинулась к выходам, вижу, как мама ищет меня глазами, и кричу ей с балкона: «Мама, я здесь, мама, я здесь, мама, я здесь». Трижды крикнул, мама увидела меня и пошла к левому выходу. Но там мы с нею не встретились – я проснулся.
18 мая 2007 года. Сегодня впервые отмечаю день рождения брата Игоря при полном его отсутствии на земле. Он уже там, куда и я не спеша двигаюсь. Ровно год назад повидались мы с ним в последний раз. И с первой минуты встречи на перроне брянского вокзала, около 6 часов утра, каждый из нас это понял мгновенно – крайние братья, он первый, я последний – и видимся мы напоследок, не шутя, и расходимся навсегда, окончательно.
За всю нашу жизнь и встречались-то раз семь, не больше, как уехал я из дома после школы, а он – в Брянск. Такая у нас большая страна – уехал, как сгинул, в степи ли, в море ли…
– Вот, – говорю ему, – я тебе видеоплёнку с похорон мамы привёз. – А он и смотреть не стал. Я, говорит, скоро к ней сам явлюсь. И через шесть месяцев помер. Вот так.
* * *Библиотека императорской Академии художеств. Пол устлан коврами и книгами на коврах. (Дураку уже шестьдесят четыре года, а он на четвереньках ползает – купается в море книг.) Шкурой ощущаю прикосновения старинных фолиантов к моим членам и сочленениям. Головой бодаю корешки книг, стоящих на нижних полках стеллажей, любуюсь красотою кожаных переплётов, золотыми, червлёными, оттиснутыми, глубоко врезанными, как бычье тавро, литерами готических шрифтов. Замечаю чудное название «Die Grosse Album fur Landschafften fur Leningradstadt», Лейпциг, 1869. Что за чертовщина! Никакого Ленинграда 140 лет назад, конечно, не существовало. Полистал я этот альбом: знаменитые виды со Петровских времён по аккурат 1869 год, и вправду! Потом, уже в коридорах, узких, как готические щели, встретились мы с Виктором Платоновичем Некрасовым. Он готовился навсегда уехать в Париж – прощай, говорит, Коля. У меня в душе тоска смешалась с радостью и завистью, я плачу ему в жилетку, он постукивает меня по спине легонько, утешает и говорит, мол, ты, Коляша, продолжишь начатое мной дело. Дико смешно и глупо, но именно так, – продолжай, дескать, служить Отечеству. Это мне-то, который вообще не служил ни в каком качестве никакому отечеству, в смысле государства, и никакой конторе не был предан. Наверное, думаю, он имеет в виду «служение литературе», как это теперь говорится в народе, но и тут я всего лишь музыкант-любитель – музицирую. Высокопарность, столь несвойственная Некрасову, отдавала пародией, звучала смешно. Но я плакал взаправду. И пошёл я на Московский вокзал, и купил себе билет до станции Ванино. Потому что дошли до меня вести, что сестра моя Наталья с внучкой Лизой уехали в Москву, и мамочка моя старенькая Надежда Павловна осталась в Аниве одна. А лет ей – в сентябре 100 годков стукнет. И рванул я из города Петербурга, что на Балтийском море в финской гавани стоит, через всю страну Россию в посёлок городского типа Ванино.
И вот он, вот – «архи-типический» громадный клёпаный железяка-пароход, вроде «Крильона» или «Теодора Нетте». Ломлюсь в кассу, в арматурины клетки окошка – конешно, крашено «голубью», «салатом» – рейка полки-прилавка. Лысые затылки очереди – каторжане рвутся домой, на остров, во тьму копей, дебрей, топей. Ругань, пьянь, женские взвизги – инь и ян последней точки. Всунул голову в окно: «Дайте, дайте! Мне нужно!» – умоляю и готов вывернуть себя, упасть в руки спасительницы-кассирши. Наконец трап, сходни, клюзы, лацпорт – дыра в нутро большого корабля «Сахалин-9». Хватило места всем, поплыли. Bсё, всё, всё кончилось – страшное счастье.
И пришёл я к маминому дому, дверь открыл своим ключом. Втащил чемоданы и, счастливый, плюхнулся на койку. Входит мама, несколько изменившаяся – помолодевшая, подкрасилась и подзавилась. Моему появлению не удивилась и велела мне заняться рыбой – иди, дескать, почисть и пожарь. Я вышел во двор и вижу: Валерий, покойничек мой дорогой, сидит за столом и скоблит рыбий бок. Красивая рыбина. Я подсел, давай, мол, помогу. Он молча отдал мне нож, встал и ушёл в дом.
Последний раз мы с ним ловили горбушу в августе 1981 года после тайфуна «Филлис» в Лютоге с берега сачком, вытаскивали по три, пять, семь штук в раз.
* * *Зрю себя в поезде. Рюкзак, этюдник, три рыжих кота в мешке, им тоже надо в Ванино, самый драный и лопоухий – мой Барс. Он страшно злился на меня за то, что я сунул его с двумя другими рыжими в одно «купе». А мы как едем? Погляди, вагон-то общий, люди вон на багажных полках лежат.
Путь наш – на остров, к маме, говорю я коту, потерпи.
На конечной станции обнаружилась пропажа рюкзака с документами и деньгами, этюдник был подменён, мешок с котами исчез тоже.
К маме я явился гол как сокол. Как вылупился, так и возвернулся.
Конечно, без денег и документов даже и у мамы в доме неспокойно, а с другой стороны, за девять-то с половиной лет разлуки… спасибо, что хоть живой вернулся.
У мамы комната и кухонька, чисто и уютно, выцветшая клеёнка на столе и куст алоэ в коричневой эмалированной кастрюле на окне.
Какие-то железяки, ключи от старых замков, сундуки, оклеенные старинными этикетками, бутылочными наклейками и так далее. Это реалии 1960–1970-х, из дворницкой жизни. Очень эфемерной, алкогольной, галлюцинационной… Времена начала большой ломки остатков старой России, старой Японии, старой Финляндии. Зверствовала на Земле научно-техническая революция: в церквах устраивались бройлерные курятники.
Под конец сели мы в большой самолёт и поехали в Америку за «ножками буша». Вместо иллюминаторов – телеэкраны, показывают городские пейзажи, будто ты в автобусное окно выглядываешь.
Опять суетливо, бестолково пакую чемоданы, билет не куплен, заказывать поздно, надо ехать в порт и садиться на пароход ломовым способом.
* * *Мать. Как она представляла себе жизнь сына, сыновей? Что следовало из того, что я был частью её самой, одной из тысяч возможных её собственных воплощений? Вышел из неё, ел её молоко. Рос и креп. Появились зубы – орудия убийства и присвоения чуждой плоти, стал агрессивен – кусал её грудь, руки, щёки и в следующую секунду смеялся, льнул к груди, требовал ласки. Присваивал её и удалялся.
Процесс отчуждения. Начало – зубы. Экзистанс, ядрё- на вошь! Закономерность и единственность сменились случайностью и множественностью. Мать обладала такой силой любви и притягательности, которой никто из её детей не смог преодолеть. До самой смерти все они были так или иначе привязаны к ней. Это было её счастьем, то есть той формой жизни, которую она создавала в ежедневном труде и которая давала ей уверенность жить.
Первым исчез А., потом В. – сыновья.
Два слова о старшем моём брате, Толике, Анатолии Николаевиче. Он как раз в августе 53-го, буквально через полгода после смерти рябого, я только первый класс в школе прошёл, а он уже освободился из лагеря № 506, что был в Победино. Сел он в 49-м по хулиганству на 10 лет, за битьё магазинной витрины, кражу конфет и изнасилование любимой девушки, которая хотела этих самых конфет. Она, разумеется, много чего хотела, кроме «гусиных лапок», и может быть, больше всего первогодка-курсанта Холмской мореходки. Этих преступлений Анатолий не совершал, это была обычная драчка пацанская. Он хотел быть штурманом дальнего плавания. Любил литературу и астрономию. Любил математику, был кучеряв и немногословен. Он уже прошёл одну практику в летнюю навигацию на пароходе «Чита». И вот после рейса… Короче, слегка выпив, а пойло какое? спирт-сучок, они с ребятами с Северного района задрались прямо в магазине. И всё, большего не было! Были десять лет, слава Богу, с правом переписки и передачек. Нарисовать-то всё что угодно можно было. «Я врать не буду, ты знаешь. Хотел бы – написал, что мы с тобой это делали, хотя ничего у нас с тобой не было по-настоящему, а только обнимания. А если я напишу «трахались», то это, конечно, неправильно, тогда так не говорили, и твоей маме не понравилось бы, и отцу, и брату Гаврюхе. Я тебя очень любил и жалел, ты добрая и сисечки у тебя нежные. А нары тут деревянные, и спим мы все вповалку, как на ковровой дорожке в ДК, и одеяло у нас одно на всех, ложка и кружка одна, и вообще полный коммунизм. А когда приеду, куплю Володьке железный пистолет, пусть перебьёт всех на х…»
…И вот он появился у колодца, уже почти не лысый, волоски отросли и закурчавились. И я его узнал, потому что вспомнил. Он взял меня на руки и посадил на курятник – такая была у нас невысокая будка, толем крытая. Я не подал виду, что страшно, и засмеялся. Толя меня снял, поставил на землю, потом достал из сумки жестяной пистолет и сказал: «На, стреляй». Пули были длинными деревянными палочками с резиновой присоской.
• Каждый художник, каждый поэт, в точности так же, как любой мужчина, – мы все заряжены страхом перед бесконечностью и хаосом небытия и преодолеваем его всяк по-своему. Но только художник, одержимый идеей создать образ, модель этой бесконечности, материализовать то, что в принципе не материально, преодолевает этот страх. В этом его отличие от других смертных. У женщины, наверное, нет этого страха бесконечности. Она сама – носитель вечного начала и бесконечности. В этом её привлекательность и ужас для нас, мужчин. Кажется, я в жизни своей из всех женщин мира не боялся только свою мать. Она воплощала собой спокойствие и уверенность в том, что каждый день жизни имеет смысл, и его стоит прожить… Нужно только иметь свой дом.
В Аниве, где впервые у мамы появилось не только своё пристанище, но целый отдельно стоящий дом с огородом и ягодными кустами, с хлевом, сараем и отдельной уборной, кажется мне, мама не только обрела уверенность в будущем своих детей, но и стала настоящей хозяйкой большого домашнего производства еды. И не только для своих семи ртов – кое-чего перепадало и соседям.
* * *Исконно-то мы смоленские – русаки с литовско-татарским подмесом…
В те поры, когда иудеи строили в Иерусалиме свой первый храм, мои предки, наверное, ещё в лесу с деревьев не слезали. Когда иудеи на развалинах храма у стен его оплакивали человечество в его чудовищной перспективе, мы научились выжигать леса и сеять рожь.
Есть, видимо, какая-то очередь у народов на выход в исторический свет. Не так ли и человек отдельный в свой черёд выходит на свет из лона матери на люди показаться? Пищит – вот, мол, я. А ему говорят: э, брат, вопи не вопи, а ничем тебе тут никто не обязан, и менее всего государство…
Однако всех нас в деревне звали капралятами, потому что кто-то из дедов-отцов в Крымскую войну дослужился до капрала.
Бабка моя Наталья Максимовна была дочкой солдата, капрала 25-го Смоленского пехотного полка, который воевал в Севастополе, на северном районе обороны. Родилась она и выросла в казармах, вышла замуж за солдата Ивана Старовойтова, младшего сослуживца отца, тоже дослужившегося до капрала (теперь это, кажется, была бы лычка старшего сержанта, я так думаю).
Крестьянского труда они хорошо не знали, сеяли гречиху, сколько-то конопли, картофеля, капусты, луку да репы, и земли-то у них было с гулькин хрен. Жили бедно, но многодетно. Вот у них и родился и выжил четвёртый по счёту – мой отец. Ему в тот год, когда мама родилась, было 7 лет, на деревне звали его Колька-капралёнок, он умел читать Псалтирь. Научил его этому отец. А когда грамотеем стал, то отец отправлял его псалмы по покойникам читать, копеечку заработать.
• Мне тут важно срастить географические концы: Смоленщина, Крым-рым и Сахалин каторжный с японским богом. Где-то так раскинулся ареал обитания нашего рода-племени.
• Постепенно, по мере движения моего романа, будут вырисовываться иные детали и подробности жизни семейства, но цель у меня другая, не мелочное бытописательство, нет. Я замахнулся на штуку покрупнее – дать, как говорят краснобаи и баламуты, «картину маслом» – широкими мазками, в размахе эпической панорамы. Хочу написать что-то бесполезное, как монумент, и простое – без претензий, без капризов и пустых игрищ ума, типа беспардонной метафоризации, чтобы всякий «гражданин» понял, что в России можно жить, и жить свободным человеком, и быть счастливым. И не стебать мозги людям со слабой нервной системой. У меня со всем этим полный порядок. Осталось только хорошенько на бумаге это изобразить в переводе с рисовального на вербальный.
Дед Иван как-то обругал попа матюками. Тот наложил на него епитимью – сорок покаянных поклонов, да не в раз, а сорок дней по сорок, а церковь у нас – в Николаевском, а это за полторы версты – так дед и растянул свои моления чуть не на год.
Отец четыре раза уходил из дома на войну. До меня только сейчас доходит та степень отчуждённости отца от семьи, родной земли, осмысленной мирной жизни, которую пришлось ему пережить. Как терзал людей двадцатый век!
Когда началась Первая мировая война, ему было 12 или 14 лет. Бабка Наталья Максимовна с невесткой Фросей, женой старшего сына, на молотьбе ржи сцепились из-за того, что бабка, злющая на язык матерщинница, обозвала Фросю мерзким словом: …лядью. Тимофей, старший отцов брат, уже подался на германский фронт, Фрося осталась в нашем доме, толком ещё и не побыв женой. Конечно, праведностью у нас никто не отличался, но ведь и … лядями не были в точном смысле слова, при этом обижаться умели крепко, и вот передрались две русские бабы-солдатки – старая и молодая. Батя, будучи любящим сыном, взял сторону матери и огрел Фросю цепом, так что она брякнулась наземь бездыханная. Бабка заорала благим матом: убил! Убил!
Батя кинулся бежать, заскочил в дом, схватил хлеба шмат и утёк в неизвестность на целых девять лет. Пристал к какой-то интендантской части чем-то вроде сына полка и до революции колесил в штабном вагоне на правах при- ёмыша (на денщика он, конечно, не тянул) у старенького штабс-майора тыловой службы. Когда армия развалилась и есть стало нечего, сказал ему командир: «Прощай, Николай, возьми себе книги, какие хочешь, и иди куда знаешь». Собрал парень вещмешок и ушёл туда, куда вся Россия шла. В 1919 году, уже комсомольцем, был мобилизован в красную кавалерию на колчаковский фронт. Чапаева к тому моменту уже «вбили», самого Колчака тоже «вбили», а командовал там и толкал вдохновляющие речи Фрунзе. Вернулся отец домой в 23-м году, уже из Монголии, туда его занесло в погонях за бароном фон Унгерном. Невестку застал живой и здоровой бабой, матерью двух сыновей. Тимофей, придя из германского плена, Фросю не попрекал, стал с нею жить с начала, детей нажили. Позже они переехали в Тулу, «в Тулах» (так говорила моя мама) пережили и Вторую войну, и дожили своё. Там же и дядя Вася после войны осел.
До 1928-го года отец пытался крестьянствовать вместе с младшими братьями Сашкой и Андреем, но вкуса к земле не имел, крестьянином по-настоящему стать не успел, учительствовал у себя в деревне – организовал школу в Николаевском. Потом поступил в Рязани в учительский, как тогда говорили, институт.
Пишу я это, когда мне без малого 65 лет. Почти уже весь отцовский жизненный срок выбрал. Совсем другое время, пространство. Другая жизнь. Я не только не воевал, но даже не служил ни в армии, ни в «органах». Ни в профсоюзе, ни в партии – нигде членом не состоял, ухитрился прожить вне социума. Сказались, видимо, противоречия моего характера. Хотя предпосылки к общественному поприщу были с самого детства. Из чего делаю вывод, что мы, родившиеся в 45-м году, наверное, самое счастливое поколение людей этого века – у нас был выбор.
* * *Мать родила меня, когда в доме были на постое солдаты, их привёл наш пожилой сосед Лавренов, как и мой отец, «забритый» уже в который раз. Когда все спали, часа в три ночи матери приспело рожать, пришлось всех спящих будить и выдворять на улицу, досыпать под звёздным небом. Так вот и появляются редкие счастливцы на русской земле. Я чуть было не воскликнул – вообразите только! – в этот самый момент японский император подписывал всем своим войскам приказ о прекращении огня, да сообразил, что родился-то я на каторге, а тут все, кто выживает, – счастливцы и без фейерверков. Немало нас таких.
· Гдетодалеконазападе – земляЕвропа. Сотцомлазалипо сопкам. Лиственницы, бамбук. ОнвспоминалСмоленщину, тамошние сосновые боры, грибы и ягоды – символы детской свободы и родины. Для меня она, эта далёкая земля, обретала значение сказки.
…Больше всего отец любил лес и книги. Он был абсолютно штатским человеком, склонным к созерцательности и литературе. Но главными занятиями в его жизни оказались войны, сбор грибов и лекции на естественнонаучные темы, скажем так, и – после войн – питие водки. Четырежды он уходил на войну и возвращался живым, хотя в 1943-м и был оплакан как убитый (потерянный после ранения).
Мама иногда, бывало, обижала отца, упрекая за то, что не писал ей писем из госпиталей, говорила – со шлюхами, небось, вязался! Не до нас тебе было.
Отец уходил из дома заливать обиду эту горькую… и чем попало занюхивать. Мать он никогда не ругал, вообще материться не умел (я против него в этом деле – ас), понимал он её – и вину свою перед нею, а ничего с собой поделать не мог – запивал. Каялся и опять начинал.
Батя, учитель тунгусского языка, химии и биологии, вообще был широко и даже потрясающе начитанным человеком. Не было такого в природе вопроса, чтобы он не мог дать ответа исчерпывающего и безапелляционного. Надо вам про бензольную группу органических соединений что-то узнать – пожалуйте, вот вам бензольная группа: С6Н6… и нюхайте на здоровье.
Если вы его спросите про Великую французскую революцию, он вам расскажет отдельно, то есть детально, про гильотину, Гильотена, и чем отличались кровя Дантона и Робеспьера, про их цвет, текучесть-вязкость и солё- ность. Он как будто всё пробовал на вкус и видел сам, как катились, моргали и летели в корзину их носатые головы. Думаю, при этом он врал не больше, чем профессиональные историки.