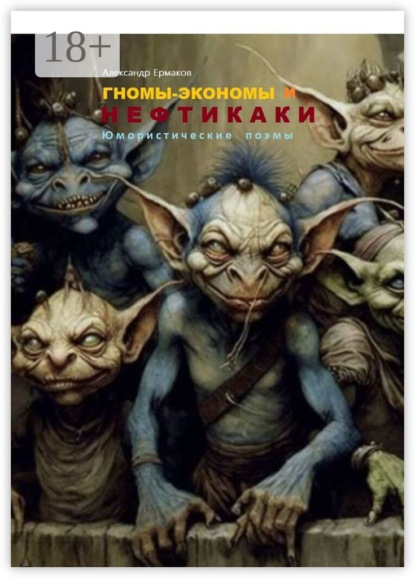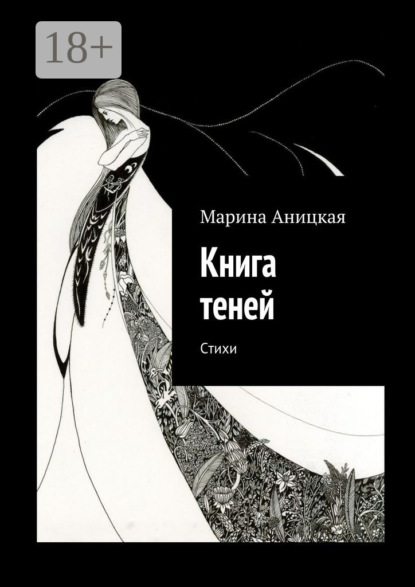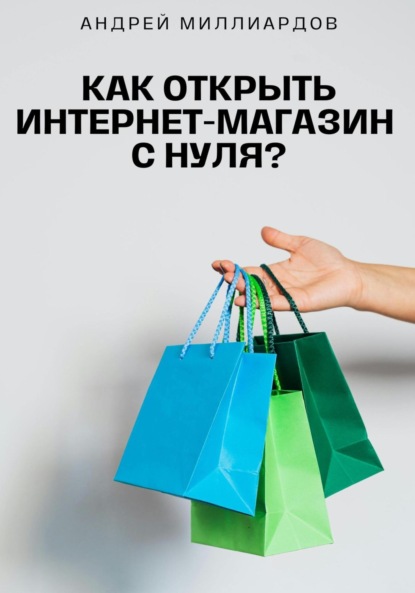- -
- 100%
- +
Так меня батька увлекал! Но редко, только в ранние стадии моего взросления. Разинув рот, слушал я отцовы байки и ничего не запоминал.
А года в три-четыре в мою жизнь вошёл уже другой герой – старший брат Игорь. На семнадцать лет старше – как второй отец был он мне и воспитывал круче.
Как-то раз часу в шестом залез я в полк через дыру в заборе, там начиналася игра в футбол на стадионе. Всегда я приходил в восторг, увидев брата среди солдат и футболистов, – но в тот раз он не играл. Кто там бодался с кем, конечно, не мог я знать, пацан трёхлетний. Брательник мой стоял, курил среди парней, всем было лет по восемнадцать-двадцать.
Я тихо подошёл и попросил цигарку, раз дёрнуть это называлось. И мой большущий брат, великий педагог и прозорливец, сказал мне, протягивая папиросу: на! И показал, как надобно вздохнуть, вот так, поглубже, затянуть в мою прискорбную младенческую грудь побольше воздуха и дыма. Я так и сделал и замертво упал, в конвульсиях забился, и опротивел мир сей мне… навеки.
«Все люди ляди, подумал я, и брат предаст младенца брата забавы ради». Но, оклемавшись, я забыл об этой мудрой мысли на многие годы…
И закурил вторично аж в 21. Как раз когда все девственники – и пацаны, и девушки – уже имеют право на всё наплюнуть и закурить «назло врагам», папашам и мамашам, а также завязавшим с этим делом братьям.
Что мы курили? «Звезду», «Победу», и, конечно, «Север». «Беломор» доставался отцам и пижонам. Он стоил как буханка хлеба. МарлБоро мы ещё не знали, не ели ПеллМелл – Дукат и тот казался амброзией, им можно было мыться и принимать вовнуторь как лекарство – пахуч был, гад, и вкусен. «ВТ» я помню – дорогущий и вкуснейший «болгартабак», но это позже.
Девчонки наши тогда ещё не понимали разврата и давали так – почти что без возврата. Ну, в смысле – раз дала – навек твоя, а мы не то чтобы не брали… Брали, но отдарить-то нечем было, вот и женились… И сразу же детей рожали, как повезёт кому. Такая, блин, ромео и джульета и всякая прочая демография.
Долго про себя-младенца рассказывать не буду – это скучно, но, Боже ж мой, как много в детстве познаёт ребё- нок! Я и Петрушевскую люблю за то, что про детство… Из самого того, что детям и знать-то не положено и помнить не нужно, по взрослой ханжеской морали.
Однако с рождениями, смертями мы всё же знакомились в относительно мирном варианте. Война, слава Богу, кончилась, и люди, если кого и убивали, то по какой-нибудь важной личной причине, а не потому что Родина велела.
Если убивали скотину, то уж это как-то обязательно праздновалось, совершался некий ритуал, по причине всеобщего безбожия выхолощеный, конечно, но всё же и не без оплакивания теляти или кабанчика, и не без возлияний, обжорства и песнопений.
Для забоя крупных животных отец приглашал Ивана Гусева, мужика рыжего, сильного и жёсткого с тонким, длинным и острым ножиком.
Кур, уток и даже гусей мама резала сама, и ритуал был прост. Когда я был мал, она говорила мне, держа курицу за крылья и стоя перед чурбаном для колки дров: пойди-ка, сынок, в дом, не надо тебе смотреть… Может быть, она боялась, что у меня возникнет отвращение к еде, как у соседского Ваньки Краснова, который так любил своего петуха, что стал, рыдая, материть свою мать, когда она убила его любимца, и наотрез отказался есть курятину.
Отец не мог заставить себя зарезать курицу, даже за стакан водки. Мать иногда поддевала его полушутя, полувсерьёз: не верится мне что-то, что ты воевал! Отец, обиженно надувши губы, начинал одеваться, грубовато бурчал ей в ответ и уже в дверях бросал: дай рупь, и уходил из дому. Возвращался навеселе и с удовольствием утром хлебал суп с курятиной.
* * *С идеями в моей голове всегда было плохо. Не заводились они там. Одни только реакции на раздражители, как у любого здорового мальчишки. А мысли… на кой хрен они, если у тебя футбольный мячик в руках, а на ногах крепкие пальцы. Футбольное поле под окнами родного дома, между школьным забором и оградой маминого огорода.
Кажется, только тогда и мыслишь, когда полуболеешь. Если ты сильно здоров, то жизни и не замечаешь, летишь себе по поднебесью лесами, полями, морями и т. д. Ягоды, грибы, рыбалки, игры – и ни одной мысли… Жизнь управляется какой-то внешней силой, маминой любовью, доброй рукой учителя и старшим братом, чьи указания – как приказ командира.
А тут, лет семи я был, и заболел сразу тремя болезнями: корью, ветрянкой и воспалением лёгких. Чуть не загнулся, должно быть, но ничего не помню про свои страдания, а вот бреды сновидения запомнил… Будто иду по тоненькой нитке через пропасть с тяжеленным каменным параллелепипедом в руках. Этот непонятный мне предмет я нашёл в чистом поле, раскатанном и выглаженном, как глиняный блин. Удивительный восторг я испытал, осязая всей своей шкурой грани и сглаженные рёбра параллелепипеда – простая совершенная форма вызывала чувство наслаждения, будто я обладал неким воплощённым в камень идеалом.
• Пишу, пишу, и вдруг… Сахалин – любимые мертвецы и остатки живых. Сироты, нищие, брошенные, одинокие… Колька, Мария Дмитриевна, Толя Тоболяк…Старая жизнь кончилась, а мир ещё как-то держится.
• Спрашивается, осознавал ли я своё «я», когда Гена Ефимов спас меня от утопления. Выволок на берег, бросил на песок перед людьми, и из меня текло со всех дыр, и я сидел гол, и бос, и мокр. Кажется, я начал что-то соображать только в тот момент, когда Валерка подбежал и стал ругать меня, и трясти за плечи, и радоваться, что я не утоп. Я увидел и услышал его радость и понял, что жив и, кажется, не получу больших люлей. Меня для самого себя не было в течение не более пяти минут. Я был только для других. Да, меня уже почти не было для пассажиров парома. Только Генка увидел, что я есть, взял поперёк тулова под мышку и вытащил на берег.
Сколько мне было, когда я увидел впервые человеческие похороны, я не знаю. Но как я кричал и умолял маму не садиться в машину к покойнику и ехать на кладбище, не забуду никогда. Человек этот был лесник по фамилии Трещилов, кажется, знакомец отца ещё по Арково, молодой и здоровенный дяденька. А вот, говорили, сел под дерево отдохнуть и умер. До сих пор не верится, как такое бывает. Пока в доме родные и старухи плакали, я сосал конфету и, прижимаясь к матери, смотрел, ничего не понимая в происходящем, стараясь не глядеть на некрасивое тёмное лицо покойника и ожидая, когда же мы пойдём домой. Когда все люди вышли на двор, дяденьку Трещилова засунули в кузов грузовика и стали туда же подсаживать мою маму, и она влезла под тент и протянула ко мне руки, а потом кто-то из мужиков взял меня под мышки и стал поднимать, чтобы подать матери, я взвыл так, что померкли все плачи всех плакальщиц у гроба. Я решил, что хотят увезти и закопать и маму, и меня, и дочку Трещилова, и её мать, то есть всех, кто влез в кузов. И я спрыгнул с машины и закричал: мама, не едь, мама, слезь, пошли домой, мамочка. Прямо тихий ужас, достигший степени крещендо! Как там дальше было дело, не знаю, не помню…
* * *Ни с того ни с сего приснилось:
Письмо к микадо, телеграмма, написанная каной.
«правителю восходящего солнца и мира земного здравствуй володя пишет тебе управитель энергий и строитель решёток когда у вас день рождения всё время забываю пардон /I always forgetting what date is your birthday, sorry./ есть у меня друг в твоём государстве – лёня он тебе всё подробно про меня расскажет а суть вот в чём надо нам как-то по-хорошему между собой поладить перед лицом глобального потепления холодной войны вас ведь скоро смоет к х… …м и на шикатане вы не поместитесь все так что по-хорошему давайте к нам в приморье я всё просчитал и энергию космоса и океана и скальные породы проверил (посылаю модель) – выдержим однозначно вот уже колодец копать начали воды у нас хорошие шмаковские тчк»
* * *А по правде говоря, у нас на Невельской улице из семи колодцев хорошая вода была только в двух – нашем и во дворе у Бормотовых. На углу нашей Невельской и Первомайской вырыли новый и стали считать его пожарным – вода несъедобной оказалась. Туда швыряли разномастных кошек, котят и щенков.
Возвращения, возвращения… С той кашей, что запеклась в моём котелке, завращаешься. Всё я куда-то бегу и возвращаюсь. В круговороте пространств своей единственной жизни. Уже семьдесят раз крутанулся вокруг Солнца – и не надоело.
Домик мой, домик. Куда вознёсся, гнилушко мой дорогой? Поселились мы в нём совсем новеньком, сляпанном солдатами на скорую руку из бруса, крытом древесной щепой, поставленном прямо на земле, без серьёзного фундамента – Нашем Доме – не в пристройке к школе, не в бараке, не в японской фанзе на пять-семь семей, а в отдельном доме с огородом.
Отец получил сюда назначение в только-только построенную школу и, кажется, в последний раз попытался начать жизнь с начала. После возвращения с фронта батя стал страдать сильнейшими запоями и работать в школе, по существу, уже не мог, да и не должен был. Но его в районо ценили за уникальную для наших мест образованность, доброту и общительность, умение говорить на любую тему как с детьми, так и со взрослыми. Он был членом ВКПб с 1943- го года, комсомольцем с 1919-го, а ветераном войны – аж с 1914-го, да чуть не с Бородина ли поля Куликова! В общей сложности четыре раза ходил на войну и четырежды вернулся. Как такого выгонишь с работы? Его и держали, перекидывая из школы в школу… (хороший, лучше некуда, учитель, пока бывал в состоянии шевелить языком).
* * *Повитухой, принявшей меня, была баба Надежда Кукольчиха, невестка отца Алексея Кукольщикова, священника Дербинской церкви. Он в своё время окрестил в православие иудейку Софью Блювштейн по её собственноручно написанному заявлению, свободно и без принуждения, как отсидевшую и искупившую весь свой каторжный срок и пожелавшую умереть в вере Христовой «Золотую Ручку». Было это крещение в 1899 году. А в 1909 родилась моя мать, а в 1945-м – уже я, значит, пятый живорождённый, и теперь про повитуху мою все всё узнают. Докопался я в архиве.
В 1926 году, когда революционная власть добралась до Дербинска, сельских хозяев переписали, кто чем владеет, и народу сколько живёт. Куда подевался её муж, в архиве данных не дано, а сама она персонально определена была «сельской хозяйкой» из бедных, и детей с нею шестеро. К 1945-му году жила Надежда Степановна Кукольщикова с младшим сыном, тот вот только что женился на восемнадцатилетней девушке, которой сейчас уже 84 и она едва-едва, но вспомнила и, свесив ноги с больничной койки, понюхала мой цветочек, и сказала: да, помню, жили у нас большой семьёй, и ещё ихняя мать кого-то рожала. А я стою, 66-летний старик, перед незнакомой мне большой старухой, говорю, что это я тогда родился… и пытаюсь почувствовать себя младенцем, чтобы ей легче было вспоминать, а сам думаю, зачем всё это – чего, может быть, и не было никогда. Ничего же нет, кроме пропасти, между этой старухой и мною.
– Вы помните мою маму? Какая она была?
– Там жила большая семья. Беременная мать и четверо детей. И нас всегда было много. Женщины рожали. И я была пятая в семье. Всегда было много людей.
* * *Век-то на дворе уже ХХI. И я являюсь персонажем собственноручно сотворённой и, вероятно, всё же выдуманной истории.
Вот опять! Разговор с Женькой-другом о детстве. Совпадения в воспоминаниях. Женская баня, чёрные треугольники пёзд, девушки прикрывают сисечки. В мужской – обрубки и выбоины в телах – раны воинов, пришедших с войны. Цинк тазов, ледяной бетон пола, бревенчатые лавки и туман в моечной. В парной – пар из котельной, свистит через вентиля. Вырывается с хрипом, свистом, мгновенно заполняя густым туманом весь отсек парилки, каменки нет, пар быстро остывает, а потом и вовсе исчезает, мужики матерят кочегара, стучат по трубе и орут…
Баня горкомхозовская, за 15 копеек, хочешь парься, хочешь околевай. Прошлый век или позапрошлый – никто точно не определит.
Почему-то зимой, когда снегу наметало под самые крыши бани, мальчишки постарше любили такую охоту: подкрадывались по высокому сугробу к окошкам и через верхние незамерзающие и незакрашенные стёкла глазели на голых баб, среди которых, само собой разумеется, высматривали и своих одноклассниц. Плебейское, но захватывающее любого настоящего мужчину зрелище, как будто выпавшее из Библии.
Но вот не прошло и лет ста, и сейчас там, на речке на Лютоге, построена мойня-дворец, как штаб-квартира век не мытого банкира, Рокфеллера или Гузаирова, и всем хорошо, и пиво есть.
* * *У нас в совхозе Анивский случкой крупного рогатого скота заведовала главный зоотехник – Елена Александровна Первая, дипломированный техник-осеменатор. Редкие лошадки, ещё способные рожать, тоже были на её попечении. Сперму для коровок завозили в термосах из Австралии, а жеребец был живой и охочий до кобыл, которых уже по всему району было мало, так что надо было поштучно собирать, чтобы удовлетворить Орлика. Конюхом был дядя Паша Буйнов. Жил он в военсовхозе, там тоже уже хомутов да телег оставалось больше, чем лошадей, но и лошадки всё же были. А штатских коников уже пожрали силосники и бомжи – менеджеры, приезжие и проезжающие знатоки и ценители конины. Рассказал бы я вам, как видел в последний раз Орлика за исполнением любовного мужеского долга, как привязала Елена Александровна кобылу Ветку к пряслу и вывела из загона Орлика, а он, бедный, уже жжётся, как раскалённый паровоз, дрожит, гудит всем телом, пар из ноздрей… да боюсь излишне возбудить дорогого читателя.
– Главное дело, как он старался копытами Ветке круп не ободрать, норовил передними-то коленками её обнять!
Православный просто так лошадку не съест, только по несчастному случаю.
Ёкарный бабай! Так у кого несчастный случай-то? У коней или людей? Пока жили кони, и люди плодились! (Помните Макондо, любители экзотического чтива!)
Вот сейчас выедаю в корюшке межрёберные мышцы, а вспоминаю лошадиную шкуру.
Собственно, это была шкура жеребёнка.
Пошёл я как-то напрямки, через огороды и лопухи к кладбищу – на озеро. Что там мне надо было, не помню. Перешёл пересохшую протоку, заросшую ивняком, и услышал гудение – рой мух, и увидел лошадиную жеребячью голову, и шкуру, и требуху. Про запах уж молчу! И развернулся круто и побёг за лопатой. Господи! Суки, суки, суки! Твари! Сожрали дядипашиного жеребёнка и даже не присыпали землёй. Понапились, гады! Последнего анивского коника съели.
Конюшню разбомбили, установка АВМ (агрегат витаминной муки) ещё стояла, но уже была обречена.
Вот так русские всерьёз взялись за собственную страну и не должны были остановиться, пока не ломанут до основания. Юрист из исполкома Чичуйкин не советовал брать землю – всё равно отнимем, говорит, перестройка, дескать, ненадолго… А пока вот вам трактора – дуйте на все четыре…
Более безответственных людей на земле, чем русские коммунисты, начиная с 80-х годов ХIХ столетия, нет. Прос…ть такую страну!
Может быть, только пациенты психбольниц?
– У нас нет денег на ваши коровники! И всё тут.
Это всё из-за Чехова! У нас на Сахалине уже сто лет всё – из-за Чехова…
Ну ладно, Цусима, ну не повезло, но зачем было коровники ломать!
* * *Пришла мне мысль искупаться, пошёл я по дороге к морю, а нога, как у того полуслепого старика, что собирал по берегу морскую капусту, нога-то хромая. Сын впереди «ходулями» меряет землю, а я за ним ковыляю, и он останавливается, поджидает. И всё же опять уходит вперёд. У сына длинные ноги. К Кубанцу движемся.
Искупавшись и выходя из воды, порезал ногу (горлышко бутылки). Сел на корягу, зажал ранку, жду, когда Юра мне бинта и йоду из своей автоаптечки принесёт. Сижу, думаю, когда же наша русская срань-пьянь поймёт, наконец, что нехорошо бить бутылки на пляже. (Вот контрасты: громадные небо и море, голая жопа китайца и моя резаная нога в песке.) Обнажённый китаец разложил раковины сердцевидки по стволу выброшенной морем ивы, лёгкое касание, тонкое равновесие – двояковыпуклая линза на отполированном цилиндре ствола, влажный блеск. Китаец раздувает костерок, кладёт ракушки в огонь и удовлетворённо ждёт, сидя на корточках и олицетворяя своими ягодицами некую древнейшую гармонию – алчущего человека и съедобного мира. Мне передаётся его настроение ожидания, я, зажавши рукой порез, наблюдаю, как раскрываются в жару раковины, закипает морская влага, источается аромат поджариваемой плоти моллюска. Китаец жестом предлагает попробовать лакомства, сам, радостно улыбаясь, пальцами выковыривает мясо сердцевидки, кладёт его в рот и жуёт. Я отказываюсь есть, но прошу разрешения сделать с него снимок… и делаю.
Детство моё прошло на этом берегу. Гребешки, крабы-волосатики, чилимы – уйма мелкоты-разнорыбицы: камбалёшка, вьюны, верхогляды… После шторма нам не приходилось всё это ловить: в морской траве, в капусте, которая громадными зелёно-коричневыми валами лежала на многокилометровых пляжах залива, вся эта живность долго сохранялась живьём, и мы, вооружённые жестяными банками и мешками, собирали свою добычу, чтобы тут же на костре её приготовить и съесть. Сердцевидку надо было всё же потрудиться добыть…
…В несколько дней кожа на руках моих потемнела от августовского жаркого солнца, тихого зноя, белые волосы на запястьях и предплечьях образовали старческую опушку, и не нужно теперь смотреться в зеркало, чтобы удостовериться – ты старик.
Однако, как шутили в детстве мужики, старик-то я старик, но у меня ещё стоит… на столе бутылочка, на, попробуй, милочка!
* * *Ночь на 11.12.15. Публичный дом на Сахалине. Рябиновый проспект, 12, в Толстоберёзовске – сбылась мечта мадам Муковозчик и прогрессивного человечества – рухнула, пала нелепая советская власть, которую я как любил! – вынесли вперёд ногами из райкомов партии членов капеэсэс, и внесли их в банки и рынки, конторы и базары, и закрыли таки кондитерско-парикмахерское ПТУ (но не ликвидировали) – в общаге открыли бордель, девиц оставили тут же работать и жить, а редких пацанов-кондитеров устроили в подсобники: лохани таскать….
И привёл меня Витя Ли, дружок мой закадычный, просветитель мой, в этот Дом разврата и терпимости, и сели мы с ним на скамеечку перед входом перекурить и пообвыкнуться. Фасад изукрашен пречудно лепнинами и фонариками, сияет золотом, аки иконостас в новом храме. Из окон лики и личики на нас глядят – девчушки-пэтэушницы, а иные и погрудно, полокотно и допоясно выставляются. Мордашки милые, глазки кроткие и сисечки наружу – как есть ангелы, и много их, рядами расположены. Верхний ряд – личики, ниже – по грудки видны, ещё ниже – на подоконных рамках ручки локотками вперёд глядят, а на первом этаже уже и фигуристо смотрятся. Руки в боки, глазки по-кобыльи расставлены, косят, заманивают… Упасть, пропасть велят.
Я Вите говорю: войдём в дом – помолиться хочу. Витька что-то молчит, хмыкает – сомневается, нехристь, я поворотился, глядь – а его и нет. Вдруг Витя исчез. Кругом гляжу – как не бывало. Ах, бестия, испытует меня! Всё же вошёл я в приделы ихние. На ступенях коврики, лица родные девчонок-простушек увидел, и не сексу мне захотелось, а детей от всех от них. Чтобы от детей, как от подсолнухов, светом сияло.
Да какие-то тени во глубинах коридорных – тревожат сердце. Не то что боязно, а как-то холодно, ледяно, и чую, не будет тут детей, разве что выблядки.
• Тут надо вам сказать, что я не люблю толковать про сны, чего-то объяснять(мне легче человека обнимать, чем символы угадывать в сновидениях), Фрейда не больно почитаю, у него там про болячки чужие, а это скучно слушать. Для меня сны, как стихи и сказки, – чистая поэзия, то есть не обработанная и не препарированная в интересах следствия действительность.
Однако вышел я растерянный на двор, куда идти – не знаю. Дорога вправо вниз уходит к лону вод, а влево – в лесистую гору подымается. Глянул я вниз, вижу, человек бежит мне навстречу, за ним толпа гонится, крики слышу: держи, лови ворюгу!
Стал я в позу ловца, сейчас, мол, ребята, пособлю. Ножку подставлю, словлю вора…
Да не тут-то было! Он востёр оказался, не добежал до меня метров с пять, как сиганёт-прыганёт вверх, и пролетел у меня над головой, как ниндзя, и приземлился на обе ноги, и дальше в гору попёр, не задохнулся. Я уж за ним не погнался, где мне за таким прытким поспеть.
Набежал народ снизу, уморённый погоней, пожилые бабы да мужиков несколько. Стали мне суть дела объяснять. Тяжко дышат, захлёбываются.
Ловят они какого-то своего обидчика беглеца – директора не директора, а стороннего, властями даденного выморочного управителя.
Завод у них какой-то чудной, то ли литейно-, то ли ликё- ро-паточный. Патоку выплавляют, по России рассылают и денег ждут. Народ с патоки добрый делается, по себе знаю, и денег у них должно бы немало скопиться, а зарплаты у работяг почему-то с гулькин нос, да и тот не регулярно выдают. Вот и гоняются они за этой директорией воровской.
• Прояснилось в 2008 году 22 декабря. Дело было в Липетьской области. Там за угон зарплаты взят был таки под стражу этот зверь – Димка Трубачёв, то есть руководитель предприятия, не выплачивавший зарплату работникам, а может, даже и сотрудникам. Он пустился от зарплаты в бега. Стартовал в начале 2008 года, а я узрел это дело ещё 11 декабря 2005 года. По статье 145 Уголовного кодекса часть ему полагалась 1-я, два года тюрьмы, и он даже начал было каяться, да вдруг исчез из города Липетьского и оказался в Луховицах московскиих. (Что мне нравится в газетах, так это голая правда, которую я зрю во снах, никаких иносказаний. Только яркие былинные образы.)
Тут показывают мне запыханные бедолаги образцы продукции ихнего завода: патоку и крэмы – сливочные и ванильные. Такие вкусные, что тошно, а жрёшь. Покушал и я.
Как всем известно, я начисто лишён рвотного рефлекса, чего и как бы ни объелся – стерплю, а тут затошнило. Плохо мне стало. Бросил я бегунов-гонщиков и пошёл искать, к чему прислониться, где облегчиться. Припал к забору, наклонился и стал блевать очками, пластмассовой очковою оправой, давлюсь и задыхаюсь. Господи! Всё нутро жёстко забито, руками помогаю себе, из горла очки выдираю, еле выдержал – это ж вам не роды, похуже всё-таки. Но полегчало, и огляделся я вокруг.
Ладно, думаю, слава Богу, отошёл я, отдышался, отпёрхался. И…
И увидел дом знакомый, как в старину в Аниве был. Вошёл в дом дощатый, засыпной, в кухне – брат мой покойный Анатолий, на обед пришёл, сидит борщ ест и на меня смотрит, ждёт, что я ему скажу, а я ему говорю:
– Толька, я летать научился!
Он через газету: брось х…ню пороть, не мальчик уж.
Я обиделся (мне на тот момент аккурат 60 годков стукнуло).
– Сейчас покажу, – кричу. И взлетаю потихоньку к самому потолку, в угол между стенкой и потолком спиной припарковался – во, кричу, гляди.
Он мне: ты да и впрямь придурок, руками-то не держись, так каждый может.
Я, обиженный вусмерть, руки развожу, доказать пытаюсь, что по-честному всё, потом спустился вниз и сел на стул. Стал Тольке свои сны про летания рассказывать, чтобы он поверил, что всё чистая правда. По глазам его вижу – не верит, но не спорит со мной, как с сумасшедшим.
Из соседней комнаты мама вышла, я к ней: мам, Толька вот не верит, скажи ему – ты ж видела не раз, как я летал.
Она мне: видела, видела, сынок, правда это. И по головке моей плешивой меня погладила.
Я торжествующе на Тольку смотрю, а он на меня как на больного. Тут я в ужасе подумал – неужели мне всё это только снится, и никаких полётов не было вовсе, просто я чокнулся. Ведь говорили мне братья, что я косой родился, что меня японский шпион сглазил, когда маманя мною беременна была, я вообще не могу на белый свет нормально смотреть. Боже, Боже мой! Вся моя жизнь, выходит, насмарку, всё, что было – не было, всё миф, блеф, дурь собачья… Ну никакого реализма! Одна тёмная и дурная бесконечность вроде беличьего колеса. И какой же из всего этого вывод надо сделать?
Жизнь – блевотина, мир – бардак, а меня, может, совсем не было? Но ведь братья – были, мамка, папка – были, да много ещё чего есть. Вон их сколько, за мехдвором упокоились. Сестра живая, любимая в Москве теперь ещё живёт. Вот кот – на «клаве» лежит. Он, гадёныш, как только у меня мысль пойдёт и только я за стол, так и он на стол.
Да я в тымовском загсе собственными глазами документ видел, что я родился у мамы «пятым живорождённым», и все предыдущие живы были! Куда живее – старшие братаны уже водку пробовали, а батя четвёртый раз с войны вернулся и с тех пор не просыхал.
…И вспомнил я: в такой же день, 11 декабря 1979 года, брат мой Анатолий и умер. 26 лет прошло. В эти-то тёмные ночи и началась афганская бойня. Блевотина на Руси стала кровавой, праздник жизни переместился на кладбище. На мольберте у меня стояло «Приготовление к погребальному обряду» – моя первая картина, но всё ещё я воспринимал жизнь как хохму с переплясом…
* * *В Аниве я застрял на всю зиму.
И полгода не прошло, как Толька умер, а я его сразу во сне узрел. Гулял к озеру и завернул на могилки, снег только-только сошёл, венки ещё сырые и яркие были. Выруливаю меж оградок к нашим, глядь, а у черёмухи, у батиного памятника, Анатолий стоит, глубоко дышит, радостно смотрит на меня и знаками спрашивает – нет ли закурить. Я подхожу, обнимаю его через железки, как ты, дескать, тут – привыкаешь? А он хмыкает раздражённо: какой х…, привыкаешь! Жрать всё время охота и курить! Ты принёс чего-нибудь пожевать?